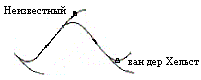
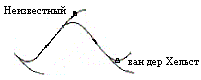
С. Воложин
Неизвестный, Костанди, Шишкин, Куинджи, Кустодиев,
ван дер Хельст, Репин, Фантен-Латур.
Художественный смысл.
| Наслаждение – открыть художественный смысл целого произведения в любом его элементе и говорить об этом, а не – вообще о творчестве или конкретно - о биографии или общественном признании художника. |
Шестая интернет-часть книги “Записки благодарного зрителя”
КАПЛЯ ДЕГТЯ В БОЧКУ МЕДА
(Запись в книгу отзывов на выставке нескольких
скульптур Э.Неизвестного и массы фотографий с его работ)
О д е с с а. 1 9 9 1 г.
"Отбой". Противогаз, что ли, сдирает с лица человек. А
известно: в противогазе нельзя долго жить. Да и жизнь в нем - не жизнь, а какая-то малая доля жизни. Не только отдирающие пальцы, но и рот помогает освободиться. Уже открылся тот краешек рта, что уже не под маской. И уже свободный глаз смотрит прочь от маски. Прочь! И то, что маска - не очень понятно, что она - противогаз - хорошо. Потому что мало ли что нас душит в жизни. Выражение лица, открывающейся части лица - страдание. И нужно, видимо, очень ненавидеть страдание как таковое, чтоб с такой ненавистью его изображать. И почувствовав - где-то между лопатками - омерзение (едва не передернул плечами, разглядывая), я хочу думать, что Вы, Художник, именно к страданию хотели возбудить мое чувство гадливости.Но, увы, "Отбой" оказался единственной вещью, открывшейся мне, открывшейся не только чувству, но и уму. А ко всему
остальному, уму не открывшемуся, какое-то омерзение все же присутствует. И это очень прискорбно. Потому что омерзение (если не притворяться) переносится на художника, навеявшего это омерзение, а не на ту идею (я не стесняюсь этого немодного слова), которую художник хотел, чтоб я, зритель, отверг.А идея это, знаете, дело достаточно конкретное. В "Отбое" я вижу задыхающегося и способен вчувствоваться. И если
я в другие вещи не смог "войти", не смог вчувствоваться, то мне должен был помочь экскурсовод.Однако, тот занимается на 95% Вашей биографией и лишь на
0,5% - творением, перед которым он держит публику и по поводу которого "говорит".Сказали, что Вам пересылают книги отзывов. Вы мужественный человек и поверите мне: слишком много притворства в этой
книге написано.Я не призываю Вас снисходить до нашего, массового, уровня и корректировать свои творческие порывы на нашу непонятливость. Но экскурсовод мог бы быть менее деликатным к нам,
и если уж взялся говорить о произведении, то не 0,5% слов уделив ему. Пусть (извините за цифирь) не менее 10 элементов произведения по каждой скульптуре или витражу объяснит с точки зрения художественного смысла данной конкретной вещи.Тогда я уйду с выставки не с чувством, что я недоумок, и
не с омерзением непонятно к чему, возможно, к автору.Самодеятельный горе-критик - С. Воложин
14.08.91г.
О С Е Н Ь Ю 1 9 9 1 Г О Д А
Какой-то "Дягилев-центр" решил облагодетельствовать
одесситов: первое воскресенье каждого месяца посещение музеев - бесплатное. Как не воспользоваться, если зарплата - стоит, а цены вокруг, в том числе и на билеты в музеи,- скачут; да и соскучился я по пустынному паркету залов музея на Короленко. Правда, вряд ли что всколыхнет очерствевшую душу. Но уж вода Айвазовского гарантированно будет отменно прозрачная и живая - так что не хуже будет, чем прогулка к морю.И я пошел.
И во многом ошибся.
Во-первых, совсем не пустынны оказались залы: на дармовщину многие клюнули. Во-вторых, меня Айвазовский сумел вдруг
удивить, только не водой, а светом. Есть у него довольно большое полотно с гурзуфскими скалами, полной луной, лунной дорожкой и Пушкиным, легшим животом на камень. А лицо Пушкина освещено двойным светом: лунным, холодным - справа и чем-то красноватым, наверно, невидимым в рамках картины костром,- слева.Отошел Александр Сергеевич от костра и задумался и загляделся, сняв шляпу, на лунное сияние в воздухе и море. Молодой он еще был тогда, в южной ссылке, романтик. Вот и отошел от костра с ухой или шашлыком, или, по крайней мере,
теплом. И так слаб свет от того костра, что кроме как на лице и чуть-чуть на накидке - лишь еле-еле угадывается отблеск теплого на ближайшем холодном высоком камне за и над Пушкиным.Айвазовский не поддался на соблазн решать благородную
задачу: передать игру искусственного и естественного света.Поразительное чувство меры ради, пожалуй, идеи. "Романтизм" - можно переназвать картину.
Это я рассказал о "во-первых" и "во-вторых". А было и
"в-третьих". Тяжелое все-таки чувство от недейственности работ известнейших художников.Помню, двадцатилетним первый раз я пришел в этот музей.
И как же меня разволновала "Сирень" Костанди!Предвечернее солнце освещает монастырские церкви, ворота, стену, пышно расцветшую перед стеной сирень и молодого
монаха на скамейке перед сиренью, схватившегося за голову в горестной думе. "Молодость проходит!.. Правильно ли я сделал, что отошел от мирской жизни?"- надо думать, мысленно, в тысячный раз, мучил себя монах.И моя юность проходила бесполезно, ибо что ж это за
юность была у меня - без любви, без женщины. Я был довольно невзрачен, но еще более - робок. И совершенно отстал на этом юношеском поприще от сверстников. И как крыловская лиса с виноградом - заказал себе идеал: настоящую любовь, примера которой я ни у кого вокруг не видел. - Чем не уход в своеобразный монастырь?Конечно, меня разволновал Костанди тогда.
Сейчас же что? Я удовольствовался в жизни малым и успокоился. И мне с руки стало отказываться от жизни, так сказать, во имя, если не высших интересов, то спокойствия. И
меня, жаль, но не волновала другая вещь - "Вечер" - того же Костанди на ту же тему на том же материале и, опять же, вроде, про нынешнего меня.Немолодой уже монах на скамейке. Сел он как попало. Попало - спиной к заходящему солнцу, лицом - к забору, очень
низкому, правда. Так что взгляду - просторно.Человек устал: из лейки сад поливал. Сад большой. Поливал, вроде, один: больше никого не видно. Апатия монаха на
холсте - апатия у меня перед холстом...Но что жаль - не действует третья вещь из этого монастырского как бы цикла (все одни и те же купола и башни на
всех трех картинах, хоть и с разных точек зрения; странно, что их рядом не повесили). Третья вещь - "Весна". И такая же там радостно кричащая - после зимней спячки - молодая природа, молодая трава, молодые деревца, едва не вибрируя тянущиеся вверх, к солнцу... И такой контраст с опирающимся на посох тащащимся по дорожке древним стариком-монахом, судя по особой одежде, "дослужившимся", видно, до какого-то высокого монастырского чина...И лишь уйдя уже из музея и все размышляя, что же меня
все-таки зацепило в этой "Весне", я вдруг открыл (а это значит, что ошибся-таки я: пронял меня и на этот раз музей на Короленко),- я открыл, что не зря Костанди придал согбенную в радикулите осанку "дослужившемуся" старцу.Житейская мудрость что говорит? Молодости - женщины,
зрелости - деньги, старости - бог. А этой осанкой старца Костанди как бы спорит: "Не бог доминанта переживаний этой старости, всю жизнь посвятившей богу. Не бог, а хворь".- Так зачем же было себе всю жизнь портить?! - А незачем, судя по буйству растений, противопоставленному в землю
глядящему старцу.И это, по-иному "сказанное" то же, что и прежде, постигнутое с трудом, через душевную работу - волнует. Я по-прежнему не готов перед вызовом Костанди...
::::::::::::::::::::::::::::::::
Думаю, что я имею право и даже обязанность исповедоваться по поводу рассказов о художественных произведениях.
Ведь что такое искусство? Это непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества. Выделите в этом определении "сокровенное мироотношение". Так если я взялся открывать перед моим читателем художественный смысл того или иного произведения - как же я могу скрыть от него, как на меня оно действует?Я не бесстыден - я обречен.
06.10.91 г.
КИЕВ. ГОД ТОМУ НАЗАД. 1991-Й
Год тому назад, больше, я открыл для себя шишкинский зал
в киевском музее русского искусства.Был февраль, слякоть. Я, командировочный, простуженный,
вынужден был в выходной день покинуть гостиницу, ибо ни в ней, ни возле негде было пообедать. А если уж ехать, то в центр. И если уж оказался я в кои веки в Киеве, да еще в центре, то как не зайти в музей, раз, к тому же, я оторвался от неотвязных мыслей о необычной для меня служебной задаче (я даже литературу захватил в командировку в надежде вычитать нечто полезное). Как же хоть в выходной не зайти в музей.Начало экспозиции там было отдано салонной живописи рубежа XIX - ХХ веков. Это, конечно же, искусство на всемирно-исторической идейно-художественной Синусоиде расположу я на
самом нижнем спуске. Искусство удовлетворенных и для удовлетворенных. "Да здравствует настоящее!"- лозунг такого искусства, какие бы сюжеты ни были изображены на холстах.Авторов не помню, потому что не были они на слуху при
советской власти. Помню одну большую картину: Юлия, дочь императора Августа, сосланная на остров за беспутное поведение.Время Августа было началом заката Римской империи. Аристократическая молодежь уклонялась от военной службы, от государственной деятельности, а отдавалась лишь удовольствиям.
Аристократические семьи чахли. Все меньше было желающих вступить в брак, как мужчин, так и женщин. Обходились любовным партнерством, куртизанками или рабынями. Женщины имели право на развод и все меньше занимались детьми и домашним хозяйством, все чаще интересовались общественными делами, литературой, спортом. Они имели право присутствовать на пирах, могли - часто с согласия мужей - иметь любовников из богатых молодых людей. Семейная жизнь не привлекала их, как раньше. Они стали противиться бракам. Семьи стали малодетными.Прозорливые люди понимали, что правящий класс в таких
условиях долго не сможет править. Редкие патриоты, пуритане и завистники и в первую очередь жена Августа побудили его добиться принятия трех законов: о браке, о прелюбодеянии и о роскоши. Они обязывали римлян и римлянок вступать в брак, строго наказывали за супружеские измены жен и запрещали носить слишком шикарные одежды, задавать великолепные пиры, строить дорогие особняки.Однако законы Августа оказались не слишком действенными.
И первой среди нарушителей была первая женщина государства, дочь Августа Юлия, молодая, красивая, выданная замуж за почти старика, к которому она не питала ни любви, ни дружбы, ни уважения. В Риме она стала чуть не главой партии оппозиционеров, а на Востоке, куда она ездила вслед за мужем в его походы,- на сладострастном Востоке ее обожествляли, даже статуи ставили в честь "новой Афродиты".Все это кончилось для Юлии ссылкой.
И вот я стоял в музее перед огромным полотном с изображенной на нем шикарно одетой, но грустной ссыльной Юлией и
нисколечко не сопереживал. И всяческим другим картинам - тоже: римским оргиям, испанским танцам и т. п. От всегдашней мизерности своих возможностей я никогда в практическом плане не мечтал об удовольствиях: красивых, умных и страстных любовницах, об изысканной еде и питье, о богатой жизни. И я не смог вдохновиться идеалом салонной живописи рубежа веков.Зато что со мной случилось в шишкинском зале!
Огромные полотна, с молодости знакомые по репродукциям,
буквально до слез меня тронули. Такая торжественная природа сияла с них... И настолько в натуральную величину были передние планы, что, казалось, можно войти в этот лес, переступить этот ручей, шагнуть на этот песок, задеть ногой эту траву. А художник, к тому ж, выбирал для изображения совсем не необычные виды, а, наоборот, куски окружающего были проще простого. Но, правда, чисто природные куски: отъедь от любого города - и наткнешься на такое же. (Ну, сейчас, через сто лет после Шишкина, трудновато найти неизгаженные человеком ландшафты, но еще можно, можно.) Все это доступно, достижимо! И какое счастье от этой спокойной вечной непрерывающейся естественной жизни.Особенно меня поразило огромное незнакомое полотно - в
летний солнечный полдень на песчаном откосе. Кажется, песок сейчас захрустит под ногами неспешно переступающего крестьянина. Он вытащит погрузившуюся по щиколотку ногу, и песок посыплется в оставшуюся ямку и мимо - под откос.Февраль, слякоть, а тут зной льется с неба, и этот сверкающий песок.
Я позавидовал Шишкину: насколько мудр оказался этот художник, что через сто лет сумел вызвать слезы возможного
счастья у одного жалкого человечка. И еще сотни лет будет радовать людей: найдутся такие.Я не смог проанализировать, какими элементами картин он
этого добился. И если все же решился написать о своем общем впечатлении, то потому, что чуть было - забыв о Шишкине в Киеве - не стал рассуждать, мол, на нижних, изобразительных скатах Синусоиды искусств, из-за недостатка выразительности сама художественность, мол, ущербна. Вкусное изображается вкусным, противочувствия почти нет и возвышения чувств - тоже. Голландский натюрморт XVII века слезу, мол, не выжмет.А голландский достаток давался кровью и потом - в войне
за независимость от грабительницы-Испании и в борьбе за землю - с Северным морем.А гедонистам времен Августа Октавиана блаженства давались в борьбе с законом. Даже ненасытную жажду вкусовых удовольствий на римских оргиях можно было удовлетворить не без
неприятности: чтоб опустошить желудок для новых яств и возлияний, римлянам приходилось два пальца в рот и...И надо было здорово приуныть от простуды, бессонницы,
бескормицы, безденежья и вообще от неопределенности будущего в видах реставрации дикого капитализма, чтобы расчувствоваться перед Шишкиным, мол, убеждающим, что счастье так близко, так возможно.27.04.92 г.
С. ПЕРЕРБУРГ. РОЖДЕСТВО 1993 Г.
География моих отчетов должна сузиться. Распалась страна, хозяйство.
Может, в последний раз я был в командировке в Ленинграде (уже С. Петербурге). Я, впрочем, и прежде туда редко ездил.
...Троллейбус по пути с окраины в центр вынырнул на набережную Невы где-то у Охтинского моста. Река с Дворцовой
набережной как-то примелькалась и не чувствуется, насколько она могуча. То на ростральные колонны обратишь внимание, то на Петропавловскую крепость и т.д. А здесь - непримечательные громады домов высились на другом берегу. И - смотреть хочется исключительно на реку. А она бушует. Ветер вздымает волны против течения. А течение гонит к морю. Как бы две стихии борются. Как бы образ самой могучей России, бушующей и неукротимой,- в этой Неве.Поразительная страна. Поразительная культура. "Как черная дыра,- говорил один умница,- она втягивает в себя окружающее и превращает в свое"
.Могла ли русской культуре противостоять украинская в
рамках царской, а затем советской империи? Не могла, думаю. Прав был один корреспондент "Известий", когда он, переведенный из "восставшей" Литвы в Украину, сделал выводы из своей прибалтийской неуживчивости с националистами и стал их в чем-то понимать, прав - 400 лет Россия неспеша переваривала Украину.Вот эта мысль корреспондента после посещения С.Петербурга все возникала у меня, когда я вспоминал огромную выставку
Куинджи в Русском музее.Куинджи любил рисовать Украину... Он, может, выходец оттуда. Но он, наверно, и не заметил, что превращает Украину в
Россию.Ведь Россия - это могущество, широта, если двумя словами. Волга очень хорошо ее выражает.
Я видел Главный Кавказский хребет с Эльбруса. Так вид на
слияние Оки и Волги с высокого берега - колоссальнее. Я это слияние рассматривал зимой, горизонта в легком морозном тумане не видно было. И - это сама бесконечность начиналась под ногами и уходила в небо.Вот таким же абсолютом выглядит у Куинджи "Днепр утром" (1881г.), двухметровая в ширину и полутораметровая в
высоту картина.Клевер, кашка, репейник, бабочка-капустница, еще одна
бабочка - коричневая в павлиньих глазках. Тысячи репейников на склоне. И под горою. И до горизонта. И больше ничего. Степь. Да Днепр внизу... с крошечным пароходиком... и дымком над ним. Да одинокая птица, перелетающая реку. Пустые берега... Нет! Полные. Чем? Потенцией?.. Да нет - счастьем, счастьем острого чувства родины. Вот почему так сияет небо, затянутое тонкой белой облачностью. Ро-ди-на!И то же - в "Чумацком тракте в Мариуполе" (1875 г.) на
таком же огромном холсте. То же сияющее небо, хоть дождь. И совершенно невзрачная природа - грязь непролазная, лужи по колено, только волы и могут тащить эти повозки, только мужики и способны вытягивать из грязи ноги и двигаться и двигаться неутомимо, вопреки всему.Это еще от Саврасова пошло - писать низменнейшее, клочек
земли или болото и в нем... Хочется написать: "высочайшее". Но лучше - "Нет слов". Это - любовь.Соответственно - ни одного мазка кистью не заметишь на
этих огромных полотнах. Только обожая можно так вырисовывать.И вот такую любовь-поглощение Украина теперь отвергла.
А что, если еще Куинджи стал все-таки нащупывать особенность Украины?
Когда слушаешь теперь украинских патриотов, обращаешь
внимание, что они без обиняков любуются своей землей. Может, она и вправду в общем благодатнее, чем русская?"Ночное" (1905-1908 гг.). Два метра потухающего неба без
намека на мазки масляной краски с плавным переходом от темно-сине-зеленого до чуть розовой зари. И рог месяца в центре картины. И это опять над Днепром. И неоглядные дали... И кораблик внизу...Но только здесь не мощь, а колдовская чарующая прелесть.
Всеобъемлющая.А знаменитая "Лунная ночь над Днепром" (1880 г.). То,
про которую думали, что подсвечивает художник этот холст сзади. Чудо-картина. Чудо-природа. Нега и теплота веет от черноты ее ночи и, казалось бы, холодного фосфорического сияния луны и лунного блеска реки.Как-то без всякого противоречия, хоть и банально, но
входит в душу: красота вызывает любовь. И цепенеешь.Кроме гладкописи, простоты объектов изображения и современности этих объектов художнику есть еще два немаловажных
элемента перечисленных картин, которые объединяют все эти произведения: большие размеры полотен и... казалось бы, различие, но нет - сходство - большой промежуток, охватываемый временем их создания (1875 - 1908 гг.). Перед нами эпические полотна, перед нами образ страны, не меньше, в чем-то не менявшейся все это время. В чем-то...Нет ли у появления у Куинджи эпической тенденции той же
причины, что привела и литературу XIX века в России к эпичности?"
На протяжении всего XIX века в России оставался всеобщим и ключевым крестьянский вопрос: от его решения зависела историческая жизнь нации, дальнейшая ее судьба". (Поражение в крымской войне, в японской, угроза превращения - из-за отсталости - в полуколонию.) Не решили этого проклятого вопроса ни отмена крепостничества в 1861 году, ни хождение интеллигенции в народ в 70-х годах, ни революция 1905 года. В результате "в противоположность аналитическому изображению общества у западноевропейских мастеров реализма в русской литературе утвердился эпический принцип изображения "судьбы человеческой" и "судьбы народной" в их единстве и исторической взаимосвязанности". А что - изобразительно-живописно - больше всего пригодно для выражения этих "единства и исторической взаимозависимости" всех в стране? - Земля и небо. И причем на полотне эпических размеров.Так что можно сказать, что похожесть Украины и России у
Куинджи кроется не в подминании одной другою, а в общей исторической судьбе. Это наднациональная общность. Не исключающая - как факт (в последних двух упомянутых картинах из четырех) - национального своеобразия при похожей мощи и широте.Ну, а как же,- скажете,- с отсутствием минора: как-никак, а нерешенный же крестьянский вопрос вел к эпичности в
выражении (изображением) судьбы страны. Ответ есть: решение предчувствовалось. В будущем. Скором. Все это время предчувствовалось как-то. В эпопее Толстого - путем единения с крестьянством близкого к народу дворянства. В живописных эпических лесных пейзажах Шишкина - может, путем славянофильской надежды на особую историческую судьбу России, особую - из-за общинных традиций крестьянства. В эпических полотнах Куинджи, может, похожая надежда таится, наверно, эволюционная (раз не реагировал художник на поражения ни хождений в народ, ни революции): не катаньем, так мытьем - а народ свое возьмет... Что-то было за душой у Куинджи, что делало его, можно сказать, романтическим реалистом, историческим оптимистом.*
В тот раз Русский музей открыл мне Кустодиева по-настоящему, а не как в прошлый - неким мягко неприемлющим действительность маньеристом эпохи революции, стремящейся удовлетворить низкие потребности толпы: хлеба и зрелищ. В этот
раз Кустодиев показался мне художником стиля типа барокко, приверженным некой гармонии высокого и низкого."Портрет Р.
И. Нотгафт"... Гладкая кожа, оригинальное лицо, роскошные хризантемы на заднем плане, роскошное кресло, роскошное бархатное платье. 1914 год. Тогда,- если это уже после начала мировой войны,- было достаточно очень богатых людей, которым нечего было стесняться из-за того, что кто-то терпел невзгоды военного времени. Если это до войны - тем паче."Утро". 1904 год. Мать купает дитя. Хоть сама, но это -
в очень зажиточной семье, где можно было поручить и служанке. Мать купает из удовольствия. Этот блеск на солнце мокрого детского тельца, воды в тазу - прелесть. И опять роскошные хризантемы. И то, что этой идиллии не касается русско-японская война - не удивительно: было достаточно, кого она не касалась."Сирень". 1906 год. Добротная дача; резная изгородь; все
та же женщина (с той же прической, что в "Утре") и почти не подросшее все то же дитя у нее на руках (опять - ради удовольствия самой с ним носиться) в чудно-изысканной детской одежде - платье с десятками синих волн. И роскошная высоченная неломанная белая и фиолетовая сирень... Мало ли кого не коснулась передряга революции 1905-1906 годов. Все нормально...И то же в "Портрете искусствоведа и реставратора Анисимова", 1915 года. Это портрет явно неравнодушного человека
на фоне церкви и природы глухого уголка России. Россия велика, и не всех и все трясет мировая война.Но в 1917 трясло уже всех. "Балаганы" - это насмешка над
"раем немедленно", который рванулись было в скором будущем в России сделать.Трескучий мороз, роскошный иней на огромных березах. Целых четыре российских флага над балаганом. Империя трещит -
так вывесить флаги над балаганом.Лица в толпе мелкие. Это "оправдывает" их небрежное
изображение. В портрете Анисимова как бы ни далеки были деревья и монастырские башни - их Кустодиев рисовал уважительно-подробно. Здесь - нет. У клоуна действительно могут быть чудовищные черные брови. Но настолько?.. Он бьет в большой турецкий барабан и медные тарелки. Этого наполовину достаточно, чтоб зазвать в "ТЕАТРЪ"? Еще джентльмен во фраке и цилиндре закликает. Безликая толпа, как стадо баранов, - слушает. Приехали и богачи на санях-розвальнях. С роскошными пологами, с цветастыми гобеленами на задках саней. Это так, наверно, богатство представляет себе голытьба.А бедных здесь нет. Парень с синим шарфом, опрятный, с
гармонью, в сапогах - это разве тот, кто делает и сделает революцию? Ямщики, привезшие бар,- тоже нет... Если в рушащейся Римской империи хлеба и зрелищ нужно было плебею, то здесь это нужно довольным жизнью людям и нужно не бесплатно. И потребное - обеспечено. Балаган... Колбасы валом лежат на лотке - обжирайся... И нажрутся. Силачи нарисованы на плакатах - и они удовлетворят. Расписные карусели... Все - "шик", "блеск", "благодать" - как это представляется народу, катящемуся в революцию, которая ведь не из ничего же произошла. А - из желания хорошей, но все же низменной (по Кустодиеву) жизни.Это тонкая такая усмешка сквозит у художника.
И, вернувшись домой и посмотрев в книжку с репродукциями
Кустодиева, я заподозрил, что и после революции Кустодиев тонко усмехался над зрелищами для народа, в устройстве которых, пишут, сам принимал участие.Некоторые считают, что пресловутое массовое искусство
начали пользовать с Великой Французской революции. В докладных записках знаменитого Давида Конвенту изложены подробные проекты празднеств: "Национальный Конвент, предшествуемый громкозвучной музыкой, показывается народу; председатель появляется на трибуне, воздвигнутой в центре амфитеатра; он призывает народ воздать почести создателю природы. Он говорит: народ должен огласить воздух криками радости".Вот и Кустодиев... Октябрьскую революцию принял радостно,- пишут. Во время празднования первой годовщины Октября,
которая отмечалась очень торжественно, для одной из площадей Петрограда сделал семь монументальных панно с изображением рабочих различных профессий.Ну, панно - произведение декоративно-прикладного искусства. А вот в 1921 году он написал два больших полотна -
"Ночной праздник на Неве" и "Праздник в честь Второго конгресса Коминтерна на площади Урицкого"... Это уже не прикладное искусство. И какой он выбрал момент для изображения? - То, что было после организованной части. Бесцельное броуновское движение людей во все стороны. Праздник-то праздник, но вспоминается фильм Сокурова "Салют": пустое возбуждение.Вот и у Кустодиева... Людям, собственно, нечего делать.
Самое крупное лицо - матроса - самое глупое. Самое умное – у интеллигента с усами и бородкой: так этот прямо в толпе стал читать газету "Правда" и выключился из толпы.Картины были заказаны Петроградским Советом, и год был
голодный (1921)... Явно усмехаться Кустодиев не мог. И потом, может, он сам не вполне сознавал, почему он по-разному изображал людей духовно и физически гармоничных (художников, искусствоведов, жену, дочь) и - скажем так - простых.В "Утре" и "Сирени" моделями были жена и дочь. А эта Р.
И. Нотграфт - какая яркая личность. Есть же у него и более яркие индивидуальности и портреты с них - художника Билибина, Грабаря. Посмотришь на эти лица и понимаешь: человек - это звучит гордо. Даже портрет дочери в 1919 году: совсем простушка на лицо, а одухотворена. Есть такой "Портрет Л. Б. Боргман" - пампушка, вроде купчих. Но ни доли иронии или усмешки у художника. Наоборот, модель усмехается и видит вас насквозь и все вокруг на метр вглубь чует. Или "Портрет З. Е. Прошинской" - то, что в полном смысле этих слов - интересная женщина.И наоборот - "Человек с поднятой рукой" (1906 г.) - как
пишут, "образ рабочего, поднявшегося на борьбу с самодержавием" - портрет-не-портрет. Человек выступает перед людьми, имеется в виду. Одну руку поднял до пояса, другую - над головой в сторону. Глаза глядят... в другую сторону и вдаль. Может, он размышляет вслух, но почему размышлять надо с жестикуляцией. Потом, это набросок, пишут. Но почему так одежда выделана художником тщательно? Если же не набросок, то, выдернутый из обстановки, человек смешон.Такая же неуважительная "Первомайская демонстрация у Путиловского завода" (1906 г.). Люди - масса. Эти же заученные
позы с поднятой рукой... Лиц почти не видно. Точка зрения - уничижительно высокая.Написал как-то в 1898 году Горький Волынскому опасение,
что победа "демократизма" может оказаться "победой не Христа, как думают иные, а брюха". Вот подобную мысль в большинстве своих работ и выражал, может, сам не вполне сознавая, Кустодиев, когда обращался к (не своему) народному идеалу "хорошей жизни" и идеалу революционеров, эту "хорошую жизнь" желающих создать.Кустодиев был не как символисты, залетевшие вообще в
сверхбудущее и потому враждовавшие с большевиками, мол, приземлены страдатели за народ. Нет. Кустодиев усмехался на "хорошую жизнь", потому что думал, что имеет более гармоничный идеал хорошей жизни. И не в сверхбудущем, и не в историческом будущем. А в настоящем. Уже.Посмотрите на его "Портрет Ф.И.Шаляпина" (1912 г.). Это
столкновение идеала "слишком многих", толпы и своего идеала.Роскошная зима с тяжелым инеем на гигантских березах и с
кучками народа под ними, разнообразно веселящегося: для них и искусственные горки, и балаганы, и карусели, и катания на санях, запряженных лошадьми, и простые санки, и гармони, и просто удовольствие других посмотреть и себя показать, и поплясать под гармонь этак походя, без претензий на успех, а так, потому что ноги захотели и голова под хмельком. Но... все это на заднем плане и далеко внизу. А на переднем - равновеликий тому, целому народному миру - великий певец, народный барин. Холеный сам, в роскошной шубе, с тростью, с бабочкой под воротником крахмальной рубашки, с крупным перстнем на мизинце и с породистым псом. Это, конечно, интеллигент с тонким развитым вкусом в искусстве, но и, видно, мастак пожить и получать удовольствия не только высшего порядка.Для Кустодиева он - кумир. Для выражения этого художник
применил парадоксальный прием: голову видно как бы снизу, а ноги - сверху. Шаляпин огромен, как его голос, как его талант, да и как умелец жить. Вот где гармоничный размах, ширь, мощь, а не в народце, пусть даже и всем, вместе взятом, сотни которого даже и в лицо не разглядишь.Поскольку начинал я с акцентика, что никакая война,
японская или мировая, никакая революция, проигравшая или победившая, не влияли на идеал художника, я было заподозрил на минуту, а не является ли он все же приверженцем той "хорошей жизни" ограниченных людей, над которой подтрунивает своими купчихами и праздниками на холстах. В каждой шутке, мол, доля правды, и правда та - в низком, чувственном идеале.И чтоб проверить, я пошел в Эрмитаж в зал голландской
живописи - патентованное место, где с величайшей в мире силой выражен, так сказать, низкий идеал.Бартоломеус ван дер Хельст. 1613 - 1670. "Новый рынок в
Амстердаме".Людей довольно много - рынок же. Но пять - очень больших
фигур. Первый план - тачка с: капустой цветной, двумя свеклами, тремя красавицами морковками, с двумя фиолетовыми капустными головами и одной простой, зеленой, с картофелинами - десятка два. Тачка - гигант. Колесо - с две головы. Ось - толщиной с руку. Это бабка накупила овощей и везет домой (на зрителя). Не на продажу ж она три морковки вывезла. Бабка выглядит отлично. Плотная, мясистая, почти без морщин. Жирноватые складки у рта, шеи. Но это ни в коем случае не насмешка. Просто хорошо жила всю жизнь женщина. Холст - два на два метра. Сам размер картины серьезный. Капустные листы, ботва свеклы, моркови вырисованы подробнейшим образом. Удовольствие, наверно, получила бабка от покупки, а художник - от ее удовольствия и смака рисовать это все со смаком.Группа детей слева. Они тоже получают удовольствие: один
надувает шар, другие наблюдают с умеренным интересом. Девочка даже оглянулась на изображающего. Правда, она все равно - хоть и оглянулась - чувствует, как надувается шар, держа руку на нем.Лица крупные. Никакой приблизительности в письме. И никакой сусальности. Умеренность!
Туша свиньи (тут же, на первом плане) свежайшая: кровь
еще стекает с пятачка. Аккуратнейше выпотрошены внутренности. Оставлена, впрочем, печень. Продавать будут, отрезая кусок, какой захочет покупатель. Покупателя пока нет. Продавца тоже не видно.Будет ли обжираловка после посещения базара? Вряд ли.
Умеренность и умеренность. Даже краски неяркие, думаю, не от времени потускнели. Колорит темный, потому что Голландия такая. Ничего не форсировано. Умеренно.На втором плане ряды продавцов. Покупателей, да и продавцов, немного. Во всем умеренность.
Десятки мачт на заднем плане в просвете между домами.
Морская страна. Аккуратнейшие дома с башенками и шатрами. Двухэтажные. Каменные.Даже очень мелкие лица несут на себе попытку проработанности. Ни к чему нет насмешки. Тут вам не кишащие безликие
толпы Кустодиева, готовые на извержение радости.Впрочем, сравнивать надо базар с базаром.
Сравнить, правда, не с чем. Есть у Кустодиева "Ярмарка" (1906 г.). Но ярмарка это уже частично праздник. Ну да
ладно. Учтем и скорректируем.Итак, что мы видим. То же, что творили голландцы, когда
их страна была охвачена освободительной войной за независимость от Испании. Они находили уголки тихой жизни и приватных радостей - ценности, которые переживут все высокие порывы, все освободительные войны и все такое выспреннее. И Кустодиев - в год разгрома революции рисует не наказанных, или наоборот, еще бунтующих крестьян и городских ремесленников, а мирную - больше! - праздничную жизнь: ярмарку, на которую собрались эти крестьяне и ремесленники, плюнув на всякую политику.Одни примериваются к покупке, соответственно, к продаже
грабель или кадушек. Мальчик бросил глаз на игрушки, девочка - на куклы, молодайки принарядились и фланируют, один парень, может, навеселе, на гармони наяривает. Для кого-то ярмарка - хорошее место, сделав покупки, скажем, валенки или отрез полотна, поговорить друг с другом на сурьезную тему.Но... Чувствуется дистанция между этим людом и художником. Перед ним люди другого, низкого сословия. Эти лапти,
портянки, примитивные горошковые платья, стрижка под горшок, бороды лопатой... И никакой значительности в лицах. Да и почти не видно этих лиц. Они или мелкие (далеко) или отвернулись.Вся картина - взгляд человека с идеалом гармоничным на
людей с идеалом низким. Не так, как у Хельста: взгляд равного на равных.Нет тут у Кустодиева насмешки, как в "Масленницах",
"Купчихах" и "Балаганах", но отстраненность все же есть: перед ним таки гармоничные люди, но уровень, на котором они достигли гармонии,- низок. А у Хельста не видно сословной разницы между ним и его героями; он не замечает, что их и его идеал низок. Он для него идеал и, значит, высок.Хорошо сказал Гегель об этом переживании низости как чего-то идеального (когда идеализируют - всегда как бы возносят).<<
Живопись Тенирса и Браувера [нидерландских живописцев XVII века] создает образы повседневности, доходя, как говорит Гегель, "до грубого и пошлого. Но эти сцены кажутся насквозь пронизанными непосредственным весельем и радостью, так что основной сюжет и содержание составляют это веселье и искренность, а не обыденщина, которая только пошла и злонравна. Поэтому перед нами близкие природе [животные тоже близки к природе] черты веселого... в низших слоях населения. В этой беззаботной распущенности как раз и находится идеальный момент... Нам тотчас становится ясным, что характеры могут оказаться чем-то иным, нежели тот облик, в котором они явились нам в данный момент".>>У Хельста, ясно, оказаться кем-то иным могут дети - у
детей все впереди. Но и старуха может оказаться не домохозяйкой на услужении у кого-то, а Grand-muter, Большой матерью, главой клана семейного. В Нидерландах в XVII веке уже капитализм, уже уничтожено сословное общество и каждый может стать кем угодно, если удастся. И это "кем угодно" будет в рамках буржуазного идеала среднего класса.А в России 1906 года сословное общество в значительной
мере осталось. И низшие слои обречены не стать средним классом. Кустодиев - из среднего класса - дистанцируется от низшего, не сливается с ним, не считает его идеал своим, тот - считает низким, а свой - гармоничным. И имеет основание: он - элита среднего класса - художник.Хельст же себя элитой среднего класса не считает. Он
слит с ним. Их идеалы - довольно низкие, т.к. бездуховные - это и его идеалы. Девочка испытывает чувственную радость от ощущения раздувающегося в ее руках шара, и кем бы ни стала в жизни - чувственная радость будет ее максимум. Старушка, может, предвкушает чувственную радость от еды, которую она приготовит из отличных продуктов, что накупила, и кто она ни есть, хозяйка ли зажиточного дома или служанка в нем - чувственная радость это ее максимум. И у художника его максимум - чувственная радость: нарисовать таких, как он, радующихся чувственной радостью, получая чувственную радость, что это ему удается красками. И жена Хельста, и дочка, небось, одеты на такой же манер, как благополучные старушка и девочка с холста. А не как у Кустодиева (в "Сирени") - в нечто, являющееся чуть не вершинным произведением декоративно-прикладного искусства...Скажете, в кустодиевских праздниках в Петрограде нет
отстраненности художника от людей, им изображенных. Так же, как у Хельста... Да, правда, нет дистанции. Зато есть зрелище: бросание листовок с самолетов, фигуры высшего пилотажа, выделываемые летчиками, радованье глаз прожекторами и многоцветьем транспарантов, флагов и плакатов. А это - суррогат, массовое искусство, а не расширение социальной базы высокого искусства, случающееся в результате революций.Кустодиев принимает революцию, но не обманную, ориентированную на победу брюха. Он бы хотел, чтоб аристократами
духа стали все. А видит, что практически уклон не туда. (Как факт, через 70 лет этот уклон привел к поражению дела революции для брюха.)А сравните портреты Кустодиева с портретами Хельста.
Кустодиев вставляет в название портрета фамилию. И что это за фамилия! Всем известный артист Шаляпин. Или обозначает аристократизм духа прибавлением к фамилии слов: "художник", "артист", "искусствовед" - Грабарь, Верейский, Билибин, Ершов, Анисимов. А если к женским портретам таких слов не прибавляет, то характерности (аристократической) в них не меньше, чем в мужских. Личность живописует Кустодиев, нечто гармоничное на высоком уровне, соединяет высокое с низким, соединяя как бы несоединимое: это и физически "вкусные" люди и то, что называется "интересные".А Хельст? - "Мужской портрет"... Уже названием - обезличено. Перед нами воплощение умеренности.
Нет, это довольно богатый человек. Упитанный, щекастый
мужчина сидит в кресле под деревом своего, видно, дома, трехэтажного. Во дворе минипарк с мраморными скульптурами. Правда, они: и дом, и парк - показаны как бы намеком (портрет же). Но все-таки они есть. Для веса. Да и мужчина - он как бы что-то доказал, спокойно предъявив (и руку почти протянул, оставив, впрочем, ее на подлокотнике) аргумент. Хочешь - прими аргумент, если ты человек разумный и солидный. Воплощенная уверенность умеренности. Гармония на низком уровне, представляемом для самого себя и для художника - идеалом, а значит - чем-то приподнятым. (Да над чем?)Или возьмите еще одну картину уверенного в себе, но умеренного (ох, уж эта умеренность) довольства: Геррит Беркхейде (1638 - 1698) "Большая рыночная площадь в Харлеме" - в
том же зале Эрмитажа.Эта филигранная архитектура домов на освещенной стороне
площади одна может привести в восторг. Ведь не столица - городишко. Готическая церковь слева в тени - красоты и стройности не меньшей. А что в ее тени крытые ряды простых лавок - так из-за тени их почти не видно. Людей много, но нет толпы. Площадь почти пуста. У лавок человек тридцать. Фигуры настолько малы, что об их лицах речи нет. Это стаффаж. Но вот слева поближе к нам идет через площадь семья: отец, мать, дочь и собака - так художник уж расстарался. Лица изобразил, хоть они и величиной с четверть маленького мизинца. И - перед нами степенность. Во всем. В позах, в пустоте, в обычном голубом - само спокойствие - небе...Тут ценности, не преходящие в веках, и полностью их разделяет художник. Дистанции между ним и образом автора -
нет. Архитектура - готическая, но одухотворенности не чувствуется. Есть богатая довольная собой ухоженность.Низкий идеал.
А вот - контрастный взгляд на тот же идеал у Кустодиева.
Тоже не столица. "Провинция" (1906 г.). Тоже центральная
городская площадь, гостиный двор с белыми аркадами на нее выходит и... пожарная каланча. Но боже, что это за площадь! Заросла травой, горбата, что за убогие аркады этого приземистого строения. А эта горе-вознесенная "архитектура" каланчи - в низине площади (а ведь нужно б на бугре уж каланчу ставить...). Эта шаржировано плоская лошаденка с подводой у гостиного двора. Эти убогие фонари на площади - будто Кустодиев разучился рисовать. И, наконец, у одного из фонарей - сытые, довольные собой и друг другом местные светские дамы, под зонтиком каждая, беседуют друг с дружкой. И серенькое небо надо всем. И тоска-тоска художника. О том, что низка эта самодовольная пошлость, и не ведает она о своей низости.Барочного типа художник - Кустодиев.
"ЯБЛОКИ" 1995 ГОДА
По-моему, настали времена, когда люди: читатели, зрители, слушатели,- глубоко преданные искусству,- отлучаются от
него, от самых высших его проявлений - от искусства идеологического (в смысле: не прикладного). Отлучение идет двумя способами. Преданные не могут достаточно зарабатывать, ибо не конъюнктурщики. Это одно. Другое - растут цены на книги, билеты в музеи, театры и т.п.Мне повезло в мой очередной приезд в С.Петербург. В
Русском музее был день открытых дверей - первая среда месяца. А в воскресенье - в Эрмитаже - бравшему мне билет армейскому курсанту в кассе были даны контрамарки бесплатно (для него и его подруги, коей оказался я).В Русском музее была юбилейная выставка Репина. Картины
привезли из нескольких стран и нескольких музеев России. Портреты, портреты, портреты... Но что с них возьмешь, когда большинство изображенных тебе не знакомы и роль художника в изображении остается неясной.Ну, царь Николай II более-менее известен широкой публике
и физиономией, и как личность. Если в советское время он слыл типом сугубо отрицательным, то теперь - по противоположности - ему приписывают иные качества. А каков он был на самом деле, и что хотел сказать художник?Есть у Репина огромный портрет царя в тронном зале,
написанный незадолго после восшествия Николая на престол. Одно слово - душка. И вся роскошь интерьера ему пристала, и прост он до предела: и обычной военной одеждой, и свободой поведения при позировании, и выражением лица. Припоминаются все те, что поют теперь ему осанну и жалеют за незаслуженную и неправую казнь. Припоминается Радзинский в его телепередаче, где проводилась мысль, что 9-го января 1905 года правыми было совершено морально-политическое убийство царя в глазах народа. Убийство из опасения, как бы царь не пошел на демократические реформы (тот, мол, для них созрел). Убийство путем массового расстрела верящих в царя, расстрела от имени, мол, царя, когда царя-то и в столице не было - выманили те же правые. Наводит на такие воспоминания Репин.Но... Вдруг Репин все-таки подлизывался?..
Наверно, однако, нет. Наверно, он вообще ни к кому из
портретируемых не подлизывался. А убедила меня в этом едва ли не последняя картина в последнем выставочном зале - натюрморт: яблоки на столе. Единственный натюрморт на всей выставке.Уж что я знаю - это яблоки. Самый доступный фрукт для
бедного горожанина (а я всегда был беден, покупалось всегда самое дешевое).И что изобразил Репин? Шесть обычнейших яблок. Обычнейших. Они явно были подняты в саду с земли безо всякого отбора. Три зеленых - не спелостью, а цветом. Три краснощеких.
Есть побитые, потемневшие местом удара об землю при падении с яблони. Есть тронутые червяками (вышли коричневые точки из отверстия, убежища червяка). Но все - свежие, вкусные, на мой взгляд плебея. И, главное, до зеркального блеска все вытерты."Жизнь прекрасна такая, какая она есть, со всеми ее изъянами
",- как бы говорит Репин этим натюрмортом. Да и - верится - всем своим творчеством.Понятно, почему Репин не принял революцию и остался в
отошедшей от Советской России Финляндии: зачем революционно жизнь менять, если она прекрасна. Понятно, почему он со страстью и вниманием писал такие разные вещи, как "Государственная дума" и "Бурлаки на Волге". Все объяснили яблоки.В Эрмитаже - тоже.
Туда тысячи людей сошлись на гремевшую выставку "Неизвестные шедевры". И публика старательно обманывала себя перед картинами, ведомая в этом обманывании экспликациями, которыми была снабжена почти каждая картина (редкая старательность искусствоведов-музейщиков).
Представлялось французское искусство второй половины XIX
и начала ХХ веков, эпоха разворачивания во всю ширь экспрессионистской - в широком смысле этого слова (по Недошивину) - тенденции живописи новейшего времени, времени колоссальных потрясений, связанных с кризисом эксплуататорского общества. Названная тенденция (по Недошивину же) начата была Домье, и настоящую выставку тоже открывал Домье - "Прачкой".Художники, люди чуткие, отражали упомянутый кризис неприятием действительности, а неприятие выражалось, в свою
очередь, всяческими дисгармониями: в красках, в линиях, в теме и т.д.Зрители же, пришедшие в Эрмитаж, чувствовали себя довольно комфортно. День был дождливый, а они сумели его использовать с толком - для такого благородного дела, как приобщение к искусству, да к таким произведениям, каких человечество не видело последние полсотни лет, а россияне (и эсэнгэшцы), большинство, может, и не увидят больше (если картины
- это военные трофеи - будут возвращены). Люди, пришедшие в Эрмитаж, были достаточно благополучны, чтоб оплатить билет, чтоб в воскресенье не промышлять на хлеб. А может, и не очень благополучны, но хотелось отвлечься. Во всяком случае, люди готовы были переживать удовольствие от красоты.А красоты не было.
Это утверждение прорывалось иногда и в экспликации.
Эдгар Дега. Танцовщица. 1874 г. "Усталость балерины
(она, например, зевает, закинув руки за голову)... или - естественное желание женщины поправить что-то в наряде или прическе..."Эдгар Дега. Площадь Согласия. (Виконт Лепик с дочерьми,
переходящий площадь Согласия). 1875 г. "Девочки обрели самостоятельность [по сравнению с более ранним изображением Лепика с детьми, известным автору экспликации]. Вся сцена производит впечатление, будто ни им до отца, ни отцу до них нет никакого дела". И здесь девочки нарисованы уродками, а не хорошенькими куколками,- по утверждению автора экспликации,- какими они были нарисованы в более раннем, цюрихском портрете в 1871 году.Но как музейщикам ублажить пришедших в Эрмитаж людей?
Надо воспользоваться тем, что они готовы к самообману и заумными выражениями сказать, что король не голый, а одет в такое изысканное платье, которое способны оценить и даже вообще увидеть лишь приобщенные к тайнам искусства. И надо дать понять, что зрителя музейщики считают уже частично приобщенными.Дега. Сидящая танцовщица. 1879 г. "
...с плоским лицом, нескладной фигурой и короткой шеей трудно признать красивой. Однако пастель, как неповторимая комбинация цветовых пятен, прекрасна".А ничего прекрасного в том грязно-розовом пятне нет...
Благо, был в зале Фантен-Латур. Цветы, ваза с фруктами,
графин. 1865 г. Яблоки, груши, айва, хоть рябые, но - очень протертые - блестят. Апельсин и гранат вскрыты, "соблазняя зрителя сочностью плодов". Про это можно было не притворяться. И в экспликации написано: "...радость жизни, что воплощается через традиционный предметный ряд: цветы, вино, фрукты..."Но это было единственным исключением - и радость жизни и
честная оценка этого мировоззрения в экспликации. Исключение из, кажется, семи десятков картин других художников и экспликаций к ним.Я вознегодовал и, вспомнив о единственной доступной мне
возможности публиковаться, написал злой минитрактат в книгу отзывов, пестревшую голословными хвалами в адрес устроителей выставки и в честь ее экспонатов.Вот этот текст.
"Я поражаюсь, что в главной аннотации (большого формата,
повешенное в зале, предшествующем собственно выставке) с пониманием относятся к благоразумию не афишировавших свою собственность меценатов, приобретших произведения дегенеративного - по определению фашистов - искусства, и не понимают авторы той же аннотации, что и нам бы не грех присоединиться к мнению фашистов.Разве не признает всякий непредвзятый зритель, что к
концу XIX века живопись заболела особо сильной нелюбовью к действительности, к ее людям, к ее пейзажу, ко всему.Сравните натюрморты Фантен-Латура (на этой же выставке)
с натюрмортами Ренуара (1880, 1896, 1910), Сезанна (1890 и др.). Тусклятина плодов, неряшливость цветов - у импрессионистов и любовная отделка, блеск яблочной кожицы, пусть даже и рябой, или прямо сияние ее (на другой картине), пусть даже и матовое сияние - у Фантен-Латура.Сказавши А, надо говорить и Б. О Фантен-Латуре в прикартинной аннотации написано: воплощается радость жизни. А о
сезанновской тусклятине не решились написать противоположное. Написали дипломатично: "Он стремился дойти до первооснов, выявляя первичные, первозданные формы" и "пространственноматериальные ценности природы на простейших примерах".Стыдно лицемерить! Сезанн просто пессимист. И искусство
его больное оттого. И фашисты были правы. И то же можно доказать на любом выставленном здесь произведении рубежа веков".Научный сотрудник при книге отзывов прочла и - лучшая
защита это нападение - произнесла:- У вас устаревшая точка зрения.
Первый же зритель, заинтересовавшийся отзывом, был тоже
агрессивен и присоединился:- Почему мы не говорим на древнерусском языке? Мы другие
- и язык другой. Они,- он кивнул на выставочный зал,- родоначальники современного языка.- Вы думаете - я ретроград? Вы ошибаетесь,- ответил я.-
Вы думаете,- обратился я к подруге смотрительницы книги отзывов, сидевшей тут же,- вы думаете, что тоталитаризм кончился? В искусствоведении он остался. Попробуй, что-нибудь скажи поперек их,- я указал на смотрительницу,- канонов. Засмеют.Ученая дама быстро сдалась:
- Вы наступили на больную мозоль. Мы, в отделе, сидим,
сочиняя экспликации, и мучаемся: как внушить человеку с улицы, что все это прекрасно?!- Да не врать ему и себе,- отвечаю.- Если художник сумел
выразить ужас, то не хвалите его средства выражения, а просто соотнесите, ЧЕМ он выразил ЧТО, объясните, в чем ужас жизни тогда для художника состоял и что было для него идеалом. А если он сподобился утратить всяческие идеалы и оттого мажет кистью безобразие, то и назовите его мазню мазней, а мировоззрение - безыдеальностью. Мы вам спасибо скажем. И кончится наш и ваш самообман.- Трудно соотносить, что чем и во имя чего выражено. Может не получиться экспликация.
- Тоже признайтесь. Напишите:
"Не истолковано".- Так нас уволят.
Впрочем
, последние пассажи разговора я придумал. Их не было.23.05
.95 г.Конец шестой интернет-части книги “Записки благодарного зрителя”