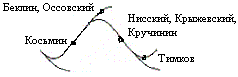
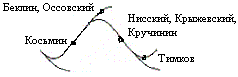
С. Воложин
Беклин, Нисский, Тимков, Косьмин, Кручинин, Крыжевский, Оссовский.
Художественный смысл.
| Наслаждение – открыть художественный смысл целого произведения в любом его элементе и говорить об этом, а не – вообще о творчестве или конкретно - о биографии или общественном признании художника. |
Вторая интернет-часть книги “Записки благодарного зрителя”
ПОНЕМНОГУ О РАЗНОМ, НО ВСЕ - О ТОМ ЖЕ
Летом 1979 года в Каунасе была выставка эрфуртских
художников (это из ГДР). Много там было всяческих некрасивых картин. Они довольно искренне, по-моему, и внятно выражали, в общем-то, как все вокруг не нравится немецким художникам и как им все опостылело.Особенно запомнилась одна картина (не запомнилась, впрочем, фамилия художника). Называлась она что-то вроде "Эрфуртские рабочие".
Интенсивнее и ядовитее красок я, кажется, и не видывал в
живописи. И такую заглаженность, зализанность мазков тоже не часто встретишь в наш торопливый и нервный век.Изображены несколько лиц. Рабочие. Раскормленные, каждый
день напоенные пивом до отвала, с маленькими глазками - уверенные рабочие. Одеты - в спецовки. Фон - какой-то цех. Металлообрабатывающий. Взгляд очень-очень спокойный. Попросту тупой... И это - гегемон нашего общественного строя, социализма! Б-р-р.В табличке на стене в начале выставки было написано в
том духе, что, мол, партия и правительство нацеливают нас, немецких художников, на то, чтобы мы содействовали воспитанию нового человека, человека социалистического склада. Не все еще, мол, у нас получается, но мы стараемся.Да. Видно.
* * *
1 июля 1980 года Каунас стал обладателем хрестоматийно
известного произведения живописи - "Автопортрета" Арнольда Беклина. Хрестоматийность, впрочем, весьма относительная. Беклин хоть и упоминается во всех советских энциклопедиях (правда, всегда с упреками), но посмотреть сборник репродукций его работ можно с большим трудом. Одна тоненькая книжечка его репродукций есть в Таллине, и мне удалось ее посмотреть. Она издана в ГДР в качестве одной из серии книжек популяризирующих сокровища живописи, находящиеся в Германии. И в той книжечке был "Автопортрет". А теперь эта работа знаменитейшего в конце прошлого века швейцарского художника навсегда прописана в Каунасе. Это - серьезно, я думаю, для каунасской картинной галереи."Автопортрет", мне кажется, очень точно (и, значит, для
Беклина совершенно невольно) соответствует той плехановской мысли, что символизм (а Беклин является его ярким представителем) выражает протест против безыдейности, возникший на безыдейной почве.На холсте изображен художник с палитрой и кистью в руках
с непередаваемо тонким выражением лица. Он смотрит на зрителя, внимательным, но невидящим взглядом. Он весь превратился в слух и в обдумывание того невнятного, что нашептывает ему сзади... череп.Характеризуя Беклина, немцы пишут о зачастую тяжелом содержании и тяжелых красках его картин. А я думаю (если я не
прочел это где-то), что оттого он мрачен, что в молодости, когда кончал учебу и был в Париже, он оказался свидетелем разгрома революции 1848 года.Было чему определить его творческую судьбу. То была
первая революция, в которой пролетариат выступил как организовывавшаяся против буржуазии сила. Антагонистические противоречия классов открылись во всей своей непримиримости. Началась эра особой жестокости сражений, потребовавшая и особой выразительности искусства (в том числе и такой, как в "Автопортрете" - разговор человека со скелетом).Вот каковы были первые проявления этой эпохи. Свидетельство от 11 июля 1848 года хирурга де Гиза, главного врача
национальной гвардии: "Я приписываю опасность, о которой я вам говорил, близости выстрелов. Так, например, в амбулатории Тюильрийского дворца есть инсургент [повстанец], у него нога проткнута ударом штыка, за которым немедленно последовал выстрел... Смертность вследствие полученных в июне ран превышает обычную пропорцию. Как я уже сказал, эту серьезность ран, причинивших смерть, следует приписать близости выстрелов..."В бою, а главное, после боя расстреливали в упор.
Но не об этом, конечно, шепчет череп на "Автопортрете".
Ужас интеллигенции, исторический ужас ее положения был в
том, что она с 1848 года повисла между пролетариатом и буржуазией. И тот и другая ей не нравились, а это означало, если не идейную смерть, то идейную агонию. Искусство же не может быть совершенно безыдейным. И вот, не находя выхода реального, художник ударяется в ирреальное, в мистицизм."
Мистицизм,- пишет Плеханов,- тоже идея, но только темная, бесформенная..."Поэтому нет определенности в выражении лица художника на
беклиновском "Автопортрете" и нет действия в его фигуре.Что художник предпримет? Поймет или отмахнется?
Судя по серьезности и благосклонности в выражении лица,
а также по творческой судьбе Беклина - не отмахнется. Но... череп смеется... над художником. А тот этого не видит. И, доверившись ему, художник (дальше можно продолжить словами Плеханова) очень сильно понижает в своей внутренней стоимости идеи, выражаемые в его произведении.Не над этим ли понижением смеется череп?
Мне очень нравятся слова Ленина, что общественные и
соприкасающиеся с ними науки и культура неизбежно приходят к марксизму, только каждый интеллигент - своим путем.Шаг на таком пути невольно, по-моему, сделал и Беклин,
написав себя прислушивающимся к смеющемуся над ним черепу.Шаг на таком пути сделал и западногерманский юрист,
литовец по происхождению, Миколас Жилинскас, подаривший Каунасу новую порцию произведений западноевропейского искусства (в том числе и "Автопортрет") к 40-летию восстановления Советской власти в Литве. Объективно - шаг... Хотя субъективно, может быть, Жилинскас руководствовался националистическими побуждениями и захотел очистить от советского искусства последний зал галереи, еще не занятый его коллекцией, переданной в дар ранее.
ПИСЬМО
Ты хотела знать мое мнение о Нисском?
Вот оно.
Это совсем не тот Нисский, какого я привык видеть.
Да, я его, конечно, узнал, еще издали. Но в этой
картине, что была на выставке (кстати, как вещь называется? "В пути"?), так вот, в этой картине настроение совсем не такое, как обычно.Всегда, ты знаешь, какая-то романтика дороги у него, порыв вдаль, вперед, выше, какое-то молодое желание перемены
мест (не как у Онегина - от скуки). А, может, даже в чем-то и от Онегина. У молодых ведь часто сил больше, чем умения или возможности их приложить. Оттого и рвутся. Но людей типа Онегина николаевщина давила, и у них была трагическая охота к перемене мест. А у Нисского все обычно веяло свежестью, молодостью, бодростью полетом. Низкие точки зрения, много неба, простора, свободы, полета, стремления, дороги в лучшем смысле слова.И "В пути" этом на первый (самый первый) взгляд все,
вроде бы, такое же. Низкая точка зрения, много неба, предполагаемая даль, куда предстоит вот-вот тронуться стоящему под парами паровозу (со множеством вагонов, наверное, - так мощно он пыхтит, паровоз, подготавливаясь тронуться).Все то - и не то.
Но я должен предупредить, что мое мнение об этой картине
Нисского сугубо субъективное. Настолько субъективное, что я точно знаю, что, по крайней мере, случившееся за два дня накануне совершенно непосредственно повлияло на то, что я в картине увидел.И раз уж ты захотела узнать мое мнение, то я опишу тебе
эти два случая.Во-первых, я узнал, что такое гало. Знаешь ли ты о нем?
Это отражения солнца от граней кристалликов льда, висящих на большой высоте над землей, кажется, на уровне перистых облаков. Это не такое уж частое явление, но в самых простых своих формах и не такое уж редкое. Простейшие я сам несколько раз видел: радужный круг (и два, порою, круга) вокруг солнца в почти ясную погоду.Это почти знаменательно. Вот как тебе вспоминается
картина Нисского: ясная там погода или почти ясная?Когда я в выставочном зале затеял разговор возле этой
картины, то мнения разделились. Одни говорили - ясная, другие - почти ясная, но не совсем.По-моему, эта раздвоенность принципиально важна в идейном смысле: какова коммунистическая перспектива для нашего
нынешнего общества - ясная или почти ясная, с некоторым сомнением...А для меня лично важно еще и то, как я узнал о гало. Я
прочел, что гало бывает и после захода солнца, и не только в виде кругов, но и в виде столба света, а бывает, что столб пересекается с кругом, причем видна только часть круга, а солнце - за горизонтом, тогда в вечернем или ночном небе такое гало являет собою образ меча, окровавленного меча. И писалось, как когда-то подобное гало в виде светящихся среди звезд креста, круга и серпа увидел Иван Грозный и счел это проклятьем божьим. И вообще люди часто приписывают подобным явлениям природы роль плохих предзнаменований...И я сразу скажу, что у Нисского солнце хоть и заходящее
на той картине, но слишком оно еще высоко над горизонтом, чтобы так темно было в нарисованном им пейзаже. Явно что-то "предгальное" висит высоко в небе. И хоть художник, тем более советский художник, не мистик, но просто по обязанности чуткого человека, рисуя состояние природы, он должен осознавать, какое настроение данное состояние рождает. В нем и в зрителе рождает. (Если, конечно, зритель заметил эту неявную мряку.)Смутное состояние души выразил Нисский, выбрав именно
это состояние природы.Ни ветерка. Мороз. Садится багровый круг солнца в пустом
огромном небе. А самая яркая точка на картине - вовсе не солнце, а горяще-алый верх фуражки дежурной по станции... Ярко-красный.Еще там есть странный нюанс в картине: луч паровозного
прожектора.Такие прожектора, по моему разумению, светят вперед и
вниз, на рельсы. А здесь - вверх. Под сорок пять градусов. И луч этот очень быстро гаснет, так ничего и не высветив. И вот сейчас, когда я это написал, мне вдруг стало ясно, что это же свидетельство и того, что необычно темно - при еще не закатившемся солнце, и того, что воздух чем-то не совсем прозрачным полон, раз прожектор так быстро потерял свою силу вверху.Меня как-то озноб берет, когда вспоминаю этот теряющийся
сноп света. Как перст указующий...Но это у меня от Ивана Грозного. Ну, и от второго случая
накануне выставки.Ты знаешь организатора клуба филофонистов. Я с ним прямо
поругался из-за идейной, позволь сказать, направленности музыки всех этих ими обожаемых битлов и тому подобных.Р-р-революционеры, понимаешь ли!.. А на деле революция-то у них - у заграничных, во всяком случае,- сексуальная.
Протестанты разнесчастные. Никакой надежды на будущее -
вот и бесятся. Максимальную громкость включают и световые вспышки.-Вражескую,- говорю,- пропаганду разносишь. Только от
крайнего отчаяния доходят до крайности в эстраде. А ты - член партии. Как тебе не стыдно?-А что,- отвечает,- и протестанты; разве все у нас
хорошо?-Но у них же идеология крайнего, КРАЙНЕГО, слышишь,
отчаяния. А ты-то сам, член партии, веришь в коммунизм?И знаешь, что он мне ответил?
-Теперь уже нигде не найдешь лозунга "Наша цель -
коммунизм"...-Ну, все понятно,- говорю.- Значит, открытие Маркса, что
наше будущее - коммунизм, ты закрываешь?Мнется.
-Отвечай!- требую.- Да или нет!
И он ответил, что закрывает, от имени коммунистической
партии закрывает открытие Маркса. И таких ведь в партии полно.В коридоре, попозже, на ту же тему мне ухмыляются: их
там таких девяносто процентов, а на самом верху - сто, ибо сверху лучше видно.Вот, получается, кто дает отправление нашему паровозу,
который вперед летит и конечная остановка у которого - в коммунизме.И хочешь - смейся, но глядя на эту багровую муть вечера
у Нисского...Знаешь, это общеизвестно (в некоторых кругах), что
Нисский вместе с рядом других олицетворяет обобщающую тенденцию в современной живописи. Она, пишут, в советском искусстве началась с Кустодиева, который нарисовал коммуниста вроде Гулливера - шагающим через главы церквей и крыши домов...Вот мне и захотелось пообобщать перед картиной Нисского.
Что мне: я - лицо неофициальное, безответственное перед искусствоведческими властями. Что мне из того, что у Нисского никогда не было и намека на минор. Что мне из того, что я не знаю его биографию и ею не докажу его такого вот выбрыка, как "В пути", каким он мне представляется. Что мне?Мне хватит того, что тот спор с филофонистом - не
единственный, не исключение, а типичен, на мой взгляд, хоть я не обладаю социологическими цифрами. И я, мне кажется, - тоже типичен. И "моего нового Нисского" я отношу в этой своей типичности к своему лагерю. И тем объясняю себе (и тебе) тот тревожный багровый колорит, ту томящую душу тусклость какую-то и прямо-таки недоброе затишье, что стоит в картине.Я, если изо всех сил цепляться за оптимизм, даже и
название (хоть и не уверен, что оно именно такое) привлеку к себе на помощь. "Чего не бывает в пути!- Уточню я его.- И в ночь заедешь, и в непогоду..."Что делать. Надо быть реалистами. Как реалистичен пейзаж
Нисского. И я (боюсь заикнуться, и все же) подумал, не случайно ли, что это именно пейзаж. И люди, остающиеся на станции,- так тупо безлики, может, не в силу того, что они просто стаффаж в пейзаже, а оттого, отчего Нисский пейзаж всегда рисует... без людей. Ведь романтика и тревога - сродни. И романтика Нисского вполне могла быть зародышем его тревоги, той, что "В пути"...Вот до чего доводит безответственность.
А если все же продолжить, то нужно продолжать быть
реалистами и видеть, что и отправляющийся в дорогу машинист - тоже безлик, как и остающиеся...Но ладно. И самому уже становится не по себе.
Однако, о стольких я начитался открытиях глубин духовных
под тонкими слоями красок на холсте... А что, как мое мнение окажется созвучным объективной истине о Нисском?..
ДВЕ ВЫСТАВКИ НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ
В МОСКВЕ 1982 ГОДА
Две командировки - две остановки в Москве - две выставки
на Кузнецком мосту...Первая - персональная выставка псковича Тимкова.
Помню, проходя мимо и увидев через широкие окна его
брызжущие красками и радостью жизни картины, я не мог не зайти.И до чего же смачно рисует художник!
Бело-фиолетовый и розовый снег, густые синие тени,
желто-зеленое небо, низкое солнце. Там и сям избенки на холмиках. Вертикальные дымы. Тихо. Тепло. Сияние снега (не солнца, а снега) - прелесть.Называется - нейтрально: "Мартовский вечер".
А вот день. Сине-розовый снег, бело-зеленое небо, фиолетовые деревья. Светло, радостно, свежо, чисто.
Название - опять нейтральное: "В окрестностях академической дачи".
Еще снега (Тимков особенно любит и умеет живописать
снега): снег - розовый, синие тени, оранжевые стены домов, освещенных солнцем, коричневые кроны. Тепло, тихо. Называется - "Последние лучи".А вот лето. "Июль голубой". Голубо-зеленые кусты, сине-зеленые деревья, брызжущая зеленью трава, слепящее небо. Сияние, тишина, свежесть, покой веют от картины. У Тимкова все
больше тепло: лето ли, зима ли. И все больше тишина. Восхитительно: так уметь рисовать температуру и звуки!"Летний вечер". Блекло-тусклые холмы травяной пустыни,
матовое солнце у горизонта. Тихо-тихо. Задумчиво."Волхов. Последний снег". Ослепительное белое небо,
черно-синяя река, рыжие высокие берега с прошлогодней травой. Неба очень мало, но оно отражается, буквально отражается в сверкании редких белых снегов. Очень,- нет слов, насколько очень,- светло."Утро. Ранняя весна". По-импрессионистски дрожат синеватые волны. Полупрозрачные сиреневые деревья, желто-белое
небо - все светится."Валентиновка. Осень". Светится трава, бело
-зеленые, а не рыжие, деревья. Тихо."Туман". Лишь два цвета: серый и бело-серый. Деревня.
Снега. Ти-и-ихо."Весенний пейзаж". Тысячи, рядами, по дуге вниз, облаков; тысячи горбом вверх вспаханных борозд. Все дрожит и
готовится жить."Река Мста". Все остановилось. В фиолетовом зеркале реки
отразилось чуть более светлое небо. И сине-фиолетовые отражения деревьев - просто фиолетовых. Сумрачно. Тишина."В начале февраля". Березовая кисея - прямо красна.
Пылают стены домов. Небо ядовито-зеленое; синие тени, розовые снега. Радость, даже звонкая, но - тихо.Надоело это все читать, правда? И прошу поверить -
надоело и смотреть. Как бы ни неожиданна была каждая следующая картина.Ну и что?- хочется сказать. Ну, живописно, ну, смело
. Ну, тончайшие настроения умеет передать художник. Ну и что. Разве это не из пушек - по воробьям.Неужели в 1982 году ничего, кроме идиллий не происходит
вокруг товарища Тимкова?Я в тот же день был в Манеже на выставке, посвященной
сорокалетию разгрома фашистов под Москвой. И там я увидел тоже один пейзаж со снегами и без людей. И там тоже неимоверно выразительным: грозным, яростным в остервенело наляпанных толщах мазков - выглядело небо. И странно суровым выглядел очень рано (еще просматривалась желтизна в дальнем лесу), очень рано выпавший снег. И тоже звенело с полотна безмолвие. Безмолвие звенело! Потому что в небе, вверху (не внизу) творилось что-то страшное с облаками и мазками. В общем, тоже была страшно выразительная тишина.Но художник Косьмин назвал это - "Дубосеково", а на
первом плане - завуалированные, запорошенные снегом, просматривались, нет, угадывались нами восстановленные десятки лет спустя глиняные окопы... И я не помню, где совершили свой подвиг панфиловцы, но становится ясно: где-то здесь или в похожем месте, или не панфиловцы, другие - не важно. Совершили.И становится холодно спине. Потому что кажется, что сама
природа, само небо помнят то, что случилось здесь сорок лет назад.А у Тимкова есть картина, единственная, названная не
нейтрально, - "Памяти погибших воинов". Так что там? Сиреневые снега на холмах, холмах, холмах под свинцовым небом, и только алая звездочка на могильной пирамиде прямо-таки светит.Ну, да - пусто, ну, привольно и чуть грустно. А все же снега - фосфоресцируют.
Не смог Тимков победить красивость. Не сравниться ему с
Косьминым. Потому что как бы ни была сочна и смачна живопись, но великая идея дает художнику очень большую фору, чтоб таланту с идеей приземленной обойти первого.*
Но взятая на прокат идейность ничего не дает.
Я перехожу к другой выставке на Кузнецком мосту, которую
я увидел через десять месяцев.Она была в чем-то противоположной тимковской.
Казалось, стало модным быть озабоченным положением дел в
нашем обществе. Участники юбилейной выставки (к 60-тилетию СССР) - московские художники - казалось, демонстрировали свое неприятие всех и всяческих наших недостатков и вражду свою ко всем успокоенным, сытым, довольным зрителям. Казалось, они (половина, по крайней мере) обязались злить благополучных."Весна" - набор бледных мазков выбеленного масла. Набор
мазков. Никакого рисунка. Ничего, ровно ничего не узнать. Вот, мол, каково мое, художника, отношение к официальному оптимизму.Тусклейшая "Москва. Красная площадь".
Мутнейший "Апрельский туман".
Кошмарные по грубости а ля сезанновские натюрморты...
Уксусно-унылый по колориту "Год 1918" с Лениным, выступающим перед рабочими... Бледные, как бы нереальные, как у Борисова-Мусатова виды переполненных людьми московских улиц... Еще одно случайное по краскам и композиции полотно "Ленин с крестьянами в поле"...А некий Максимов А. продемонстрировал то, что называется
эпатаж мещанства, издевательство над спокойными. Он нарисовал нечто вроде пляшущих человечков Конан-Дойля - штуки три - на площади четверть метра на полметра и снабдил это свое художество таким вот грубо намалеванным текстом (я не поленился и все списал, не исправляя грамматических ошибок):"21 августа 1982 года после завтрака Вера попросила
меня показать ей места на веранде, где течет крыша - отметили эти места углем. А потом Вера полезла по лестнице на крышу веранды с банкой синей краски и столовой[слог "ло" был вписан над "о" и "в"]
ложкой вместо кисти и заливала краску в прохудившиеся места. Закончив, она стала отмывать перепачканные руки, землей стирая краску.
А спросил у Веры: А: "Ты моешь золой или землей?" Вера отмывала руки от масляной краски землей и шутила: Вера: "Это она хочет показать как она работала как будто она на крышу лазила и испачкалась вся в краске... Я мою руки землей"
Лида стояла держа лестницу по которой лазила Вера и громко голосила. Лида: "Эх-хе-хе-хе-хе: А я хоть не красила, а испачкалась в краске! Эх-хе-хе-хе. Я тоже всегда землею мою - прекрасно отмывается и еще полезно - всякие ранки заживают. Старые люди говорят раньше когда жали серпом порежутся... землей присыпают"
Вот живопись!
И так как, строго говоря, безыдейных художников не бывает, то я выражусь так: вот до чего доводит идейное брюзжание.
Единственная живописная работа понравилась мне, вернее,
надолго остановила мое внимание - Кручинин. "На Саяно-Шушенскую". 1977. В ней одной я увидел значительную, чтоб не сказать великую, и искреннюю идею.В общем - картина вся темна.
Темно-фиолетовая гора на заднем плане занимает чуть не
две трети всей площади. Только чуть-чуть голубого неба проскользнуло в картину между этой горой и рамой в верхнем правом углу картины.На самом переднем плане четыре чахлых сосны. Они сливаются с фоном - фиолетовой горой. Никакого объема, пространства.
Темно. Весь вид взят против света. То есть все обращено
к зрителю теневыми сторонами.Река, что между фиолетовой горой на другом берегу и
глиной этого берега,- грязно-зеленая. Несколько синеватых всплесков показывают, какая она бурная и быстрая, и никакого блеска, никакой прелести.Очень обыденно, буднично с пристани, что у этого берега,
на сам берег сошли пятеро юношей. Уж очень буднично. Только пятый поставил на землю транзисторный магнитофон и чемодан и повернулся, взмахнув рукой оставшемуся на пристани парню. Тот из вежливости ответил взмахом. Остальные сошедшие деловито двинулись в направлении прямо на зрителя. Но это так говорится - двинулись. Зрительно движение остановлено его фронтальностью.Из названия - "На Саяно-Шушенскую" - следует, что парни
- добровольцы. Это не из отпуска они возвращаются на привычное место работы. По тому, как сцена выглядит, ясно, что они впервые идут этим путем. Разговоров друг с другом нет. Тропа для них - новинка. О ней - говорить им еще нечего. Прошлое - о нем есть, конечно, что говорить – сейчас отступило перед тропой. Они делают важный шаг в своей жизни.И никто (уж как они устроились?) им не поможет тут его
сделать. Никто их не встречает. Нет проводника через тайгу (все ведь с поклажей, а проводник бы был без нее). А парни именно устроились, чтоб их не встречали - они нисколько не обескуражены. Парады им не нужны.Зачем они сюда приехали? Что-то в них такое, что можно
сказать твердо: они не рвачи.Ровесники, молодые городские парни с длинными волосами,
очень приличные чемоданчики или ладные рюкзаки - экипировка городских туристов. Небрежно расстегнутая рубаха – горожанин на природе. Все - в общем-то, налегке. Достаточно легкомысленные. Впереди путь, а один уже передал другому свой чемодан и приготовился бренчать на гитаре. А остальные будут слушать на ходу - это на таежной-то тропе.Запросто, буднично они переживают свой, может, первый
самостоятельный в жизни шаг, с иной точки зрения - шаг немалый: на великую сибирскую стройку (как говорили когда-то - на стройку коммунизма) отправились они.Но им, как говорится, до лампочки иные точки зрения. У
гитариста тонкое лицо, грустный и задумчивый взгляд вперед и в сторону. Остальные лица - тоже довольно отрешенные от происходящего вот сейчас события в их жизни.У них нет никаких иллюзий в отношении своего решительного шага. У центрального на глазах даже темные очки солнцезащитные... подстать темноте всей картины.
Но вот темнота-то эта - какая-то особенная. Светящаяся!
Бывают такие мазки - шершавые - и такая концентрация
масла и краски, что красочный слой светится, отражая падающий на картину верхний свет. И тогда не важно становится, что цвет красок темный, грязный, даже мрачный. Картина чревата свечением.И вот в данном случае от картины "На Саяно-Шушенскую"
получается впечатление глубоко запрятанного, подавляемого, но все же существующего, не убитого всей ложью и мерзостью окружающего,- впечатление пробивающегося пафоса, оптимизма.Художник, а за ним и его герои, ненавидят красные слова,
лицемерные парадные речи.Но он не брюзжит, как Максимов и другие его соседи по
выставке.Он и его герои - люди дела, дела великого, но (они
каким-то образом - эти юнцы с картины - уже узнали) дела грязного, трудного и вовсе не ура-романтического.Я не видел в жизни таких юнцов. Я не был на комсомольских стройках Сибири. Но если можно моему поколению (мне
44) не брюзжать на утрату революционных традиций, на нынешнюю молодежь,- так за то, что где-то есть такие, каких изобразил художник.Я смотрю эту выставку возвращаясь из долгой командировки, в которой я от нечего делать по вечерам в гостинице
много слушал радиоточку. И по радио один за другим проходили такие же люди дела, которые без звона, буднично делают удивительные вещи. Я не думаю, что это была агитационно-пропагандистская липа: голос, интонацию не подделаешь. Говорили люди от земли, самоотверженные труженики сельского хозяйства. Их таки находили - самоотверженных - и приводили в радиостудию.А в городе были безумные давки в автобусах - так их мало
осталось: отвозят ежедневно горожан в колхоз и обратно, ибо колхозы почти пусты, а кто есть - почти не работает."И все-таки она вертится!" И все-таки по радио не врали.
Есть еще порох в пороховницах. Есть все-таки такие парни, каких написал Кручинин.Вот такому вот, как у него, потаенному, несмотря ни на
что пробивающемуся, но не афиширующему себя, оптимизму - я верю.А взволнованности брюзжащих - нет.
Потому что у них взволнованность - заемная. Брюзжание -
это не выстраданная мысль-чувство.В тот же день я получил доказательство верности моей
оценки брюзжащих. Я попал на выставку с таким же названием: "Осенняя московских художников, посвященная 60-летию СССР". Но помещалась она не на Кузнецком мосту, а на Малой Грузинской, в подвале жилого дома.Вот тут-то выставились люди, у которых от беспокойства и
взволнованности, казалось, сердце бы лопнуло, если б они вовремя не излились КАРТИНОЙ. Тут едва ли не каждая вещь требовала для себя столько же времени, сколько потребовала у меня на Кузнецком мосту картина Кручинина. Тут нужно было жить неделями, чтобы все переварить. А у меня был авиабилет в кармане и времени ровно столько, чтобы медленно пройти вдоль стен трех комнат, образующих выставочные, так сказать, залы.И я ушел. И все смешалось в памяти.
И лишь через несколько дней сквозь смущение душевное
вдруг отчетливо всплыла одна вещь. С названием нейтральным: то ли "Интерьер", то ли "Игрушки" (Тимков вообще-то прав. Живопись сама за себя должна говорить. И она у него говорит. Но только о земном. У автора "Интерьера" чувствовалось другое).Написан "Интерьер" на довольно большом холсте, странно
противоречащем своим размером натуре. Изображен игрушечный грузовик на фоне стены, на которой - разноцветные тени разнообразнейших по форме заграничных винных бутылок.Так тщательно были выписаны малейшие детали на этом
полотне, аж жутко. Жутко - не слово-паразит, применяемое не к месту, везде и всюду. Нет. Было именно жутко почему-то.Обычно подробность связывается с любовью, любованием,
любовностью. А здесь - страх.От этой крупноформатности, от этого внимания, пристального вглядывания создавалось впечатление, что тут все
очень серьезно, что это не просто детская игрушка, а прообраз будущей судьбы ее маленького обладателя. А эти призрачные, странные, полупрозрачные, разноцветные с какими-то внутренними сполохами света - тени бутылок - это какие-то миражи небоскребов в винных парах и других миазмах ядов урбанизации. Жутко - одним словом. И лучше не надо больше слов.А когда отказывают слова - это вернейший признак высокой
художественности произведения.И еще я замечу: честность, бесстрашие в выборе темы в
наш тревожный век неимоверно усиливает действенность художественного таланта. А только бесстрашие (без честности, страстности переживания) и только честность чувства (ограниченного нестрашными темами) - подрезают себе крылья.
ОСЕНЬЮ 1983 ГОДА. МОСКВА.
Проявилось уже такое правило: на каждой выставке живописи мое особенное внимание обращают на себя одна-две картины,
не больше. На осенней, 1983 года в Москве в Манеже под названием "Пейзаж нашей родины в произведениях советских художников" это правило подтвердилось опять.На этот раз я наткнулся на НЕЕ сразу.
"Крылья земли". Крыжевский.
Может, я бы и не обратил особого внимания на этот
пейзаж, если б он был не Крыжевского. Но Крыжевский!.. Это ж тот самый, который оптимизмом, искренним оптимизмом "Бело-голубого дня" потряс меня в 1976 году (да и не только я, как оказалось, тогда выделил эту картину). Все остальные художники, помню я, или притворялись оптимистами, или демонстрировали свой казенный или же облегченный оптимизм. Один Крыжевский был глубок, честен и притом - оптимистичен.Но у него я отметил подозрительное безлюдье. Две вещи
его: "Уфимские горизонты" и "Бело-голубой день" были на выставке 76 года. Безлюдье было в обоих. "Бело-голубой день" ведь не портрет в сущности, а жанровая картина: девушка на стройке. И стройка у Крыжевского что-то была подозрительно безлюдная. А это - зародыш пессимизма, по-моему.(Мне очень понравилось замечание одного крупного советского искусствоведа, мол, неотъемлемые от пейзажа человеческие фигуры были характерны для оптимистического мировоззрения Сильвестра Щедрина, художника, не имевшего последователей в прошлом веке, ибо для оптимизма не было тогда предпосылок ни в европейской, ни в русской действительности, а в
наше время такие последователи могут, мол, появиться. Всего лишь только могут - замечу от себя.)В общем, мне очень интересно было взглянуть на Крыжевского через несколько лет: каким он стал, если по-прежнему
рисует честно.И я увидел, что оптимистом он пока еще остался. Но уже
на грани, на грани.*
Если бы двумя словами сказать, что он сейчас нарисовал,
так это бы выговорилось следующим образом: северная пустыня. Не каменная, не песчаная, не полярная какая-нибудь - тундровая, снежная или ледяная, а в нечерноземной полосе России, на севере этой полосы, где многое может расти, но... никакой поросли нет почему-то... у Крыжевского.Я когда-то разбирал одну картину некоего Маккарта, что в
Каунасской картинной галерее. Поразительная вещь: при совершенной небрежности мазков впечатление от нее такое, будто каждый бугорок краски, след каждого волоска кисточки, отделившийся от кисточки,- значим изобразительно. Это или травинка (если вблизи), или ветка ели (если вдали), или дрожащий воздух (если в небе) и т.п. Поразительная вещь. Радостная. Счастливая. Светящаяся под верхним светом зала всеми своими шероховатостями мазков...И вот такая же маккартовская небрежно-ловкая подробность
открылась глазу моему у Крыжевского. Подробность на ничем. Ни черта интересного не видно,- холмистая пустыня,- а всматривается художник - с любовью (с надеждой?).И что за название странное: "Крылья земли"? С птичьего,
что ли, полета видно панораму... Далеко-далеко. И, видимо, это весенние птицы на крыльях несут весну.Видно: проглянуло солнце (оно сзади, справа, за правым
плечом зрителя), тени облаков плывут по земле, по вспаханному (еще осенью или перед заморозком, который и изображен?) полю. Весна.Холмы под тучами, холмы, холмы. Пологие и плоские, через
всю картину, и на горизонте завершаются низкими горами (не Уральскими ли?).А всюду ли подробность?
На первом плане, на отлого спускающемся от нас заснеженном холме - редкие травы, легкие неровности снега, комья
земли. Нельзя все это назвать особенно уж подробным, как это было у Маккарта. И горы на горизонте и небо надо всем - особо подробными, проработанными не назовешь.Но складки дальних оврагов, но излучины реки, совсем-совсем далекой, и то, что ближе: оттаявший от снега бугор с
пашней, борозды, зигзаг следа (сделан древком кисти) напрямик, через вспашку возвращавшегося с пахоты трактора, и единственное на всем ландшафте дерево за вспаханным бугром, дерево со множеством голых веток,- и, наконец, вереница столбов, вползающая издали к нам все на тот же вспаханный бугор второго плана - все это по-маккартовски подробно.И в этой подробности замечаешь такую деталь: столбы-то -
пока еще без чашечек изоляторов и без проводов! Это не небрежность художника. Это специально. Здесь изображена будущая линия электропередачи, как и ветки дерева - лишь в будущем покроющиеся листьями и плодами, как и пахота - в будущем только прорастущая всходами. Все - в будущем. Весна!И какая-то победа над холодностью и пустынностью всего
(в желтизне, что ли, столбов, дерева, южных откосов оврагов...), каким-то зреюще-победным настроением веет с полотна Крыжевского. Как галилеевское "А все-таки она вертится!" бросил свои "Крылья земли" художник инквизиторам-мучителям, проклятым вопросом подвергающим сомнению самую возможность здоровья социалистического строя, принципиальную возможность.Будущая электрификация... будущее лето... В "Бело
-голубом дне" сельская индустриальная стройка - и ассоциировались лозунги тогдашние об агропромышленном комплексе, втором (после 30-х годов) этапе коллективизации сельского хозяйства. Сейчас, в "Крыльях земли",- лишь будущая линия электропередачи... Ассоциируется формула Ленина - социализм это советская власть плюс электрификация всей страны...Возврат к первоистокам? Как шаг назад перед прыжком
вперед?..Более суров и сдержан стал Крыжевский за эти годы. Ни
тени слепоты к реальности, ни лучика лишней восторженности в мечте. Крылья земли... Не видно прилетающих птиц. Может, и не летят они еще, а просто кто-то стоит "среди долины ровныя на плоской высоте", стоит, могучий, способный дать весну жизни, стоит - человек - и озирает дали.И думает... думает...
И если по Выготскому, то эта северная безлесная холмистая пустыня развоплощается... в крылатую мечту. Крылья
земли!..*
Я ушел от этой картины успокоенный: по крайней мере одна
вещь на выставке мне уже понравилась.А живопись дальше пошла все роскошнее. Я давно уж не
припомню, чтоб так много ж-ж-живописных пейзажей собралось в одном месте. А la импрессионисты... А la Борисов-Мусатов... Один эстонец, Винт, написал воду как живую, как Айвазовский, если не лучше. Не яростные валы, не средние волны - их, наверно, легче рисовать,- а зыбь, слегка качающуюся воду морской поверхности... Один латыш, Пурмале, написал под видом обыденных пейзажей два, ну, просто стихотворения в цвете. Туманы - маслом, как акварелью. Светящиеся багровые коровы возвращаются с пастбищ, светящееся желтое закатное небо растворяет в себе зеленые кляксы силуэтов деревьев и луга. По яркости и поэзии - гоголевские "Вечера на хуторе близ Диканьки" в красках. Воплощенная поэзия... Какая-то Касинова удивила другой вычурностью: отточенной аляповатой силуэтностью камней скалы на гладком синем море. Не кажется примитивом при какой-то все же стилизации под примитив... Какой-то Юкин в своих "Мартовских тенях" доказал, что сверкающий на солнце снег можно написать синим цветом, если пустить по нему редкие бело-розовые блестки и тени на снегу сделать темно-синими, а дома - ярко-оранжевыми и лес - темно-коричневым... Некий Федосов доказал, что можно без экспрессии Левитана и без импрессионистской техники - колоритом зелени в тени и в свету - можно обозначить который час летнего вечера написан.И... все это, ну, восхищало, конечно, но и позабылось бы
безвозвратно, если б я вот не записал на бумагу.Нет умопостигания - вот беда. Масштаб личности художника
- маловат. Есть искуснейшее ремесло и нет мыслителя красками.*
Вдруг - Оссовский. (Единственный, между прочим, художник, представленный аж шестью полотнами. Но это я потом
увидел, что то, что меня остановило, написано художником с этой фамилией, и что оно широко представлено тут.)Я увидел московский Кремль таким, каким его у нас
никогда не показывают.Тут надо рассказать, с чем возникла у меня ассоциация
при виде Кремля с той точки, с какой показал его Оссовский. Так вот: при сооружении монумента в честь 1500-летия Киева, слышал я, вмешались церковные власти, и светские власти их уважили и велели сделать поднятый вверх меч воительницы укороченным, не превышающим некую колокольню Киево-Печерской Лавры...Точка зрения Оссовского - поверх крыш перед Кремлем.
Обычные крыши домов, какие были до того, как стали у нас строить плоские крыши. Двух- и более-скатные крыши на первом плане. Лежат, освещенные восходящим слева солнцем. Самого солнца в картине нет. Зима. Утро.Москва - такой город, что и ночью в нем много людей и
машин. А тут - утро. Внизу, под крышами, должно быть, кишит жизнь. Но здесь, наверху, этого ничего не видно и... не слышно - такое ощущение от картины, ощущение полнейшей тишины и покоя. Торжественно всходит солнце, и заснеженные крыши домов безмолвно "откликаются" на его лучи своими отсветами. Пустота и тишина.А поверх крыш, что на переднем плане, на втором -
толпятся колокольни и башни Кремля! "Вышли" встречать восход солнца. Не лежат, как крыши, а вышли и представительствуют. За город, за столицу, за страну представительствуют.И я верю, что с той точки так оно и выглядит на самом
деле - соборные колокольни: Иван Великий и другие - оказались первыми в этой своеобразной башенной толпе, первыми в своей обращенности к солнцу, к востоку, к новому дню, встающему над страной.Над страной, не меньше. На левом краю пейзажа, вдали,
там, где должна была бы быть Москва-река и ее второй берег с его зданиями,- не нарисовано ничего. И горизонта даже не нарисовано. То есть как бы перед каким-то провалом пространства, перед самим космосом стоит московский Кремль. Перед холодным космосом и горячим восходящим солнцем. А значит, за спиной Кремля не то что столица - вся страна.Каким-то многозначительным символизмом отдает от этого
своевольно искаженного художником угла пейзажа. Хотя, может быть, низкий второй берег Москвы-реки и не должен был просматриваться с выбранной Оссовским точки. Правда, чтоб совсем пропал горизонт слева - тоже невозможно.В общем, художник достаточно ненавязчиво, но все же
сдеформировал натуру из-за одного из трех: или по забывчивости, неаккуратности и т.п., то есть случайно, или во имя чисто формальной пластической организации - уравновесить пустотой сдвиг башен на полотне влево, или (третье) чтоб что-то "сказать" этим.Но воистину поразительно другое. Поразительно, что как
бы заводилами в толпе башен, встречающих солнце, являются церкви. Белокаменные, златоглавые, стройные. Кресты горят огнем под солнцем. Что, по сравнению с крестами,- тускло поблескивающие рубины звезды на Спасской башне, что – совсем не блестящий красный флаг над куполом правительственного здания? - Ничто.И выше всех - колокольня Ивана Великого. Спасская башня
- символ нашей государственности - ниже колокольни (и так оно объективно, наверно, и есть, только обычно так нам не показывают). И темнее Спасская башня, чем кремлевские церкви (из красного кирпича она, а те - из белого).И видный на горизонте (высоченный, вообще говоря) подобный всем этим башням университет на Ленинских горах - тоже
ниже выглядит на картине. Ну и цветом он, далекий, незначительнее - силуэтное пятно синеватое. Так оно, вероятнее всего, и есть с выбранной Оссовским точки зрения. А может, это еще и своеобразный символ, символ науки, как символ государственности нашей, уступивший лидерство соборам...В чем лидерство? - В интегрирующей функции, в объединении народа перед Будущим.
И красота,- если мыслимо ее архитектурный символ увидеть
в храме Василия Блаженного,- тоже отступает с первых рядов перед солнцем и тоже тушуется перед церквами (храм не белокаменный да к тому ж и против света видится нам). Итак, красота тоже не "спасет мир" по Оссовскому, вот так увиденному мною.От чего не спасет? - От стужи. Работа называется
"Московский Кремль зимой", и стоит дата:1980 год.Это в 1980 году была впервые не выполнена пятилетка (по
росту производительности труда). А ведь в конце концов исторически побеждает тот общественный строй, чья производительность труда оказывается выше...Если будет позволено, я б сказал: худую годину переживает Россия в 80-е годы ХХ столетия, новую зимнюю годину своей
истории.Но светлое будущее грядет - вот уж восходит солнце над
Москвой-рекой (одноименная увертюра в "Хованщине" помимо прочего означала еще и историческое возрождение России во времена Петра Первого).Так что: православие нас спасет? - Нет, конечно. По
другим вещам Оссовского можно понять, что не религия главное действующее лицо в его "Кремле". Хоть из пяти (кроме "Кремля") работ, три - монастыри разные. Но это не столько монастыри, сколько форпосты России в северных просторах. А один из северных (или сибирских) пейзажей называется "На земле декабристов". Так не может назвать картину религиозно одержимый художник.Значит, не православие воспел он в "Кремле", а русский
дух, самосознание русского народа, которое неколебимо в тысячелетиях, перенесло не одну тяжкую годину, перенесет и еще одну.И как освещенные крыши обычных московских домов непосредственно соотносятся - по освещению - с сияющими строениями, обслуживающими соборную жизнь духа масс, так - помимо
государства, науки, культуры - соотносится само какое-то священное предназначение нации с самим народом, с самой нацией.*
В сущности, если тенденциозно подходить к теме выставки
"Пейзаж родины в произведениях СОВЕТСКИХ художников", так, по-моему, только Крыжевский и Оссовский выставили картины по теме. Остальные пейзажи, как бы хороши они ни были, никак не относятся к советскости художников, никак не относятся к судьбе их родины, рассматриваемой из советского сегодня.Конец второй интернет-части книги “Записки благодарного зрителя”