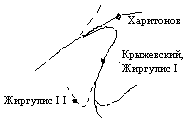
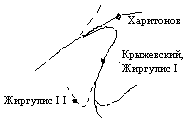
С. Воложин
Жиргулис, Харитонов, Крыжевский, Дульфан.
Художественный смысл.
| Наслаждение – открыть художественный смысл целого произведения в любом его элементе и говорить об этом, а не – вообще о творчестве или конкретно - о биографии или общественном признании художника. |
Третья интернет-часть книги “Записки благодарного зрителя”
ЖИРГУЛИС
В своих писаниях я всегда в чем-то одинаков. Поэтому
заниматься самоцитированием - особый грех для меня. И все же я хочу процитировать себя. Для читающего именно этот опус будет удобнее: без сказанного мною ранее о скульпторе Жиргулисе трудно было бы понять то, что я хочу сказать в этот раз.Жиргулиса я впервые увидел в 1981 году на традиционной
осенней выставке каунасских художников. И то, что я там увидел, я использовал тогда же для иллюстрации мысли, что разочарование в демократическом идеале приводит художника к маразму."На литом бронзовом квадратном листе чуть дальше его
центра стоит фигурка. Лист тонирован так, будто это какая-то каменная пустыня. Фигурка - согбенная старуха. Она уже не может разогнуться - весь свой век тянула она лямку своей доли, шла против ветра по этой пустыне, падая вперед, чтобы преодолеть ветер и собственную усталость. Ее лоб и платок, складки платка прямо-таки отполированы сопротивляющимся ей ветром. И вот, наконец, она остановилась.Она прошла большую часть квадрата. Перед ней есть
еще какое-то пространство, куда еще можно бы ступать... Но она уже не ступает.Вся скульптура очень невелика по размеру, сама
фигурка - еще меньше, тем более - лицо и глаза на нем.Казалось бы, какое там может быть видно выражение
лица? Но оно чувствуется. Как-то сделано, что угадывается взгляд. Тяжелый, тупой взгляд.Инерция безостановочного движения перешла во взгляд.
Старуха остановилась. Только ее взгляд еще летит
вперед. Но до чего ж он туп, бессмыслен... Страшно.Она, пожалуй, еще сделает шаг-другой вперед, или даже
долго еще будет идти все вперед и вперед, но... этот взгляд уже выражает какую-то безнадежную потерю. Так ли она начинала путь?Вещь названа "Надежда"...
И в свете вышеуказанного (учитывая, что этот Жиргулис - советский все-таки художник) мне представляется
совершенно закономерным появление тут же на выставке сделанной этим же Жиргулисом "Тишины". Это несколько металлических стержней, сваренных друг с другом так, что образуются несколько вертикалей, поддерживающих тонкую, прогнувшуюся горизонталь.Действительно, что-то очень хрупкое и изысканное
видится в этой бессмысленной конструкции, названной "Тишина", но все-таки это, по-моему, уже какая-то из ступеней явного маразма.И я не удивляюсь. Ничем иным и не может кончить
слабодушный советский художник в условиях самовыражения, если он честен (то есть не может стать врагом большинства человечества) и если он не верит больше в коммунизм.Разочарование советской действительностью при неприятии им идей коммунизма способно, на мой взгляд,
особенно быстро приводить к маразму: на протяжении лишь нескольких лет. Очень уж сильный реактив - недостатки социализма,- чтобы разочаровать в коммунизме, пусть не марксовом - христианском, в этом царстве гармонии, естественном идеале художников всех времен и народов.Но прошу обратить внимание: такая страшная участь
, как упадничество, маячит не только лишь перед честным художником, перед чутким, который не может себя обмануть и стать врагом большинства. Не только демократам уготована эта участь да таким из них, которые ни коммунистический (в широком смысле слова) идеал не приемлют, ни ему противоположный.И переметнувшиеся к аристократам от маразма не
спасаются: хватаются за идеал противоположный (все-таки идеал, а не его отсутствие...), но он лишь иным путем приводит совестливых к упадничеству".Приводить-то приводит, но в конце пути. А в начале -
обретение нового идеала все-таки впрыскивает теплую кровь, страсть в произведения демократа-ренегата, и они опять становятся понятными."Галилео Галилей" Жиргулиса - одно из таких произведений. Выставлено оно в Каунасе осенью 1983 года. Причем, если
существует ренегатская публика, то художник должен получить даже удовольствие от такого "внеэстетического" качества своего творения, как понятность. Это ж не шутка - моральное одобрение идейных единомышленников. (Думаю, по этой причине не впадал в маразм Солженицын).Говоря о такой ренегатской публике
, я имею в виду, как бы это помягче выразиться (впрочем, мне ли выражаться мягко!)... итак, эти люди несколько антисоветски настроены. Несколько антисоветски.В расчете именно на такую публику можно делать упор не
на специфические для художника профессиональные качества, а на идею.Пример. В одном зале с Жиргулисом был элементарный по
технике рисунок цветными карандашами художника Саладжюса: под флагом Советской Литвы, развевающимся над средневековой литовской твердыней - над Каунасским замком,- кто-то ловит рыбу в мутной воде лужи у замка, ловит, не обращая внимания, что перед замком подвешен за руки некто символический (именно символический - он прямо бесплотен до схематизма) и его истязает - кнутом с шипами на разветвленном конце бича - некто не менее символический. Кто-то кого-то...Мне как-то нравится остроумие некоторых литовских художников, умудряющихся обойти цензурные рогатки и представить-таки на суд широкого зрителя несколько антисоветские свои
работы.То Ленина на огромном панно представят одиноко идущим
по звездному пути съежившимся от холода и остроугольно нахохлившимся на остроугольное же звездное окружение, а глаза его сурово глядят в глаза как бы недоброжелательно к нему относящегося зрителя.То статую Свободы на аллее Лайсвес (Свободы) посадят на
кол и заставят ее призывно трубить в рог, обратясь к западной стороне.То выпустят массовым тиражом плакат к седьмому ноября,
где изможденного вида (символическая, мол) женщина, бессильно раскинув руки в стороны вниз и глядя в небо (как в казни святого Себастьяна, а современнее: как бы чувствуя острие приставленного к спине штыка) провозглашает вымученно: "Вся власть Советам!"Так вот такого рода художественное окружение, впридачу с соответствующей публикой, способно-таки (свидетельство -
"Галилей") вытащить Жиргулиса из маразма безверия и направить на несколько тонизирующий антикоммунизм, круто говоря.И вот - "Галилей".
Но нет. Еще нужно отступление, чтоб понять, как это я
сподобился его увидеть так, как я увидел.Галилей нам со школьной скамьи известен как основатель
науки Нового времени, как гонимый инквизицией, но не сломленный окончательно, и как восклицающий после формального отречения от гелиоцентризма: "А все-таки она вертится!" (Земля, то бишь.)У Жиргулиса иной Галилей.
Есть Галилей-прагматик (наткнулся я на такие сведения).
Этот Галилей отрекся для того, чтоб сохранить жизнь и здоровье и тем самым дать себе возможность окончить свой наиболее важный трактат по естествознанию.И такого Галилея отказался изображать Жиргулис. У Жиргулиса - внутренний ужас, а названные два Галилея какие-то
хитроватые, плутоватые.У Брехта, как его понял Днепров (как я понял Днепрова) -
третий Галилей, Галилей, отрекающийся полностью, отрекающийся без боя, отрекающийся из страха, оттого что ему показали орудия пыток: "Духовная личность вынуждена принимать битву не в своем доме, а в застенке врага, на уровне жестокого и коварного средневековья, и тут культура может... оказаться источником слабости". Случилось так, что личность Галилея оказалась не героической, и он отрекся под давлением внешних обстоятельств.Но это по-прежнему - ужас, стимулируемый извне, а не
изнутри. И Жиргулис изобразил не это.Натев понял брехтовского "Галилея" так, что, мол, потому
Галилей представлен безоговорочно отрекающимся, чтоб показать мысль: малодушие не только унижает, но и уничтожает мысль.Уничтожение мысли способно-таки ужаснуть не извне-ужасом, а изнутри-ужасом. Но у Жиргулиса Галилей осиян светом,
светом своих открытий...Своих открытий,- у Жиргулиса,- сам, без никакой инквизиции, испугался Галилей. И мне литературно известна возможность такой трактовки Галилея: за Галилеем и Джордано Бруно
числится открытие физической бесконечности. А это само по себе достаточно устрашающее открытие. Знать, что мы живем на крошечной песчинке-Земле, затерянной в равнодушной к земной судьбе бездне мироздания... Знать, что судьба человечества - ничто для бесконечной Вселенной... По этой, известной мне, литературе, Галилей - не возрожденческий деятель (как у Брехта), а один из идеологов следующей эпохи - барокко.И вот сидит у Жиргулиса небольшая бронзовая фигура на
покатой гранитной сфере. Он весь спеленут - такая у него псевдостаринная одежда. Но пеленки эти нисколько его не стесняют. Он уже освободился от духовных пут церкви. Он вольно оперся на одну руку. Он может довольно свободно двигать другой рукой. И ногами он мог бы шевелить достаточно удобно для одежд ученого того времени. Но как же он воспользовался свободой духа? - Он поджал ноги - стопой на стопу, как это делают от страха. И он потянулся было правой рукой перекреститься, да замер, ибо бесполезно: он-то знает доподлинно, что молитва безадресна, что все, что творится - творится по законам физики, а не по божьим законам. И неоткуда ждать пощады от... от чего? Галилей смотрит вверх, на небо, а тамОткрылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна.
Этот взгляд... Как только Жиргулису удается на лице величиной с ноготь большого пальца сотворить такое выражение. Этот Галилей у Жиргулиса такой же, как Иван Грозный Репина - после убийства сына. Бельмами смотрит он на небо. Беспредельный ужас в глазах Галилея и... ослепительное сияние идет от отполированной бронзы лба и лысины.
"Дооткрывался, революционер в науке!?"- так я переименовал для себя произведение Жиргулиса. И это перекликнулось во мне с современностью, с открытием атомной энергии, грозящим уничтожить не только цивилизацию, но и вообще всю жизнь на планете. И мне стало холодно.
Ни одно произведение на тему о грозящей термоядерной катастрофе, виденное мною, не действовало на меня так, как подействовала эта фигурка величиной с ладонь.
Но предпосылкой ядерной катастрофы являются революции социальные, которых не может переносить Рейган и иже с ним согласные. Так не антиреволюционен ли пафос Жиргулиса, не направлен ли он не только против революций в науке, но и против революций в Афганистане, Эфиопии, Анголе, Никарагуа, Сальвадоре?..
Ведь Галилей Жиргулиса это не Галилей барокко.
"
Галилей [барокко] думал о постижении бесконечного мира, об отражении бесконечного мира в конечном разуме человека. Теория познания Галилея включает понятие абсолютного познания мира - познания математических соотношений, отображающих в бесконечно малом законы, структуру, упорядоченность бесконечного мира. Человек экстенсивно познает бесконечно малую часть мира, но интенсивно, по выражению Галилея, его познание равно божественному".Плюс и минус слиты в Галилее барокко. У Жиргулиса -
акцент на отрицании. И причина этого - отступничество художника от коммунизма.Но честность свою ему, видно, тоже сломить не просто.
И - возвращается сомнение, сомнение во всем на свете, то сомнение, которое погружает душу во тьму, а искусство - толкает к маразму, к выражению получувств и четвертьмыслей, к выражению такого подсознательного, которое никому, и ему самому тоже, не понятно. А если и поймешь - мизерная мысль оказывается."Мгла"... Поначалу я никак не мог ее понять.
На гранитном параболоиде, на четырех коротких латунных
толстых проволоках укреплена какая-то длинная латунная пирога, на которой торчит какой-то латунный сучок - по-видимому, монах стоит в покрывающем голову капюшоне. Под мышкой у монаха приопущенный длинный шест - латунная проволока.Я не мог понять, значит ли что-нибудь четыре проволоки-опоры и значит ли что-нибудь полировка верха пироги и верха
капюшона.Отполирован лоб Галилея, отполирован лоб и платок старухи-надежды. Значит ли, что Жиргулис просто всегда должен
что-то отполировать, раз есть латунь и бронза? Или это что-то содержательное всегда означает?Встретив несколько месяцев спустя и "Галилея" и "Мглу"
на новой выставке, я как-то подумал, а может, нет смысла в четырех опорах. Просто лодка плыла по водной пустыне, пока монах греб шестом, как веслом. Но он уморился: непродуктивно. Не гребет больше. И не пробует найти дно, чтоб плыть быстро - отталкиваясь. И вот - парадокс: он сейчас как раз на таком месте, где можно было б достать дно. Но он не пробует.На него льется свет сверху - ослепительно сияет все,
обращенное вверх. Он мог бы просто увидеть сквозь воду (а она прозрачна настолько, что даже не изображена скульптором), он мог бы увидеть искомое - опору. Но насколько сияет полировка, настолько темно то, что должно быть лицом монаха. Субъективная точка зрения, внутренняя мгла всесильна, и никакой силы света, света истины не хватит, чтобы помочь этому человеку. Как бы ни была объективна истина.Мгла - абсолютна для него.
Небольшая величина данной скульптуры довольно хорошо
соответствует масштабу внушаемой ею мысли.Не больше скажешь и о "Полночи".
Что-то замкообразное (от слов замОк и зАмок) стоит на
бронзовом квадратном листе, тонированном под песчаную пустыню, по которой к замку волнуются струящиеся следы, какой-то энергетический ток... Что это? - Все замерло в полночь? Или: не все замерло в полночь и оживет утром? Последние следы дрожи жизни или залог будущей дрожи?..05.02.84
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ В МОСКВЕ
В АПРЕЛЕ 1985 ГОДА
Луначарский как-то выразился о декадентах, что у них в
произведениях - полумысли и четверти чувств. Именно такое впечатление произвела на меня вся в целом весенняя 1985 года выставка двадцати московских художников в подвальчике на Малой Грузинской.Это было мое второе посещение подвальчика. Первое
– пару лет назад - было при крайней нехватке времени. И, видимо, из-за нехватки показалось тогда, что не хватит и многих часов, чтоб вникнуть в то, о чем "кричали" оппозиционные московские художники.А теперь мне ясно, что то был самообман. Будь у меня
тогда время, я бы увидел, что и тогда в подвальчике были представлены не громады мыслей и чувств, а полу- и четверти-, которые не схватываются из-за их незначительности.Другое дело, что на выставках неоппозиционных художников
и четверть мысли на картину не наберешь.Но правда и то, что более-менее затрагивающих произведений везде - и там и там - всегда почему-то оказывается "раз,
два - и обчелся".У оппозиционеров этим "раз" на этот раз для меня
оказался А.Харитонов с его "Градом Китежем".Теперь, спустя время, мне кажется, что не такая уж фантастическая у него техника, никакой это не род пуантилизма.
Просто обычно написанное просохшее полотно художник, наверно, разделил черными линиями на тысячи ячеек величиной со спичечную головку (иначе как бы в пределах ячейки мог быть неоднородный цвет?).Но тогда - я был ошарашен: тысячи цветных точек...
пуантилизм - а никакой засушенности, самодовлеющей техники. (Ведь пуантилизм утомляет своей занудной скрупулезностью.)Зачем же так расчертил свою картину Харитонов? - А
затем, чтоб создать впечатление мозаики. Мозаичность же ему понадобилась для возбуждения ассоциации с древностью (когда-то же не было живописи масляными красками, были фрески, мозаика...). Одна из картин Харитонова соответственно и называлась: "Воспоминание о древнерусском искусстве" или что-то вроде.И еще одно значение имеет якобы мозаичность "Града
Китежа" - повышенная ценность каждого квадратного миллиметра нарисованного на картине немудренного пейзажа. Труд, мол, потраченный на форму, стоит содержания. Да и никакой там не немудреный пейзаж, а двойственный - немудренно-фантастический. Град же - Китеж!..Если я правильно помню легенду, этот град - Китеж -
скрылся от глаз врагов, сделался невидимым, не прекратил каким-то образом своего существования и может теперь открыться лишь духовным очам посвященных.И вот на полотне изображено, как среди простенького
русского осеннего пейзажа как мираж проглядывает древний город с белокаменными церквами, золотыми куполами и крестами. Строения как бы выглядывают из-за пригорков и перелесков по мановению рук некоего ангела, что на переднем плане. Ангел сам как бы полувидим, состоит из такой же полуматериальной субстанции, как сам град. И вся эта сеточность, мозаичность, точечность, мелькание - внушают, что и град и ангел - то ли есть, то ли нет их.Воплощенное живописание мнимости!
Мне потом подумалось: это - как потаенный квиетист... Он
давно отчаялся улучшить жизнь и бежал от нее. Он "минимизировал свои желания, связанные с внешним миром", "выключился из действий, ведущих к общепринятым и социальноодобренным типам карьер", он достиг этим особой свободы и блаженства в этом бегстве от страшного мира, а чтоб легче было реализовать такой идеал, он, потаенный квиетист, притворился, будто он не отличается от окружающих. Потаенный квиетист - "убежал и вместе с тем не сдвинулся ни на шаг, стал Робинзоном на густонаселенном острове".Наверно, так поступают и тайно религиозные люди, которым, пожалуй, близки, судя по темам, хоть некоторые из
московских художников-оппозиционеров.Но не подвергает ли Харитонов еще и сомнению этот
религиозный - или какой бы он ни был - квиетизм? Ведь призрачность такого существования - судя по зыбкости, бледности, мнимости картины - им осознается. Или наоборот: "Град Китеж" эстетизирует сокровенный мир квиетиста, где "обретают "тихое счастье", владеют скромными радостями", близкими к прострации, находят сладость в покорности судьбе, успокоенность в сознании собственного бессилия изменить мир к лучшему". Что ж выразил Харитонов: сомнение в квиетизме или утверждение его?Оппозиционеру пристало бы утверждать... Ан вот - сомнительно. Мозаика-то его картины фиктивная, а не настоящая...
А вот какой-то бледно-пестрый пейзаж осенний, только без
мистики града Китежа и псевдомозаичности - не вызывает сомнений. "Мирное небо". (Автора не помню.) И выставлено в Центральном выставочном зале на вполне ортодоксальной выставке, посвященной сорокалетию Победы.Да. Утверждается квиетизм. На этот раз непотаенный,
открытый: "Счастье обретается в процессе саботирования борьбы, забот и ответственности" за... мирное небо. Да-да. И это очень характерно для нас, большинства советских людей. За нас несет ответственность за мирное небо - правительство наше. А мы - самоустранившиеся. Внутри страны бороться за мир нам не с кем. Бить стекла в американском посольстве камнями с якобы случайно подвернувшегося грузовика с булыжником - фальшиво. Демонстрировать перед тем же посольством - что собаке на ветер брехать. Мы на факультете как-то в пылу политической самодеятельности общим собранием решили послать письмо в ООН в защиту мира - нас мягко осадили: "Сейчас не время. Вам скажут, когда будет особенно подходящий момент". Мы скисли и от обиды отказались слать вообще...А мир так хрупок. Как эта нежнейших цветов осенняя
листва "Мирного неба". Дунет осенний ветер - и конец красоте; дунет - и не будет этого голубого неба. Но мы, как усыпленные, безвольно и умиленно млеем перед акварельной картиной осени, повторенной - диво - масляными красками.На всех других пейзажах с братскими и персональными
могилами воинов обелиски как-то выделяются из окружающей природы. Как что-то волевое, как напоминание. И это, не побоюсь сказать, несколько фальшиво. Выспренне. Натянуто. По крайней мере, не ново - нам каждый день капают на мозги. А в "Мирном небе" обелиск слился с природой. Его белая колонна как бы не отличается от белоствольных берез. И нет режущей глаза алой звездочки. И архитектура такова, что кто его знает, может, это один из бородинских обелисков, что попроще. И никакой защитной силы в этом протянувшемся к небу белом мече. Вытянулись вверх белые столбы - природные и рукотворные. К синему мирному небу. Тихо. Красиво. Хрупкокрасиво. Беззащитно красиво. Глаза вот-вот защипает - так беззащитно, так бледно-бледно видится в потоке света этот осенний пейзаж, как бы на грани исчезновения. И оттого он тем более драгоценен.Чем не политквиетистская минимизация потребностей: ограничение самым элементарным - мирным небом...
То ли дело картина "Родина" (опять не запомнил чья). Уже
самой величиной (что-то около 2 метров в высоту) она утверждает не минимизацию чувств и желаний, не подавление общепринятых страстей, а нечто обратное.В ней тоже есть туманность. Но это - туманная даль,
жаркое летнее марево, противопоставленное вполне вещественному переднему плану, хоть и очень мало места занимающему, но все же имеющемуся: несколько дубовых листьев в верхнем правом углу, две веревки качелей по центру картины и досчатая перекладина этих качелей (внизу) с положенными на нее ромашками. И все. Но это - настоящее. Материальное. Натуральное. Крепкое, как дуб. Общепринятое, как качели. Хоть и оставленное, например, как детство, зато оставившее в душе прочную точку отсчета... и экспансии: "Мое. Все - мое, как родина - моя".Вот это - взгляд хозяина большой жизни.
Жаль лишь, что зачем-то нарочито неумело нарисованы
дубовые листочки... Что, если в этом намек на еще юношескую наивность человека, озирающего дали?..
О Ш И Б К А
Я был неправ. В чем-то...
Осенью 1985 года в Каунасе была всесоюзная передвижная
выставка портретов, демонстрировавшая "наиболее значительные достижения советских художников 60-70-х годов".В это раз, зайдя в музей, я взял себе за правило не
читать подписи, кто тут списан с натуры и кем; не читать - если вещь меня не заинтересует.Шел-шел. Ни к чему не подходил, и вдруг... Портрет - в
гиперреалистическом стиле. Фон, во всяком случае, гиперреалистический: железный забор, в натуре выкрашенный ровно-ровно, наверно, пульверизатором, а на холсте - гладко-гладкими мазками, как бы тоже через пульверизатор. Отслоившаяся кое-где масляная краска в натуре - не разберешь: или так нарисована, что выглядит, как настоящая, или на самом деле отслоилась (или взбугрилась) вот тут на холсте... Полнейший иллюзион. Ну, и лицо довольно гладко написано. Юное лицо, гладкое. Это, впрочем, не новость. Лица, особенно женские, часто выписывают тщательно. Но фон...Зачем он так "выпрыгивает" из картины? Даже цветом -
рыжим,- не только выделкой этой ровной поверхности?Гиперреализм всегда как-то страшит зрителя. Неживые
предметы - от подчеркнутого художнического внимания к ним - кажутся повышенно значимыми: бездушными жестокими властителями над людьми. В гиперреализме отношения "вещь - человек" кажутся перевернутыми.Вот и в данном портрете...
Худенькая (воплощенная хрупкость) девушка с впалой грудной клеткой, узкими плечиками - и цельносварной металлический прочнейший забор; неброский серый свитер однотонный - и
достаточно яркий бежевый цвет лакокрасочного покрытия. Забор и пространство доминирует: человеческий глаз, привыкший к чтению слева направо, самопроизвольно так и скользит вправо, а там - забор. Девушка "пришла" в самый угол холста, пришла справа налево, все пространство оставив забору.Она пришла (а это затрудненное, противовольное движение
- справа налево), она пришла - дальше некуда: только в дверь, что в заборе. Туда - в железный мир. Она - на пороге. Между юностью и взрослостью...Полуобернулась. Взгляд отрешенный, вдаль и с затаенной
горечью: "Прощай, юность и ее идеалы".Солнце - ей в спину. Вечер. Прощальный час дня. Впереди
- глубокий вечер, будущая темнота... там - за дверью.Висит на заборе автодорожный знак, вероятнее всего
(виден лишь уголок), - "Остановка запрещена". "Проходи!- говорит забор задержавшейся на секунду девушке.- Не останавливайся! Вперед!"А это сухой намалеванный по трафарету белой краской
номер двери - "72"... Этот стандартный, нивелирующий шрифт... А у девушки-то - оригинальные черты лица. Такое не забудешь... Что с ним сделает взрослая жизнь, железная, ночная, что ждет ее за ею же отворенной дверью?Юная и обреченная.
Переходное состояние, смутное... И в названии - не
"девушка", а "девочка": "Девочка у желтых ворот". Желтых ворот... желтый билет... цвет измены - желтый... И подпись - Крыжевский. Старый знакомый! Автор картины "Бело-голубой день", на много часов приковавший меня к себе на выставке "Молодость страны - 76", картины, репродукция которой, единственная с выставки, на полный формат попавшая тогда в журнал, кажется, "Работница". А я ж заподозрил тогда в Крыжевском зародыш пессимизма. И вот, оказывается, ошибся. Это в "Бело-голубом дне" был зародыш. А в современной "Бело-голубому дню" "Девочке у желтых ворот" этот пессимизм цветет махровым цветом! А я-то ждал этого от Крыжевского лет через 10.Ошибся.
Но зато я получил еще одно доказательство, что "Бело-голубой день" стоил потраченного на него времени, что он был
картиной, а не портретом. Картиной в том смысле, какой этому слову придавал Луначарский - вершинное произведение идеологического (неприкладного) искусства, поэма в красках.На стене зала, где экспонировалась передвижная выставка
, был вывешен текст с такими словами: "Для "композиционного" портрета этого [60 - 70-х годов] периода характерно новое понимание роли "фона", как реальной духовной среды героя. "Фон" воспринимается не абстрактно, а как активный пластический элемент образной характеристики портретируемого".Среди приведенных в пример фамилий художников Крыжевский
там не был упомянут. Как же - страшный железный желтый забор-ворота - духовная среда героя... юного, входящего во взрослую жизнь... Как бы чего не вышло. А так: заметят - не заметят, авторы сопроводиловки не виноваты.Не упомянут Крыжевский. Но его портрет - "композиционный" портрет, конечно. Он - картина.
И я прав относительно всех его картин, хоть и ошибся с
художником лично. Видимо, он - шире его отдельных работ.
ВЕСНОЮ 1987 ГОДА В ОДЕССЕ
Сейчас я дам отчет не по виденным мною картинам с
персональной выставки Люсьена Дульфана в музее западного и восточного искусства, а по разговорам художника перед несколькими зрителями.- Вот видите,- говорит Дульфан, указывая на одну из
"картин",- нарисована птичка. [Действительно, на не очень-то подходящем месте, кажется, на локте кого-то было нечто вроде воробья.] Так вот, я ту птичку не хотел рисовать. Вернее, моя голова не хотела. Это сделала моя рука. Она поднялась и мазнула. Я хотел стереть тряпкой, но остановился: птица же! Лишь когда рука это сделала, голова поняла, что так и нужно было. Когда художник достигает вот такого состояния, когда рука ему как бы не подчиняется, а рисует сама,- вот то и называется вдохновением. Священное состояние, и что выйдет из него - судить не дано никаким головам.Публика молчала.
- А знаете,- воспламенился Дульфан,- как я делал вон ту
картину? Я налил на полотно керосин. Потом налил туда красок. Пусть растечется. А назавтра подошел и посмотрел - почти готовая вещь. Понадобилось добавить лишь чуть-чуть. И - готово. Все определило наитие... когда я разливал краску по керосину.Публика молчала.
-
Впрочем,- продолжал Дульфан,- я не исключаю толкования. Я очень благодарен: один человек мне растолковал вот это [Дульфан показал на другое полотно, где было такое же нечто неопределеннейшее, как и повсюду; в чем заключалось толкование, Дульфан не произнес].- Все это имеет отношение к мистицизму,- заявила сановного вида дама, слушавшая художника и старавшаяся не показать растерянности.- Но признайте,- попросила она,- что имеет же это какое-то отношение и к действительности. Ведь мы
же с вами материалисты?- Материалисты, идеалисты,- напропалую залавировал Дульфан, стараясь показать себя бесстрашным, но и не оскорбить
господствующую идеологию.- Я не учился на философском факультете. Я не знаю, как это называется, и меня это не интересует. Я рисую то, что я чувствую.- Но ведь не происходит же этот процесс совсем мимо
головы?- Происходит. Когда я достигаю вожделенного вдохновения,
то у меня что-то,- я не знаю, что это,- идет вот отсюда [Дульфан приложил левую руку к сердцу] и проходит прямо [Дульфан провел левой рукой от сердца через плечи к правой руке] сюда. Минуя это [он указал на шею и то, что выше]. Я лишь потом могу посмотреть, что вышло и как-то объяснить... Вот, например, картина "Моя семья". Я в ней хотел выразить радость. Радость пребывания в своей семье. Люди разные. Одни - горят на работе. Другие - еще где. А я отхожу душой в своей семье. Потому что я ее люблю. Там - мое. Вот это состояние (красками, не чем-то еще) я и выразил а "Моей семье".Я пошел посмотреть, что ж это за воплощение радости.
Оказалось - мазня не хуже и не лучше всего остального. Можно было угадать, кто на полотне изображает самого Дульфана. У этого изображения поперек того, что означало лицо, была некая темная палка. Усы,- догадался я. У самого художника, выступавшего поблизости, были роскошные гусарские усы, очень длинные и торчащие на концах совершенно горизонтально, будучи скручены в тонкие стрелки; состояние скрученности Дульфан непрерывно поддерживал, ежеминутно подкручивая кончики усов пальцами.Я не почувствовал радости от этих довольно-таки ужасных
приблизительных красочных намеков, что изображены - люди. Даже какой бы то ни было необычности самих цветовых пятен - тоже не было.Признаю, что один и тот же прием в разных произведениях
может означать совсем противоположное. Подробность в гиперреализме вызывает страх. Подробность в просто реализме - любование. Я признаю, когда ужасно нарисованный человек означает отчаяние художника, дошедшего до мизантропии в своем активном неприятии окружающей действительности. Но признать, что корявым безобразием можно выразить любовь... На это меня не хватает.Боле того. Мне кажется, что меня хватит, чтоб обосновать
принципиальную невозможность того, что заявил Дульфан: любовь к какой-то части действительности выразить... разрушением изображения этой части действительности.Есть великий дуализм в живописи, да и вообще в искусстве: изображение и выражение. И есть (великое - хочется
назвать его так) группирование творцов на части: приверженных больше к выражению и приверженных больше к изображению. Это группирование соответствует всемирной Синусоиде изменяемости стилей во времени.Когда Данте, крайне возмущенный безнравственностью, как он полагал, своего окружения, взялся изображать Беатриче, то
он больше не изображал ее, а выражал ею. "Данте возвысил Беатриче до Вселенной",- написал Де Санктис, этот Белинский Италии. Любовь - символ мудрости. Жизнь - туманы абстракций, символов. Де Санктис еще писал: "Данте превратил Беатриче в философию", "Красота - символическая видимость, прекрасный лик мудрости, за нею - жизнь умственная и нравственная".Вот когда любят такие абстракции, когда любят то, что
нельзя назвать, в каком-то смысле, окружающей действительностью, тогда мыслимо такое превалирование выражения, что изображение разрушается в туманах.Это - особенность взлетающего вверх изгиба Синусоиды.
А вот когда перейдем на соседний по времени изгиб вниз -
с Готики на Раннее Возрождение,- то увидим (у Петрарки) уже совсем другое отношение к антитезе "выражение-изображение". Де Санктис пишет: "Именно тело Лауры - не прекрасный лик мудрости, а тело тревожит его воображение. Лаура скромна, целомудренна, мила, украшена всеми добродетелями, но все эти качества абстрактны, и не в них заключена ее поэтичность. Волнует влюбленного и вдохновляет поэта совсем другое: Лаура и ее белокурые волосы, молочная белизна шеи, пылающие щеки, ясные очи, нежное лицо".Изобразил бы ТАК Дульфан свою любимую семью, тогда не
разошлись бы его слова и дела. А они у него разошлись.Героическое, заоблачное, общественная активность, "горение на работе" - с одной стороны и обыденное, приземленное,
общественная пассивность, "радость пребывания в семье" - с другой, Данте и Петрарка, рабы Микельанджело и натюрморты Хеда, революционные романтики и послереволюционные реалисты и десятки других пар, антитез, подобранные мною, должны были смешаться и вся стройность - нарушиться, чтоб удовлетворить заявлению Дульфана. Поэтому я решил объясниться.Выждал паузу в милой беседе вальяжных зрителей с художником и вступил.
- Скажите: мыслите ли вы художника, который свою любовь
к чему-то, к кому-то, выражал бы похожестью изображения?- Вы кто по специальности?
- Инженер.
- Так вот: мне плевать на ваше мнение.
- ?!
- Да. Вы не относитесь к тем шести из ста. И вы меня не
интересуете.[Немного раньше Дульфан оглашал откуда-то взятые такие
цифры: музыку слышат 40 человек из 100, живопись видят 6 из 100, скульптуру - еще меньше.]- Вы и там всякие врачи и подобные судите себе в своей
специальности. Я же не иду к вам и не критикую вас. А вы, прийдя сюда, считаете своим долгом взять книгу отзывов и понаписать там всяких безобразий. Ну и пишите. Мне плевать.Он стал красен от негодования. Ко мне же подошла со стороны смотрительница зала и зашептала: "Как вам не стыдно. У
человека, может, судьба решается. Специально к нему пришли из горкома, а вы тут мешаете".- Я же не знал, что я тут чужой,- огрызнулся я.
Действительно, судьба (в дульфановском понимании ее).
Он, чуть раньше, отвечал, почему не носит свои произведения в комиссию для оценки и последующей продажи: там слишком-де низкие цены на них назначают. "Я им сказал,- с пафосом произнес Дульфан,- лишь я знаю настоящую цену моим картинам. А к вам я больше не прийду! - И не иду".Дульфан, видимо, настаивал на изменении правил оценки,
что для такого, явно пробивного типа могло быть равнозначным повороту судьбы: мало ли в большом городе суетливой пустоты, спешащей за модой; его же, Дульфана, склоняют и за границей (как следовало из особого раздела экспозиции). Да и судя по либеральной экспликации на стене зала судьба вот-вот могла повернуться: второй раз, после 25-летнего перерыва, но явилась же - его выставка. Чаши общественного, и еще чьего-то мнения, колебались. Я действительно в неподходящий момент высунулся. Даже книга отзывов была хитро спрятана: столик был из двух плоскостей на близком расстоянии друг от друга, верхняя плоскость закрывала книгу, лежащую на нижней плоскости. Я б и не увидел. Да Дульфан вытащил ее мимоходом и взял себе под мышку. И ушел в другой "свой" зал.Я ушел вообще.
Каково же было мое удовольствие, когда
, вернувшись из Одессы и разворачивая завернутые в газеты пакеты, я наткнулся на достойную отповедь Дульфану. В одесской газете "Знамя коммунизма" от 28 февраля была статья "Художник против художника". Ее автор, искусствовед О.Савицкая, нашла такой замечательный тон, чтоб поставить Дульфана на место, что я обильно процитирую ее статью."
О живописце необходимо судить по его работам. Казалось бы, это истина бесспорная. Но бывает так, что рядом с художником (многие мастера служат тому примером) существует некий образ, то, что у киноактеров называется "имидж". Не в последнюю очередь служа рекламным целям, имидж, тем не менее, свидетельствует об артистизме натуры, природной склонности к игре.Одесский художник Люсьен Дульфан такой имидж себе
создал. Его чертами являются внешняя независимость, склонность к эпатажу, эксцентричность и обаяние. Отталкивая, он умеет привлекать, и восклицание: "Ах, этот ужасный Дульфан!" легко переходит в "Ужасно милый"... Имидж имеет полное право на существование. Вопрос в том, кто кому служит - имидж искусству художника или искусство - имиджу.Открывшаяся в музее западного и восточного искусства
персональная выставка Л. Дульфана дает возможность познакомиться с тем, что он делает у себя в мастерской как живописец. Итак, перед нами - истинное лицо художника, холсты, говорящие сами за себя.Они очень эффектны, эти полотна. Они бросаются в
глаза месивом цвета, сквозь которое сквозят контуры фигур, атакуют зрителя динамикой техники, сгустками и подтеками краски. Но живописная атака, задев глаз, проходит мимо души и сердца. Почему?По способу работы с живописным материалом полотна
Дульфана во многом перекликаются с произведениями молдавского художника М. Греку. Но это сходство – чисто внешнее. Мир Греку целостен, поэтичен и одухотворен. Движущийся цвет его полотен словно подчиняется ритмам окружающего мира: текущая краска пробивается на поверхность холста подобно ростку дерева или роднику. Греку вторит своим действием действию природы. Дульфан совершает те же жесты, но они не обеспечены душевным движением, живым наблюдением и влюбленностью в мир. При внешней экспрессии Дульфан - художник отвлеченно рационального склада. Неслучайно показанные на выставке пейзажи малочисленны и выглядят подчеркнуто искусственными. Настроение и атмосфера - понятия, свидетельствующие о чуткости художника к среде, о способности дышать с ней одним дыханием, лежат вне плоскости интересов Дульфана......Дульфан компенсирует недостаток поэзии литературностью сюжета, и тогда возникают работы, где абрис
человеческой фигуры дает повод повесить этикетку "Времена года", "Лето", "Гроза" и т.д. Являясь по сути аллегориями, эти полотна обнаруживают преемственность с салонной живописью XIX века, изображавшей те же "времена года" в виде женщин, задрапированных (или незадрапированных) в красивые одежды.Но сами по себе литературность или повествовательность, тот либо иной живописный прием, наконец, рациональный или эмоциональный склад характера не являются
достоинством или недостатком. Они становятся таковыми, лишь слагаясь (если это происходит) в целое художественного образа. Настораживает то, что построение образа носит у Дульфана какой-то механический, если не сказать, арифметический характер. Подтеки коричневой краски (живописный прием) плюс четкие силуэты зданий (смысловая подсказка) равняются "Утру 1942 г. в Одессе. Крику 42". Светлая женская фигура изображает "Утро", но уже мирное. Палец, приложенный к носу, значит "Обоняние" (на выставке представлена серия работ). Эти холсты построены по логике имиджа, а не художественного образа, они направлены вовне и читаются сразу. Но достаточное для позы или шутки - недостаточно для искусства. К сожалению, подобное происходит в центральном на выставке цикле "Интерпретация картины итальянского художника XVII века Караваджо "Взятие Христа под стражу" или "Поцелуй Иуды".Скажем сразу, выбор темы беспроигрышно работает на
имидж: обращение современного художника к евангельскому сюжету, опора на произведение Караваджо, являющееся гордостью музея,- все это заинтриговывало, отталкивало и привлекало одновременно. Выбор темы обнаружил в Дульфане бесспорный талант мастера рекламы. Оставалось узнать, как он выскажется в качестве художника.За века существования евангельская легенда подвергалась разным толкованиям, но неизменным оставалась ее
эпичность. Шкала нравственных ценностей, по которой предательство есть худший из грехов, пребывала нерушимой. Так было в каноническом варианте и сохранилось в самых неожиданных и спорных прочтениях сюжета. К последним принадлежит трактовка, так сказать, оправдывающая Иуду: тринадцатый апостол, зная, что учитель будет предан, берет "грязную работу" на себя. Но даже перелицовывая мотивы поступка, эта трактовка не меняет смысла понятия. Оправдывая Иуду, не оправдывает предательства, так и остающегося грехом и "грязной работой".Никто из прикоснувшихся к этому сюжету не мог
миновать его сути. Никто, кроме Дульфана. Он предложил ряд вариантов, разрабатывающих различные композиционные схемы, тот либо иной цветовой строй (в этом плане наиболее интересными выглядят двухфигурные композиции). Герои в них могут быть противопоставлены друг другу, потом объединены колористически... Но выявить характер образности полотна, не говоря уже о его соотнесенности с сюжетом, невозможно. В этой ситуации полной неопределенности центром картины становится силуэт попугая. Этот славный попугай является, пожалуй, единственным самостоятельным вкладом Дульфана в трактовку вечного сюжета......Не стоит упрекать Дульфана за обращение к евангельскому сюжету и предъявлять ему упреки в цинизме.
Стоит посочувствовать легкомыслию и посоветовать переименовать цикл, назвав его, скажем, "Группа людей с попугаем", что точнее отразит суть сделанного и снимет обвинение в спекуляции сюжетом......А в целом в большинстве холстов чудится какая-то
растерянность, словно за уверенным: "Чем вас еще удивить?" слышится: "А что же надо?". Но душевный надлом и сомнение в себе - это то, что нельзя взять взаймы или отдать на откуп имиджу. Если Дульфан не побоится задать следующий вопрос: "Кто же я такой?", он выиграет как художник... Неуравновешенность и нервозность обернутся образной конфликтностью и умением размышлять о непростом мире. Рациональность может стать сильной стороной. Наконец, маскарадность, то игровое начало, которым так щедро наделен Дульфан, сделает его работы образно подвижными...Стоп. Почему кто-то должен подобно археологу, по
осколкам собирать то, чего нет в природе? Может быть, художнику это не нужно. Может быть, его призвание - вращаться на перекрестке художественных идей и приемов, выхватывая очередную находку, жонглировать ею, интригуя зрителей. Во время этого вращения к нему пристают этикетки "концептуалист", "формалист", "салонный живописец"... Все они ему к лицу, образуют пестрый, как у арлекина, наряд, бросаются в глаза, сзывают публику.А что в этом плохого? Арлекин - фигура вечная, и с
ним никогда не бывает скучно. Арлекин морочит зрителей, а они его за это любят. Легкомысленный и расчетливый, он всегда побеждает и выходит сухим из воды. Под аплодисменты публики арлекин веками царствует на сцене... Да, но на сцене, в другом виде искусств, где образ живет лишь мгновение и не надо оставлять после себя свидетельства своего духовного опыта – живописные полотна, картины, которые Дульфан мог бы создавать".Статья была опубликована за неделю до моего посещения и
приглашение "начальству" было, наверно, контрдействием Дульфана. Не знаю, чем оно кончилось. Такую, явно не имеющую своих выношенных убеждений, какой себя показала (как ни скрывала), деятельницу из городских властей, что я застал, Дульфан, может, и обворожил. И судьбу свою обеспечил сколько-то. Если так - плохо.Я не против устройства его выставки. Должны быть образцы
того, что такое плохо. Статья Савицкой появилась. Публика почитала. Думаю, не без пользы для себя (даже если и не видела полотен Дульфана).Или вот. Я не против такой, например, спонтанности, как
невольно появившаяся птичка. Я вообще не против проявления бессознательного в творчестве. Как-то прочел, что замысел суриковских картин возникал из импульсов чисто живописных: вид черной вороны на белом снегу послужил толчком для создания "Боярыни Морозовой", а с блика, рефлекса от свечи на белой рубашке началось "Утро стрелецкой казни", и что одним этим уже Суриков предварил будущие искания мастеров "Бубнового валета". Но сколько же еще есть всякого в суриковских картинах. Вот хотя бы это (совсем не в духе передвижников) поэтическое отношение к истории. Передвижники ж судили действительность, в том числе и историю. А Суриков - любовался ею такою, какая она была. Например, потому нет повешенных в "Утре стрелецкой казни"... Трагизм истории...Объективный трагизм... В этом уже - определенный выход за
пределы передвижнической эстетики. Вот до какой грандиозности дорастает случайность и живописность.Против чего же я? Против спокойного отношения к Дульфану. "Одним - нравится, другим - нет
",- как бы примиряет экспликация в музейном зале. "Дульфан, собственно, не художник, а этакое исключение, как андерсеновские портные",- вот пафос статьи Савицкой.А Дульфан - не исключение, и не безобидное, а один из
многих. Надо дать ему четкую этикетку, а не "пестрый арлекинский наряд из этикеток", который ему "к лицу". Савицкая исхлестала его изящно, как бы по-женски. А надо бы ему еще дать грубо - по-мужски.Он действительно формалист. Но этого мало.
Есть формализм и формализм.
Луначарский, например, по моим наблюдениям различал семь
(7!) видов формализма. И далеко не ко всем относился отрицательно (а его отношение - много значит, ибо это был великий критик начала ХХ века).Не будем говорить о тех формализмах, которые не имеют и
отдаленного отношения к Дульфану: о формализме искусств, бедных содержанием (орнамент, например), о формализме коллективного творчества в прошлом.Стоит упомянуть (по противоположности Дульфану) о формализме преемственности, когда нечто новое появляется органично, на основании усвоения всего прошлого, усвоения, т.е.
изучения содержательности старых форм, и когда свое творчество, являющееся прибавлением к старому не может быть разрывом формы и содержания. Итак, формализм преемственности, это не про Дульфана.Обязательно надо упомянуть о "революционном" формализме,
к которому Дульфан, вследствие своей напористости, мог бы примазаться. Формалист "революционер", страстно гонящийся за оригинальностью, доходящий до оригинальничанья и кривлянья, причем не мысли и чувства, а формы, противопоставляет себя, свою личность-однодневку вековому строительству. Это - по-плохому звучащее определение. Более терпимые к нему поименуют это все экспрессионистской тенденцией в широком смысле и обоснуют социологически - уникальностью конца эры эксплуатации, а теперь еще и уникальностью момента, когда возможен конец жизни на Земле. Луначарский тоже мог терпимее говорить о "революционном" формализме, повторяя за его представителями, мол, равномерное развитие форм время от времени прерывается и наступают, так сказать, мутации: множество новых неуравновешенных форм, из которых выживают потом самые приспособившиеся.Но неуравновешенность-то и приспособленность оцениваются
в отношении к содержательности, которой, похоже, у Дульфана вовсе нет. Ну, не предположить же, что Дульфан ненавидит, например, себя и семью и потому создал безобразие под названием "Моя семья".К тому же, если я смею (неэрудирован) утверждать, по-моему, не дал ничего нового Дульфан и в форме. Все уже было.
Например, в каких-то там портретах он объем "лепит" не цветом, а доходящим до сантиметров четырех слоем краски. Было. О такой тенденции с презрением еще в прошлом веке писал Эжен Фромантен. Что еще? Неоконченность, эскизность, ненатуральный цвет - было. И говорить нечего. Золотую краску в одном месте ввел Дульфан - было: и в средневековье и в Возрождении.Но, возможно, что-то он и изобрел. Вон Савицкая пишет о
контрасте фактурного письма (с грубейшими следами движений кисти) и гладкого:"
...какие-то неровность и неурановешенность сквозят в контрасте фактурной живописи и гладких поверхностей. В небольшом цикле "Казнь", "Прощание" и других этот фактурный конфликт рождает драматическое противостояние статики человеческих страстей и бесконечности вечного неба".Может, другие не противопоставляют настолько - в одной картине - грубость и гладкость. Я еще Дульфану воздам...
Наиболее, вроде бы, близки к нему рассуждения формалистов "эволюционистов". Они абсолютно и принципиально отказываются от передачи содержания, от связи с жизнью. Все внимание уделяется внутренним, специфическим проблемам: конструктивным, виртуозным и т.п. Утверждается, что формы сами рождают друг друга с неизбежной внутренней логикой.
Последнее, впрочем, уже приближается к формализму преемственности. И вообще, превращения форм это категория истории искусства, а не истории создания произведения, например,
якобы случайное, но внутренне необходимое появление на холсте птички.Что же касается абсолютного и принципиального отказа от
содержательности и связи с жизнью, то как понять включение в название, скажем, даты 1942 год, или как понять "любовь" Дульфана к "своей семье", или - благодарность его интерпретаторам, которые ему рассказали (а он принял), что это он такое нарисовал. Толчется все же он где-то возле связи с содержанием и жизнью. Значит, непоследователен Дульфан. Или просто нечестен. Содержания-то у него нет, но не потому, что он его принципиально не хочет, а потому, что ничто его не волнует настолько, чтоб не мог "молчать", чтоб он не мог не "сказать".Гораздо ближе, по крайней мере, психологически, Дульфан
к разряду формализма, называемому Луначарским формализмом шарлатанной преемственности: "творец" - "не имеет в себе единственно истинного содержания, то есть не имеет в себе богатых, потрясающих его переживаний, но зато так научился... формам, что создает произведения, в которых содержания на самом деле нет, но которые производят обманом социальные сдвиги, то есть кажутся содержащими в себе такие переживания. Такой шарлатан может иногда достигнуть величайшей виртуозности".Я не думаю, что Дульфан достиг какой бы то ни было виртуозности по части формализма шарлатанной преемственности.
Почему? Потому что я очень доброжелательный зритель. И если б была хоть малая возможность, чтоб его "картины" произвели обманом на меня какое-то впечатление, то это бы произошло. Скажем, подтеки коричневой краски в "Крике 42" ассоциировались бы с коричневой чумой фашизма, а слова "Утро" и "в Одессе" в названии этого же "Крика" - с утром сбора тысяч евреев на марш смерти. Но этого не произошло. Ни разу. А раз нет, то я и в таком формализме отказываю Дульфану.У Луначарского есть последний ранжир - формализм откровенной шарлатанной, но не преемственности уже, а оригинальности. Он его подробно не описывает. Наверно род художественного хулиганства, издевательства над зрителем. Эпатаж -
называется красиво. Мне рассказывали откровения одного такого. Он намалюет абы что и потом смеется, как глубокомысленно публика рассматривает и серьезно относится. Смеется - втихомолку, или с близкими приятелями. Вот туда Дульфана я и отнесу, в расчете, что я все же какую-нибудь новинку да не заметил как именно новинку, никем не применявшуюся. Не в его это духе: как-нибудь по-особенному не выпендриться. Просто я мало эрудирован.И в свете такого вот своего мнения о месте Дульфана в
ранжире формализмов я бы не хотел согласиться с О. Савицкой, что Дульфан способен писать настоящие картины, стать художником настоящим, а не мнимым. Я могу признать, что у него есть живописный талант, т.е. глаз и рука. Но давно признано, что талант - это еще довольно низкая ступень, находясь на которой невозможно писать по крайней мере картины, в том смысле этого слова, в каком понимал его тот же Луначарский - писать живописные поэмы в красках. Поэмы. Для этого нужны не только глаз и рука, нужна личность, нужны душа, ум и сердце. А мне не хочется верить, услышав и увидев все, что я слышал и видел, что Дульфан - личность (не путайте личность с индивидуумом).Своей крайней точкой зрения я невыгодно, сознаю, отличаюсь от Савицкой. Что ж, таково, считаю, мое амплуа - быть
резким. Прав ли я, покажет будущее.Пусть я окажусь не прав, и Дульфан, послушав Савицкую и
тех, кто с нею, станет писать не живописные полотна,- в буквальном смысле этих слов,- а картины, берущие за душу. Я не постесняюсь ему при случае признаться в ошибке и не постесняюсь покаяться перед моими читателями.19.03.87
Конец третьей интернет-части книги “Записки благодарного зрителя”