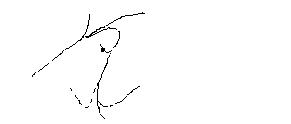
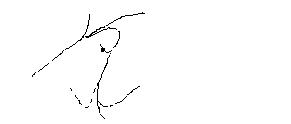
С. Воложин
Белютин, Жутовский, Абоев,
Петров-Водкин, Волошин, Рерих,
Романова, А. Иванов.
Художественный смысл.
| Наслаждение – открыть художественный смысл целого произведения в любом его элементе и говорить об этом, а не – вообще о творчестве или конкретно - о биографии или общественном признании художника. |
Пятая интернет-часть книги “Записки благодарного зрителя”
А ПУТИНА, МОЖЕТ БЫТЬ, - ОТ СЛОВА "ПУТЬ"...
Москва - Рига - Одесса
На стыке 1990 и 1991 гг.
I. НА БЕЗРЫБЬЕ И РАК - РЫБА
Так редко бывает на выставках, чтоб картина со мной "заговорила", что когда какая-нибудь где-нибудь "вымолвит"
вдруг мне хоть "слово" - уже маленький праздник.Таких маленьких праздников много мне выпало перед вновь
официальным праздником католического и протестантского Рождества, и случилось это в Москве и Риге.МОСКВА
В выставочном зале Союза художников среди современных
авангардистов, все, как один, "молчащих" передо мной, была посмертная выставка совсем не авангардиста - некоего А. С. Алымова. И одна из его вещей из серии "По декабристским местам" мне "шепнула" свое другое название: "Померещилось".Изображен богатый интерьер. Выделаны контурами и штриховкой мельчайшие детали ваз, лепнины на потолке, мебели,
портьер, гардин. И - несколькими небрежными штрихами - недорисованный (без одной ноги) Пушкин, прислонившийся к подоконнику и читающий с листов, рука на отлете, свои стихи..."Померещилось" - переименовываю рисунок. А раз переименовываю, значит, уже ЧТО-ТО.
У Алымова в той серии много рисунков, которые так же
можно было б переименовать - "Померещилось". Например, дом, где собиралось общество "Зеленая лампа"... Обычный старинный дом в Ленинграде. Снуют обычные прохожие, наши современники, вот только один из них - в цилиндре и крылатке - Пушкин, кажется. Померещилось... Только совсем уж материализовался тут Пушкин. А зря. В "Интерьере" - лучше (когда полунарисован). Там - как бы воочию померещилось.В манеже была огромная выставка художников времен "оттепели", разогнанных Хрущевым в конце "оттепели". И тут я вынужден был признать, что честный авангард – это таки кое-что.
Повлияло то, что все, о чем прозрели те художники 30 лет
назад и что невидимо было тогда мне, двадцатилетнему, и миллионам мне подобных: назревающая экологическая, нравственная, социальная и т. п. катастрофы в СССР (покинутые деревни, разбитые церкви, умирающие городишки, гибнущая природа, уродующий урбанизм) - все это стало теперь, в перестройку, кричащей очевидностью. Все невнятные гримасы, навороченные, наляпанные, намазанные художниками на холстах, теперь "говорили", "кричали". Вернее, "мычали", хоть и сколько-то внятно,- в общем, одно: "О, ужас!""Все в прошлом". Картина Лавровой. 1961 год. Вроде церковка, вроде дома - размытыми цветными пятнами. Черной краской, штрихами несколькими - то же, тут же, смещенное чуть-чуть относительно пятен.
Размытость пятен - расплывающаяся память. Каркасная резкость штрихов-погорельцев - жалкие остатки прошлого в дне
сегодняшнем..."Портрет реабилитированного". Грибков. 1962 год. Серое
ничто осталось от седого человека. Это случай, когда серая пляма вместо лица - уместна. Как и аскетизм черно-серого колорита.Но вообще-то, лишний раз подтверждается, что без идеала
художник не может создать высокое искусство.Действительно, ну что это за высота, если сотни картин
на разный по форме лад "твердят" одно и то же короткое: "О, ужас!"Грош цена их формальным ухищрениям
. А если даже через некую цепь рассуждений приходишь к этому "О, ужас!" - разве лучше.Нашелся эрудированный доброхот, объяснивший мне кое-что
в нескольких произведениях главы той группы художников - Белютина.Огромные полотна. "Сестры" - называются два из них,
"Мать и дочь" - два других. По форме это гигантские каляки-маляки. Несколько переплетенных друг с другом корявейших колец разных цветов. И вот эрудит действительно логично выводит из формы и цвета колец, что сестры хоть и сделаны из в общем одинаковых по контуру элементов, хоть и похожи друг на друга физически, но по цвету и нюансам контуров (теплые - холодные, плавные - угловатые), т.е., понимай, по характеру - эти сестры прямые противоположности. А мать с дочерью, в таком же духе, хоть не столь похожи физически, зато по характеру они гораздо больше схожи.Ну и что? Разве ради такого замысла стоило тратить так
много холста, красок да и времени, чтоб такую площадь красками покрыть?Ну пусть даже художник, может, бессознательно ТАК не любил окружающих его людей (а люди действительно могут быть
ужасны в иное время с иной точки зрения), что не хотел их изображать, а хотел только выразить, только крикнуть им: "Вы - ужас! Все!" Что из того, если приходит это к вам только через ум, а не через все ваше существо, не через чувство, не через подсознание в первую очередь.Нет. Отсутствие идеала способно искусство только убить.
И, считаю, я видел в Манеже одну из его агоний.
РИГА
Однако, невнятность, размытость и безликость вовсе не
автоматически означают агонию.В рижском художественном музее были две разделенные по
национальному признаку выставки: "Латышское искусство" и "Русское искусство".Безликость, о которой я сейчас хочу говорить, не имеет,
оказалось, национальной окраски ни по форме, ни по содержанию. А говорить я буду о двух картинах, созданных в Латвии."Мать". Грубе Эдвадс. 1974 год. Младенец на руках у женщины.
Размытость и безликость - обычно негативно окрашенный
элемент произведения. Но, видно, не всегда. Если это - характеристика размытого воспоминания о приятном, общего впечатления о хорошем, то положительная оценка возможна.Помним ли мы себя младенцами? Вряд ли. Но если помним
(чего не бывает!), то достаточно смазано должно быть это воспоминание. И о себе, и о матери. Вот почему у Грубе нет обоих лиц. Зато есть мягкость, нежность, прямо перетекание от одной фигуры к другой. Они обе - как в общей ауре чуткости. И этот теплый красноватый фон, и теплое темно-коричневое платье, и гладкопись слитых друг с другом мазков - все - во тьме далекого воспоминания, но и - в свету добрых чувств."Латгальское предместье". Е.Е.Климов. 1927 год. Утро.
Больше ни на что не обращается внимание художника. Только на утро. Ни на людей, ни на строения. Внимание - только на то, что солнце уже высоко поднялось и хороший день (что редкость в Риге, этом едва ли не полюсе переменчивости погоды). Как будто человек после вчерашней пьянки проснулся поздно, вышел на улицу, еще ничего не сознавая, и вдруг увидел, что уже позднее утро. С любовью посмотрел на знакомую улицу, дымку позднего тумана, лучи солнца, пробивающиеся между домами и видные из-за этого тумана. Кое-что очень даже хорошо видит "обозреватель". И адекватно изображает наблюдаемое. Вот только на редких прохожих на улице, видно, незнакомых (в отличие улицы, которая знакома), да, впрочем, и на местных лавочках и грузчиках, на их тачках - глаз не останавливается. Они изображены очень общо, едва разгадываемыми пятнами.Что этим выражено, я не знаю, но, думаю, изображен феномен разной концентрации внимания. И утро тут - точно не агонию выражает.
Какую же социальную или психологическую базу можно было
б подвести под такое вот еще неагонизирующее искусство? Не знаю, как о Климове в Латвии 1927 года, но о Грубе в Латвии же в 1974-м кое-что предположить можно. Едва не в тот же год я разбирал творчество скульпторов Антинисов (из Литвы), отца и сына. Те тоже разрабатывали, как и Грубе в картине "Мать", семейную тематику. И я, мне кажется, достаточно логично и на многих примерах доказал, что выбор Антинисами идеала семейственности - это бегство от действительности, ныне именуемой застоем.Но поскольку какой-то идеал еще остается в душе художника, постольку его искусство еще не агония. Как, впрочем,
поскольку он разочаровывается в своих идеалах: в одном, в следующем и так далее,- поскольку он приближается к, так сказать, безидеальности, постольку он приближается к агонии своего искусства. Безликость у Грубе - не случайно именно безликость. Антинис-сын (отец вскоре умер) через несколько лет тоже дошел до безликости в скульптурах.Истины ради отмечу, что Антинис-сын, убежденный приверженец "искусства для искусства", прочитав тогда мой разбор и
вывод, не согласился со мной, имея в виду, что я занимаюсь вульгарным социологизмом. Ну а я не согласился с ним. Художнику в принципе не дано словесно осознавать смысл своих образов.Искусства для искусства нет, как говорил Плеханов. Хоть
минимум идеи да есть в любом произведении честного художника.В этом я лишний раз убедился в упомянутом Манеже в то,
упомянутое, посещение.МОСКВА
Заинтригованный способностью моего эрудированного собеседника (в Манеже) объяснить что-то в каляках Белютина, я
спросил его, а что он может сказать о знаменитом черном квадрате Малевича.- А вы видели,- спросил он в ответ,- средневековых мадонн с младенцем?
- Ну, средневековых - не помню, наверно, не видел.
- А каких-нибудь видели?
- Конечно.
- А заметили, что там за правым плечиком у каждой мадонны
?- ??
- В левой руке они держат младенца. А за правым плечиком
- что?- ?
- Там есть окошечко. В средневековых - аккуратно заложенное кирпичами.
- ?
- Да. А у возрожденческих мадонн - окошко уже не заложено. Маленькое окошечко, через которое виден кусочек пейзажа.
Ма-а-аленькое такое окошечко.- Да-да, припоминаю.
- Вот. Дальше - окошечко увеличивается. За спиной Джоконды уже целый мировой пейзаж. Изображение окна в мир превратилось постепенно в изображение самого мира. В изображение, все более похожее, неотличимое от самого мира. Вплоть
до импрессионистов, умудрившихся изображать совершенно определенный час дня в природе. И вот тут Малевич "сказал": "Все! Дальше некуда". И нарисовал свое окно в мир - черный квадрат. Первый осмелился "сказать", что живопись зашла в тупик.Собравшиеся вокруг говорившего были ошарашены. Но неудовлетворены. И стали расходиться.
А, думаю, не разошлись бы так сразу, если б эрудит не
остался на формальной траектории имманентного, как говорится, развития искусства, если б переплел эту траекторию с чем-то вне искусства находящимся, с разочарованием в жизни или с очарованием (если очарование и такой вот черный квадрат мыслимо переплести).*
Оказывается, мыслимо переплести очарование и черный
квадрат. Если не ходить по земле фактов, конкретных элементов художественного произведения, а летать свободно, вернее - куда мода подует.А перестроечная мода дует: заявлять, что авангард - нравится.
Через пару недель выставка когда-то опального и подпольного авангарда с Манежа перебазировалась на Крымский вал,
и известинец Павел Гутионтов вот что написал в "Известиях" о ней:"Временные рамки выставки - два десятилетия [1956 -
1976], начавшиеся вспышкой ХХ съезда, украшенные небывалым праздником Московского фестиваля, вдохновленные смелыми и наивными надеждами, перечеркнутыми в декабре 1962-го печально знаменитым "посещением Манежа..."Мой спутник [по нынешней выставке] подвел меня к
картине, которой выставка, собственно, и начинается. Сказал: "Цени! Показываю особо доверенным лицам - и перевернул картину изнанкой. В холсте было ясно обозначенная заплатка, снаружи подреставрированная. "Когда Хрущев на меня орал, он сюда пальцем ткнул. И пробил",- сказал Борис Жутовский, которому в 1962-м посчастливилось стать едва ли не главным объектом злобы, проявленной, как писали в тогдашних газетах, партией и правительством.Картина называется "Портрет Тольки". Толька не понравился - ткнули в лицо... Не понравилась и другая работа того же автора (и тоже представленная на сегодняшней выставке) - "Автопортрет". Здесь Никита Сергеевич объяснил на словах: "Кого изобразил Б.
Жутовский? Урода! Посмотрев на его автопортрет, напугаться можно. Как только не стыдно человеку тратить силы на такое безобразие!.. Чем же он отплачивает народу, рабочим и крестьянам за те средства, которые они затратили на его образование, на те блага, которые они дают ему сейчас,- вот таким автопортретом, этой мерзостью и жутью?.."На мой, менее просвещенный, нежели у премьера,
взгляд, обе картины (и обе мне очень нравятся) написаны с очевидной любовью к тем, кто изображен. Но допускаю, что (при желании) этого можно и не увидеть..."Когда развернулись гонения на Пастернака за "Доктора Живаго" (в те же времена, что и на Жутовского) родилось ходячее выражение у инакомыслящих: "Я не читал, но знаю". Такими
словами один несмышленыш-комсомолец подключился к травле Пастернака. Произнесешь: "Я не читал, но знаю" - в подходящем окружении - и вызовешь смех. А ведь человек действительно может довольно успешно ориентироваться при минимуме информации. Пастернак певец идеала индивидуалистического типа. Официальная пропаганда ориентировала на идеал совсем не индивидуалистического, а коллективистского типа. Такой тоже имеет свою ценность. Комсомолец мог действительно сам не читать, но знать, что Пастернак - не то, что ему нужно.Или скажем так: совсем не обязательно свой круг чтения
формировать методом проб и ошибок. Можно из тобой уважаемых источников узнавать, что читать, а что нет.Не только иронии достойны слова "я не читал, но знаю".
И вот, из общих своих соображений исходя, я смею сказать
со всей... безответственностью самодеятельного критика: я не видал картины Жутовского "Толька" и "Автопортрет", но знаю, что Жутовский не радостью по поводу фестиваля или ХХ съезда или по поводу еще чего-то хорошего был обуреваем, когда рисовал портрет Тольки и свой собственный, что это съезд лишь позволил ему показать на люди свои картины на общую тему "О, ужас!", ужас не только в том, как искорежил культ Сталина Тольку и его самого, а в том ужас, что он, Жутовский, уже и не видит в будущем просвета (что и подтвердил декабрь 1962 года и весь последующий период волюнтаризма, застоя...). Жуть Жутовского (я извиняюсь за каламбур) - навечно. И портреты его - верю - уродливы-таки. И нравиться Гутионтову могли бы за соответствие формы содержанию.Но Гутионтов же не вечную-жуть-во-всех-временах замечает, будучи под настроением от картин Жутовского. Нет. Людей
времени создания портретов Жутовского, 1956 - 1962 годов, Гутионтов называет "вдохновенными", "смелыми", с "наивными надеждами".Ничего себе вдохновенные и наивные надежды, выражаемые
уродами...Просто, боюсь, лицемерит Гутионтов, под влиянием непонятой им моды лицемерит, что очень, мол, нравятся ему портреты
Жутовского. Гутионтов не я, которому рак лишь на безрыбье - рыба.II. РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
А в Манеже, в тот день, когда я наловил раков, мне попалось кое-что и попримечательнее, чем предпоследние фазы агонии искусства.
"Василий Макарович". Абоев. 1983 год.
Сидит на ядовито-зеленом пригорке трагический страдающий
Шукшин. Сняв сапоги, босыми ногами на бедной матушке-земле. Глубокие-преглубокие складки на лбу, на переносице, на рубахе... Даже космы волос кажутся мучающимися, даже клочья травы на пригорке. Зеленая тоска. Что с нами происходит?!.- вспоминается известное восклицание Шукшина-публициста.И я принялся строчить все это на подвернувшийся листок
бумаги.К картине подошла пара.
- Ну вот: плагиат,- констатировал молодой человек недовольно.
- Как?- подняла брови его дама.
- Да это ж украденный мотив у Романовой.
- Какая разница,- вмешался я нахально и запальчиво.-
Главное, чтоб действовало.- Это не художник, раз он берет у другого,- откликнулся
молодой человек.- А вот есть целое течение - постмодернизм,- настаиваю
я.- Там все построено на цитатах, говорят.- Да цитата цитате рознь. Вот рядом: девушка с зонтиком.
Это из Серова, кажется, цитата. Да там трава зеленая – здесь же - розовая, там березка белая - здесь - бурая.- Да-да-да. Вспоминаю. Вы хотите сказать, что относительно Серова, если то - Серов, тут - непокой, встревоженность, отрицание.
- Здесь все переосмысленно. А у этого Абоева - просто
взято.- Но какая мне разница,- не унимаюсь я,- как зрителю,
кто раньше нарисовал. Копии что: тоже запретить делать? Главное, чтоб на меня действовало. А этот Абоев - действует.- Нехудожественным способом.
- Что значит?
- Да вон: газета, на которой сидит Шукшин. Это ж "Литературная газета" с его статьей "Что с нами происходит?". Я не помню точно,- обратился эрудит к подруге,- у Романовой
газеты, кажется, не было? Ну, конечно, не должно было быть. Это ж нехудожественный прием.- Да совсем не из-за газеты на меня действует. Смотрите:
эти изломанные морщины, эта зеленая тоска травы...- Романова на вас еще больше бы подействовала. Помнишь,-
повернулся он опять к своей подруге,- Шукшин в центре, слева - Федосеева-Шукшина, справа - дочка его.- Постойте,- опять вмешался я.- Я вспоминаю, что видел
этот семейный портрет. Тем более: я его видел и теперь точно помню, что он на меня не подействовал, а этот вот, Абоев,- действует.- Да ведь у Абоева все гораздо проще. Наверно поэтому на
вас действует. А у Романовой же - глубина.- Конкретно,- вцепился я.
- Об этом нельзя говорить. Картины нужно смотреть. Тогда
все будет и без слов ясно.- Ничего не будет ясно. Нужна помощь. Словами или еще
чем - не знаю. Как факт: вот эта музыка жуткая в зале сейчас...- Серийная.
- Пусть серийная. И вон те надписи в начале зала об экологической катастрофе и тому подобном, наверно навели меня
на понимание мучительности мыслей Шукшина. А картина Романовой не навела же. Хотя я признаю, что что-то там меня бередило.- У Романовой замечательная картина. Государственную
премию за нее она получила. Да?- отнесся эрудит к своей даме.- А все-таки, в порядке намека, если у вас есть минута
времени - скажите, что там за смысл, что за глубина.- Вы ее хорошо помните?
- Ну, относительно.
- Тогда я вас прошу...
- Скажи, Леня, мне тоже интересно будет послушать.
Я без его подсказок,- говорит мне Ленина подруга,- почти ничего не понимаю.- У Романовой Шукшин одинок. Жена с одной стороны, дочка
с другой - отдалены от него, на расстоянии. Да там целая драма выражена. У каждого - своя жизнь. Видно, что Шукшин - человек совсем другого сорта, чем его семья. Нет ничего общего между ними.- Да-да-да. Соглашаюсь,- поощрил я эрудита.- В этом есть
логика. Но поймите и вы меня. Я теперь вспоминая... Та картина что-то невнятное мне говорила. Но я ее так и не понял. Я ее даже забыл за то, что "молчала" она со мной. Если б не вы, я б ее и не вспомнил. Вы как колдун какой-то. Вы не поверите: что я сейчас вам скажу... Ее репродукция (я сейчас только вспомнил) висела в квартире тещи, где я живу уже три года, и лишь год (после ремонта), как уже не висит она. И я ее забыл. И вот вы...Так вы говорите, что идея картины, в частности, - одиночество Шукшина?
- О, не говорите мне слово "идея"!
- Почему? Ведь каждое произведение искусства, если оно
настоящее,- это идеологическое явление.- О, господи!
- Да не в узком смысле, не в политическом.
- Да ни в каком! Искусство развивается только из самого
себя. И важна в нем, для понимающего в нем толк,- лишь новизна.- Ну-у, не хотелось бы согласиться.
- Идемте, я вам покажу и докажу...
И он повел меня и даму к Белютину, и то, что было дальше, вы уже прочли. Скорлупа рачья.
Но что-то в Лене мне импонировало. Конкретность и доказательность.
Это был не Гутионтов.
III. РЫБНЫЙ ДЕНЬ
РИГА
Я люблю мясо. Ел бы его три раза в сутки. Всегда. Но.
Надо считаться с обстоятельствами. И - рыбой я тоже не брезгую.Рига меня угостила не только раками. Судите сами.
"Горный пейзаж" (Тушь, перо). К.
С. Петров-Водкин. 1920 год.Морской горизонт наклонился... Что это? Дух захватило и
весь мир покачнулся от того, что открылось с высокой точки на перешейке полуострова.Слева море, справа море. Далеко-далеко внизу. Но как ни
далеко - все внимание - волнам. В действительности зритель не мог их так четко видеть с такой высоты и дали. Но на картине "он" их "увидел" - волны. Он их угадал и как бы увидел. И они (от внимания) выросли до размеров домов, что видны внизу на перешейке. Никакого там шторма - в море. Просто изображено домысленное: свежий ветер, энергичные волны, бодрый тонус природы.Есть и люди.
Взобравшийся выше всех, машет, зовет отставших, показывает на море: "Ко мне! Смотрите!"
А те: один - сел, усталый и сбивший ногу, другой - кричит, тоже показывая на море, мол, и отсюда видно.
Но столь стройные ряды волн слева от полуострова, видно,
самому левому из компании, забравшемуся выше всех, виднее. Ряды волн слева перспективно сходятся в точке, находящейся точно над этим крайним слева человеком. Так, как ему,- никому не видно. И он - вертикальный. Все остальное - покачнувшееся - только с такой, с большой, высоты может покачнуться. А тем не менее этот-то человечек как раз вертикален, единственный. Он - победитель.Я где-то когда-то мельком что-то читал об особой, кажется, сферической перспективе у Петрова-Водкина. Будто смотрит
он на землю, а видит земной шар. Кажется, в таком духе писалось.Похоже, что там была правда написана. Романтик, видно,
был художник. И революция - по душе. По крайней мере, в 1920 году он в ней не разочаровался.Не то - М.А.Волошин. 1921 год. "Пейзаж". Из серии тех,
коктебельских, акварелей, привозимых из Симферополя в Одессу в 1989 году.Фантастически роскошные видения разворачивает природа -
целое царство разнообразных облаков: круглых, продолговатых, больших и малых, легких и тяжелых, светлых и темных, взвихренных и спокойных, разорванных в перышки и лежащих глыбами. Феерия. Ничего, что формат картины мал.Целое царство гор раскинулось перед взором. Гористый
остров, гористый мыс, горные нагромождения дальнего берега залива. Берег освещен, остров и мыс затенены. Десятки ложбин, рытвин, промоин.Роскошные кряжистые деревья купами и поодиночке раскинулись по долине переднего плана, спускающейся к заливу.
Но почему все так бесцветно? Что такое происходит в мире, что так смутно на душе от этой роскоши и красоты природы
сказочного, райского места на земле - Коктебеля?..А самый смак был в рериховском зале.
Я после прошлого посещения рижского художественного музея писал, по памяти, что Тибет у Рериха безводный.
Нет. Вот - "Брахмапутра", 1932 год.
Парадоксально широкая в горах и глубокая (сразу у берега
ладья плывет) река. Но зато река не течет, а стоит. Совершенная гладь. Статуарность.Правда, мечутся, вроде, облака. Разорваны в клочья их
края. Облака громоздятся одно на другое: все выше, все дальше. Но почему-то впечатление, что и они оцепенели. Как Брахмапутра! Почему? Наверно, потому, что прямо-таки обведены, отграничены их контуры, какими бы причудливыми и рваными они ни были. Каждое облако - вещь в себе. Никакого смешивания столь зыбкой, казалось бы, стихии.Все это тоже приводит к статичности. Облака застыли в
своих формах.Ну, смешиваются (через туманы) горные уступы на дальнем
берегу реки. Но из-за того, что никаких подробностей нет в изображении тех гор, получается впечатление сплошного монолита неподвижного.Может, все (и твердыня - средневековая крепость на дальнем берегу) застыло в ожидании появления солнца? Но вся
природа уже освещена, а никакого порыва не чувствуется навстречу солнцу.Утро. Одно из самых переменчивых времен суток. А никакой
переменчивости перед зрителем.Застылость. Холодность. И во всех красках холод.
Теплый - лишь красный флаг (один из трех: еще есть желтый и белый), да и тот повис без ветра.
Нет стремления, действия. Есть бездействующее ожидание.
Запаслись терпением надолго. Слишком долго ждать свершения идеала. Этот рассвет - надолго.Я после прежнего посещения рижского художественного музея писал, по памяти, что нет водопадов в тибетских пейзажах
Рериха.Есть. В "Пути" (1936 год).
Загнутые в две стороны, как зубцы крыльев бабочки, остроконечные горы буквально расступаются, чтоб дать прорваться горной реке, состоящей из сплошных водопадов.
Я после прошлого посещения, по памяти, писал, что нет
теплых красок в тибетских пейзажах Рериха.Есть. В том же "Пути", например: розовые, близкие к желтым (хоть и из бледно
-сиреневого, холодного родом) небесные горы - то ли освещенные солнцем ледяные верхушки вдали, то ли причудливые, вершиноподобные облака сияют над синими остриями прорываемых потоком скал-пирамид. Да и справа, на переднем плане, глыба ближайшей горы, крутой, как всюду - теплого коричневого тона. Она как бы предвещает идущему по ней человечку теплоту еще большую, откроющуюся, мол, за нею (справа же).Но, боже! Что за путь у идущего!! Он идет, балансируя,
как по лезвию синего ножа, зазубрины которого повторяют все видимые вокруг синие скалы. "Теплая" скала обманывает путника. Чем? - А, получается, и теплотой цвета и своей, - хоть и кошмарной,- но все же проходимостью: тропа все же на ней.Обман. Тропа обрывается. Движения дальше - не будет.
Вот и поток - какой-то оцепеневший, неживой. Слишком общо он нарисован. Вот и горы - хоть и расступились для потока
- слишком непроходимы для человека.Но свет-то вдали есть?! - Есть!
Однако, немыслимо: как и когда до того света дойдет путник. Нужно большим, очень большим терпением запастись...
Я после прошлого посещения рижского музея писал, по памяти, что нет изменчивости в тибетских пейзажах Рериха.
Есть.
"Тибетский стан". 1936 год. Изображено такое быстротекущее явление как вечерняя заря. Поминутно, должно быть, меняется освещение облаков в заре. Вон есть четыре багряно-красных, одно (подальше) - золотое, а совсем далекие и высокие -
еще ярко-желтые, полыхают по всему небу, уступая холодному фиолетовому высокому бескрайнему уже ночному небу. Свет стремительно движется, уходит.Но зато не движется стан. СТАН. Разбиты юрты, пасется
скот, ужинают пастухи. Разведены костры - бледные и тусклые по сравнению со светящимся небом. Люди не видят его. Они или наклонились к своему тусклому огню, или отвернулись от зари. Они - в быту. Впереди - ночь. Лишь вдали один стоит, кажется, лицом к свету зари: долго ему ждать зари утренней. Нужно хорошо набраться терпения. Так что пусть не обманывает движение и теплота света. Они - уходящие.А вот - дождавшаяся первой утренней зари крепость. "Тибетская твердыня". 1932 год.
Наверно, это все же не лунный свет отбрасывает тень от
выступов крепости. Лунный - был бы ярче. Это - утренний. Вот и коричневые оттенки на стенах. Но, боже, как же медленно наступает утро: во всю сверкают звезды. Это последние, самые яркие звезды. Их мало. Они разрознены. А крепость вся как бы сгруппировалась и ждет. Ждет рассвета. Нужно много терпения, чтоб дождаться. Время как бы остановилось (звезды!). Но крепость ждет. Твердо намерение твердыни: дождаться солнца, как бы ни было долго ждать.Выходит, в прошлый раз, рассуждая о картинах тибетских
вообще, я, в общем, оказался прав. Нынче, отправляясь от конкретики, вышло то же.IV. ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОДЕССА
Закончив свой путь-путину, дома, я отыскал репродукцию
семейного портрета Шукшиных. Все было так и не так, как я услышал в Москве. Дочек Шукшина оказалось две, а не одна. И младшую, похожую на мать, Шукшин обнял за ножки.Впрочем, та как бы отталкивает отца рукой. Не касаясь,
правда. И он отделен-таки от нее изрядным пространством, хоть и обнимает.А другая дочь, босая, как отец, и худая, как он, да наверно и вообще на него похожая - как бы отшатывается от него, привлекаемая матерью. Написал "привлекаемая" и тут же
понял, что мать ее не привлекает, а упирает (отшатнувшуюся) от падения, легко упирает, положив свои ладони ей на плечи.Конечно, здесь совсем разные люди: еще безмятежное дитя
природы - младшая, девочка лет пяти; юная ранняя мечтательница - старшая, лет одиннадцати или даже меньше; уже отведавшая жизни (с тенями под глазами), но еще довольно свежая Федосеева и - как бы много жизней проживший Шукшин.Ну и что?
Я спросил свою дочь, школьницу еще:
- Нравится тебе эта картина?
- Нет.
- Почему?
- Дистрофики они, и каждый - сам по себе.
Ну, дистрофиков, положим, тут лишь двое: Шукшин и старшая
дочь. Младшая дочь и жена - пышки. Вернее было б обо всех сказать - не дистрофики, а аномальные какие-то.Но, в общем, и аномальность и разъединенность - это лежит на поверхности. Это текст. А ведь есть же и подтекст.
И, кажется, я начинаю чувствовать, в чем он.
Если окажется, что я к чему-то прийду, то к итогу меня
приведет вот какое начало (я и три года назад, помню, обращал на этот элемент внимание): неестественно покат срез пня, на котором стоит младшая дочка, соответственно, крут "постанов" ее ступней.А о непонятном крутом "постанове" ступни Иисуса в "Явлении Мессии" Александра Иванова я читал.
Несравненный аналитик деталей картин, Алленов, в своей
специальной статье показал, что Иванов нарушил единство пространства между фоном с одной стороны, т.е. холмом с Иисусом и пейзажем за ним, и, с другой стороны, передним планом:"
Пространство первого плана, где столпились фигуры, изъято из-под власти этой, вернее, ТОЙ глубины путем немотивированного укрупнения масштаба фигур".Пейзаж с Иисусом очень глубокий, но стремительно ушел в
высоту. А все движения фигур переднего плана в сторону этой глубины (и к Иисусу) как бы натыкаются на плоскость. Словно пейзаж с Иисусом нарисован, как картина в картине. Только непонятно, с какого места эта плоскость начинается.Глубина пейзажа, вместе с Иисусом, оказывается как бы
внечувственной, нереальной. Я понял, что это означает, по замыслу Иванова, невозможность людей Нового времени проникнуть в пространство Христа, вполне поверить во второе пришествие его. Еще факт: Христос очень отчетливо написан, не в соответствии с условиями воздушной перспективы. Он как бы близко, как бы вот-вот подойдет. Но... крутой "постанов" его ступни, непонятный в сочетании с относительно пологой плоскостью холма, создает впечатление заторможенного шага, как будто в этой самой точке эта плоскость под ступней изгибается книзу, образуя некий мысленный порог. А поскольку единства пространства нет, получается психологическая напряженность:"
Расстояние, разделяющее "здесь" [передний план] и Христа "там", невозможно мысленно измерить количеством шагов - их разделяет неизмеримое пространство, поскольку оно вообще "тут" и "там", по обе стороны черты, порога в буквальном смысле без-мерно".Т.е., грубо говоря, вера иссякает. Иванов создал "Опять неявление Христа народу", а не "Явление". Это соответствует
тому факту, что все нет и нет второго пришествия Иисуса на землю, тогда как (я где-то читал) особенно ожидали верующие и вообще мятущиеся души второго пришествия в глухое реакционное посленаполеоновское время, время краха революций в Испании, Италии, османской Молдавии, в Петербурге на Сенатской площади, а затем, в 30-м году, во Франции, Польше, в 48-м, по всей почти Европе, время жизни и создания Ивановым своего шедевра.Так я понял. Кое-что пересказал своими словами, кое-что
добавил по своему разумению. Может, неверно. Но, во всяком случае, я хорошо запомнил этот непонятный крутой "постанов" ступни Иисуса. А когда перечитал Алленова, то нашел приметы приема, характерного и для других вещей Александра Иванова:"
Превалирование масштаба... фигур ведет к ощутимости первого плана и, в контрасте с ним,- к специфической отстраненности далевого образа, который в силу все той же диспропорции исключает возможность "вхождения", поглощения ЭТИХ фигур ТЕМ пространством".А это ж - прямо годится к разбору картины Романовой.
Здесь фигуры тоже слишком велики по сравнению с дальним
пейзажем. Оправдано это, вроде, тем, что семья расположилась на пригорке, который незаметно спускается к реке. Незаметно где. Может, за правым боком Шукшина еще пригорок, а за большим пальцем его левой руки - уже низина. Там, вроде, рыжий прибрежный песок проглядывает. Может, бугор иначе проходит. Но ясно, что левая и правая стороны "нашего" берега реки не могут находиться на одном от нас удалении. Левая сторона, хоть река слева удаляется, ближе. Там пригорок. Иначе одноэтажный бревенчатый дом был бы высотой в пять, шесть или семь ростов человека, того, что идет по правой стороне берега. А это невозможно. Значит, дом и семья Шукшина близко, на пригорке.Но чтоб увидеть это оправдание величины фигур - то есть
пригорок - надо много всматриваться и думать. А непосредственное созерцание лишь создает непонятный дискомфорт, тревожность. ЭТИ фигуры людей не поглощаются ТЕМ пейзажем. Они чужие друг другу. А это-то ощущение как раз и нужно художнику. Ибо он выражает дисгармонию между горожанами и деревней.И ничего, что по облику людей на переднем плане видно,
что они по происхождению из деревни. Не выйдет их с деревней слить. Это - семья новой интеллигенции в гостях в родных местах. В гостях и не больше. Он - писатель и актер, она - актриса. Дети - тем паче далеки от деревни и земли.И ничего, что двое из группы опростились, сняли обувь,
босые. Смотрите, как жестко нарисована трава. Не передано ли тут чувство неудобства для непривыкшего ходить босиком горожанина?Несколько травинок и цветов нарисованы так, чтоб можно
было их узнать и произнести названия. Остальные написаны общо. Горожанин перечислил для себя те, что знает, а остальные - трава, неинтересная, чужая и колючая.Вообще взаимоотношения отторжения ног и травы ощутимы
вот в таком нюансе: кажется, что изображение ног положено на изображение травы - как аппликация. Это впечатление происходит из-за бликов на нижних кромках босых ступней, из-за отсутствия теней на босоножках у Федосеевой. Не уничтожают впечатления аппликации и травинки, проецирующиеся на ступни для глаза зрителя. Слишком мало таких травинок в такой густой траве.То же - с жесткой манерой письма всего переднего плана.
Это - невключенность горожан в природу. Не иначе. Уже березы (не входящие, как трава, в отношения с людьми) мягко написаны. И конь. И коновод. Хоть последние и резки на фоне светлой реки. Да и дали, по-моему, скорее ясны, чем резки. В общем, по-разному написаны природа и семья Шукшина. Нет единства.В одном своем рассказе, "Дядя Ермолай", Шукшин вдруг,
неожиданно, чего вообще-то не делает, выступил от первого лица:"
Теперь, мого-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: "Емельянов Ермолай ...вич".Ермолай Григорьевич
, дядя Ермолай. И его тоже поминаю - стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут...[поколение энтузиастов]
...как дед мой, бабка. Простая душа. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только, когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?"А на картине крестьянин ведет по берегу коня. С работы,
наверное, идет. Вечер. Тяжелая походка. А тут - расселись, чистенькие, позируют.Художница, наверно, вот эту, процитированную, муку Шукшина изобразила.
А мука эта - не только относительно себя, но и относительно всей семьи. Шукшин, может, и хотел бы привить к старым корням своим иного своего отпрыска. Но не получается.
Корни засохли, давно разлученные со стволом и кроной - в пне не осталось жизни. И младшая Шукшина совершенно неустойчива на ровном, но для нее косом, срезе сухого пня. Не поможет ей папина рука. Скользко в носках и сандаликах на неприемлющем ее уклоне.И вторую дочку, босую даже, ровная земля - не держит.
Косо стоит девочка. Больно полностью опираться на босые ножки.И самого Шукшина отторгает земля. Посмотрите: он же сидит как бы на кочке, а кочки-то и нет. Или скат холма так же
крут по направлению к нам, как срез пня? Но ведь мы же видим и скат холма к реке. Значит, Шукшин сидит как бы на хребте, на пороге. Но почему ж это не сделано явным? Сделано даже наоборот: ноги Федосеевой должны бы быть на скате, обращенном к нам, а они явно стоят на совершенно ровном месте.В общем, неладно что-то с пространством, которое должно
было б - будь оно нейтрально - спокойно поместить в себе эту семью. Тревожно. Неуютно как-то.Сам старый пень - может быть, символ Шукшина - очень
странен: он потерял округлость внизу и непонятно, как укоренен в почву.Итак, много, очень много сходится. Не может быть, чтоб
это было случайностью. И насколько много этих сходящихся элементов, настолько они неявны. И действуют - судите по мне - ой, как не сразу.И наоборот у Абоева: насколько там мало элементов, настолько они явны, и действуют. Опять же - судите по мне.
--------
Этот контраст очень напоминает мне ситуацию вокруг "Явления Христа народу", вскрытую упоминавшимся Алленовым.
Как я не понимал картину Романовой, чувствуя от нее какой-то смутный дискомфорт, и как понял картину Абоева,- так
публика в прошлом веке не поняла и не приняла "Явление Христа народу", отдавая предпочтение, например, "Последнему дню Помпеи" Брюллова. А это ж очень много значит."
"Эстетика эффекта",- пишет Алленов, относя к ней брюлловский "Последний день Помпеи",- рассчитывает на зрителя хищника... [утоляет] жажду эффектного, которая явилась характерной чертой эстетического кодекса 30-х годов [прошлого века] - эпохи упадочного романтизма, породившей спрос не на романтизм, а на романтический штамп, на "нечто в романтическом вкусе", то есть именно на соответствующий "эффект". В этом своем "фасадическом" виде, "обезвреженный", лишенный своего первоначально революционного содержания, романтизм мог быть легко усвоен официальным искусством."Помпея" Брюллова подвигла Иванова на серьезные размышления по поводу специфически художественного воздействия на зрителя. В ходе этих размышлений им вообще
было поставлено под сомнение искусство, делающее зрителя жертвой, рабом впечатления, эффекта".Не будем отвлекаться на Брюллова. Поверим на слово, что
в своем академическом романтизме Брюллов что-то придумал, чтоб отступить от академизма и пронять зрителя.Главное, что он хотел мгновенно пронять - и добился.
А разве не такова же была установка всей выставки "Другое искусство" в Манеже? Разве не таков был "Василий Макарович" с бросающейся в глаза утрировкой трагических морщин лица, ужасных косм волос, растерзанных складок рубахи, отчаянного цвета травы; разве не такова была девушка с зонтиком,
где трава - тревожно розовая, береза - уныло-бурая; разве не таковы "Портрет реабилитированного", "Все в прошлом" с новыми явными утрировками - пятно вместо лица, пятно вместо дома, церкви. Наконец, разве не таков в своем отвергании самих людей-современников глава направления, Белютин, в своих каляках-маляках под названием "Сестры", "Мать и дочь". Ну и сам Малевич, предтеча всех русских авангардистов ХХ века, разве не той же утрировкой негативизма занимался своим "Черным квадратом".Есть теоретики, которые именно в этом и видят существо
авангарда:"
Главным становится действенность искусства - оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенное восприятие".И я б с этим согласился. Подтверждается, как мы видели.
И при каком-то понимании ("Все в прошлом", "Портрет реабилитированного", "Василий Макарович") и при непонимании ("Сестры", "Мать и дочь") - подтверждается. "О, ужас!"- сразу говоришь себе. И неприемлющий действительность, слабодушный и окончательно разочаровавшийся художник в общем на такую реакцию и рассчитывает. Причем, если непонятливый обыватель затеет скандал, возмутившись каляками-людьми, пятнами-портретами или иным формальным вывертом, режущим глаз настолько, насколько художник на сей раз сумел выпендриться, то оно,- считает теоретик,- и лучше. А я добавлю: потому лучше, что художник сделал-таки зрителя рабом мгновенного впечатления, зритель хоть и на подсознательном уровне, но сразу "понял", что тут его, обывателя, действительность отвергает художник.И в пику такой, как когда-то в "Помпее", чувственной
убедительности поступил А.Иванов. И его не поняли.Иоанн Креститель,- справедливо замечали непонимающие и
непринимающие "Явление",- слишком велик сравнительно с окружением; фигуры переднего плана как-то не соотнесены с остальными, их художник явно рисовал в студии, а на картине поместил - в природу; каждая из фигур - как бы скульптура, стоявшая когда-то в своей нише в храме, а теперь вдруг они оказались вынутыми из своих ниш и собранными вместе, отчего пространство кажется изломанным. И т.д. и т.д. Недоумения за недоумениями. Как косой срез пня и крутой постанов ступни младшей дочки Шукшина, аппликатность ног на траве и несоразмерная величина фигур шукшинской семьи относительно, например, коновода и коня. Недоумения.Теоретик авангарда, правда, пишет:
"
Нужно, чтобы реакция [зрителя] успевала возникнуть и закрепиться до... глубокого постижения, чтобы она, насколько получится, этому постижению помешала, сделала его возможно более трудным".Совсем как Иванов хотел? Но тут, думаю, блуд у теоретика.
Что уж тут особенно постигать у русских, по крайней мере, авангардистов ХХ века? "О, ужас!"- везде кричат они. Вот и все постижение.Брюллов своей "Помпеей" тоже кричал (кричал не меньше):
"О, ужас!"- будучи разочарован, может быть, своей - николаевской - действительностью.История повторяется. Вернее, история искусства движется
по диалектической спирали (будем говорить о проекции ее - синусоиде): от очарования чем-то высоким (романтизм с его "первоначальным революционным содержанием") к разочарованию (упадочный романтизм, "лишенный своего первоначально революционного содержания" и зато бросающийся на очень р-р-революционную форму, чтоб хоть там дать выход своей разгромленной по сути революционности). И вот виток от витка, период от периода в точке крайнего разочарования из-за безидеальности отличается все меньшей изобразительностью (при выразительности, стремящейся к мычанию тем больше, чем дальше от ближайшего отрезка очарования). Так, в частности, вечно умирает (чтоб вновь опять возродиться) искусство.Только вот к точке разочарования в высоком идеале может
подойти слабодушный художник, а может - сильный духом.Мне кажется, Брюллов - слабодушный, Иванов - сильный духом.
Художника слабодушным я называю потому, что в окружающей
действительности, которая не дает возможности быть удовлетворенным, он, в своем слабодушном стремлении к немедленному удовлетворению, оного все-таки достигает, в чем-то даже не изменяя себе: и он свое фэ сказал, и облегчился, и врагов уязвил.А художник сильный духом не дает себе поблажки насчет
немедленного удовлетворения. Он в сверхисторию верит. Не в историю даже. Что ему сиюминутное удовлетворение, что ему "эстетика эффекта"... Суета.Такому, правда, другая опасность угрожает: сверхсодержательность, переполненность идеями. Такому в нравственную,
религиозную, политическую, иную проповедь сорваться запросто (что и случилось с Гоголем, со Львом Толстым, кое-где с Достоевским).Но - пока не сорвался - такой человек опережает в художественности своего слабодушного собрата. Иванов - Брюллова,
Романова - Абоева.Тут нет накладки, если окажется, что Романова и Абоев не
ровесники. Разочарование настигает людей с возрастом. Приходит каждому свое время - и он разочаровывается, положим, в высоком идеале. Бывают длительные периоды, когда разочарование преобладает. Тогда и на десяток-другой лет отстоящие друг от друга произведения современников можно без натяжки сравнивать друг с другом по разочарованности.Казалось бы, хромает моя аналогия "Иванов - Романова,
Брюллов - авангардисты" тем, что Брюллов-то был усвоен официальным искусством своего времени, а советские авангардисты - нет. Ну так ведь Николай I и царизм не чета Сталину и командно-административной системе. Вот теперь, в перестройку, пожалуйста: вполне начал усваиваться авангард, даже модным стал, даже бессмысленно усваивается (вспомните Гутионтова). На Западе авангард очень оперативно усваивается.Конец пятой интернет-части книги “Записки благодарного зрителя”