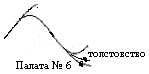
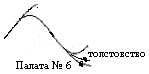
С. Воложин
Чехов. Смерть чиновника. Палата № 6.
Гоголь. Шинель
Художественный смысл
|
Если это - не как Маркс, то - как Ницше. |
Так жить нельзя!
Пусть умрёт пресмыкающийся.
Признаться? На меня нашла скука по поводу скучного Чехова.
(А не один знакомый признавался мне, что не любит Чехова за скучность. Да я и сам тосковал, его читая.)
Было увлекательно, когда я обнаружил у него антиреалистические, так сказать, проколы в “Степи” (тут, ““Простяга””) и когда, за них потянув, я нарыл, что Чехов – о, ужас! - ницшеанец. Было тревожно, что мало, очень мало, нашлось пишущих, имеющих о нём такое же мнение. Было весело и страшно, когда, чуть проакцентировав, оказалось возможным увидеть ницшеанство и в его ранних, шуточных, казалось бы, рассказах, да и попозже (тут, “Если допустить”), и в поздней пьесе (тут, “Как читать “Вишнёвый сад””). Смутило, что лишь опять на проколе, авторском словесном приукрашивании (!), доказалось ницшеанство его на ещё двух, не ранних, рассказах (тут и тут), разобранных для самопроверки. Чтоб у Чехова – проколы?!. приукрашивание?!.
И когда при ещё одной проверке (тут) он неожиданно предстал символистом, я успокоился. Тем более что иные символисты считали себя продолжателями Чехова.
Дело в том, что символизм я понимаю, акцентируя, не так, как все (тут). А как изживание зла погружением в него. То есть неким запредельным добром. И потому – противополюсом ницшеанству-злу. Ну и стало мыслимо – по принципу “крайности сходятся” - колебание Чехова между “злом” и злом. А раз мыслимо – то как-то понятно и, похоже, что верно. Ну а раз понятно и верно, то дальше скучно.
И как же в скуке приступать к нему снова?
Есть, правда, один непарированный мною упрёк из частной переписки: “читать было интересно, но открытия я для себя не сделал, по-новому Чехова не увидел. Возможно, потому, что не нашел ответа на вопросы: почему Чехов оказался ницшеанцем? что эта позиция дала ему как художнику?”. В самом деле. Мало ж сказать о разочаровании в народолюбии из-за современного ему поражения народничества. Пусть даже такое разочарование ориентирует на противоположное чувство – на презрение к народу. Но это ж негативное чувство. А нужно ж объяснить позитивное, очарование. Откуда эта почтительность “пред лицом смерти”, как выразился Троцкий. (Бунин свидетельствовал, что Чехов любил кладбища.)
“Туберкулезом легких Чехов заболел в 1884 г. (первое замеченное им кровохаркание)” (http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st002.shtml). Значит, собственно заболел ещё раньше. И как врач знал это ещё до кровохаркания. Может, и за год до – в 1883-м. И самые ранние разобранные мною ницшеанские рассказы – 1883 года… И потом… это был какой-то бесконечно гуманный человек вне литературы. И как врач… - Непостижимо!
Или постижимо. Всё это фигня – гуманизм – перед лицом смерти. Суета недостойная.
Вот был ингуманистом Гоголь. В “Шинели” прославил мизер как ценность. Обычные люди не гуманностью это б поняли – слишком уж непрезентабельна такая ценность. Не могли принять такого художественного смысла. И, будучи гуманистами, искорёживали Гоголя под себя: тот, мол, был за маленького человека в том смысле, что надо тому обеспечить больше, чем мизер. И мистическую месть призрака Башмачкина начальству понимали как лишнее подтверждение этого замысла. Башмачкину-де надо больше, чем башмаки. Но что значит этот сюжетный ход, дескать, начальнику надо было не кричать на Башмачкина, а распорядиться украденную шинель таки найти, тогда призрак бы не мстил? Он бы почему не мстил? Потому что и смерти б не было? Не простудился б Башмачкин? Ибо он же не потому простудился, что холодно было в старой шинели, а потому, что, обруганный, с открытым ртом – от поругания – шёл от обругавшего начальника. Вот и надуло ему. Вот он и заболел смертельно. Не заболел же до похода к начальству. А в той же старой шинели шёл.
Но это ж всё – почти “в лоб”. И Чехов это понял. Он понял, что Гоголь “в лоб” не выражал себя, не равенство исповедовал. Не гуманистом был. Он понял, что и башмаки, и шинель – по Гоголю – это был тот мизер, который начальство обязано было обеспечить, а не обеспечило. Тот мизер, без которого человек умирает вне зависимости от того, обругало его начальство или нет. И именно для того, - подумал (думаю я) Чехов, - Башмачкин умирает от непосредственно всё-таки холода. Чехов верно, наконец, понял, что гоголевский мизер есть условие спасения человечества. То есть идея, хоть и ингуманистическая, но благая для коллектива, коллективистская. И Чехов был против такой благости и коллективизма. Поэтому у себя, в перекликающейся с “Шинелью” “Смерти чиновника”, никакого смертоносного холода нет. Там вообще нет упоминания о погоде и времени года. Сказано: “В один прекрасный вечер”. И чиновник умер уже исключительно от морального удара. Более того, он его спровоцировал назойливостью. Начальник там очень даже демократичный. Гуманизм там цветёт. И вот над ним смеётся Чехов как над ерундой. Потерпевший там ещё ниже как бы башмака – Червяков его фамилия. Вот такова, по Чехову, масса. И не случайно сделана естественной последняя реакция доведённого до крайности генерала Бризжалова:
“— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
— Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.
— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами”.
Естественно неравенство, а не равенство. И слава первому, а не, как искажали Гоголя гуманисты, второму. И тем более не слава – как по Гоголю слава – коллективистскому ингуманизму мизера.
Если червяковы – человеки, то да здравствуют сверхчеловеки!
Естественность привлекает в ницшеанстве? И - смерть недочеловекам!?
Во всяком случае, мы достаточно злорадно смеёмся над дурацкой смертью того, кто недавно (относительно чеховского времени недавно) в русской литературе превозносился как “маленький человек”.
Но генерал Бризжалов, оставшийся живым-здоровым, всё-таки тоже не пожалован: уж больно фамилия неблагозвучная. Отчего бы это? Оттого, что принял игру в гуманизм: сидел в одном с Червяковым партере и тем предоставил возможность тому на себя чихнуть. Это ничтожество Червяков сидел аж во втором ряду, и Бризжалов от него не уберёгся, сидя в первом.
Повествователь, получается, - над ними. Поодаль от них. В аристократической ложе как бы… И вон то – поистине есть хорошо…
Но это ещё не почтительность “пред лицом смерти”.
Или всё же… Если учесть три ступени: Червяков, Бризжалов, повествователь. Червяков – уничтожаемый, Бризжалов – уничтожающий, повествователь – дающий закон тому и другому, закон уничтожения.
Что там пишет Ницше от имени Заратустры в главе “О проповедниках смерти”, если предположить, что Чехов мог как-то знать, что там написано? – Их три вида, проповедников.
Одни те, кого не устраивает простая многочисленность человеческого рода. По тексту чеховского рассказа не видно, чтоб повествователь, а тем более – сделаем вывод - Чехов, к ним относился. К ним и Заратустра, как и большинство, склонен отнестись скорее негативно. И Ницше – тоже (как мыслима аристократия без плебеев?).
Другой вид - слабодушные. “Вот - чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения”. На таких Червяков уже похож. “…алчные до маленьких случайностей, приносящих смерть”. Чехов же, наоборот, именно потому, что уже был телом чахоточный, как раз душою-то им и не был. Все отмечают его исключительное жизнелюбие вне искусства. И повествователь у такого человека вполне может быть отнесён к позитивно Заратустрой оцененным проповедникам смерти. Да вот беда: это не проповедники, а себе-проповедники. ““Сладострастие есть грех — так говорят [эти второго вида себе-проповедники] проповедующие смерть, — дайте нам идти стороною и не рожать детей!”” Так Чехов - по свидетельству Бунина – в каждом новом городе в первую очередь узнавал, где публичный дом, и шёл туда удовлетворять своё сладострастие, надо думать (где как не там проще всего найти женщин, в первую очередь для того же и поместивших себя в публичный дом, а не для того, чтоб хоть как-то прокормиться). Что лишний довод даёт тому, чтоб счесть его в принципе способным создать позитивного и по его, Чехова, оценке проповедника смерти. Насмешка над Червяковым, правда, не проповедь смерти, а утверждение жизни, как и у Заратустры. Но утверждение жизни – не для Червякова же – для противоположного рода людей. Так что подозрение Чехова в ницшеанстве остаётся в некоторой силе.
Третий вид себе-проповедников смерти не слишком – по Ницше-Заратустре - отличается от второго. Так уж философ расстарался. Устающие трудоголики, отдающиеся быстрому, новому, неизвестному – в общем, мгновенному… Видно, суету преходящего не уважает Ницше, позитивно оценивая и таких себе-проповедников смерти, сгорающих на работе. Так Чехов как раз вечное создавал в литературе. И известно, что он очень трепетно относился к вопросу, будут ли его читать через сколько-то лет. Так что и по этому параметру ему желательна суетящимся себе-проповедь смерти. (Но нет же в рассказе себе-проповеди смерти.)
Итого: “земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть” (Ницше. Так говорил Заратустра).
Но Ницше ж перескочил тут с преимущественно себе-проповеди к другим-проповеди!
Ну да чёрт с ним. Всё равно можно согласиться, что он большинству желает желать своей смерти. А Чехов, наоборот же, говорит своим читателям (и не элита ж они): живите! чихайте на щепетильность! Такое массовое чихание, воспринятое “в лоб”, далеко от ницшеанства-аристократизма. Разве что не “в лоб” нечто сказанное можно тут усмотреть. Например, пожелание элите (выразившееся в душевной непричастности повествователя к повествуемому) быть подальше от любого плебса, щепетильного или нет.
Да и не читал это произведение Чехов. В России спорить о Ницше стали после выхода в свет очерка Преображенского в 1892 году. Через 9 лет после разбираемого рассказа. Значит, искать надо в области умонастроений: как то, что названо будет ницшеанством, родилось в России самобытно.
Троцкий в 1900 году написал, что Горький-ницшеанец есть выразитель целой группы людей, ушедших из общества вовсе не из-за поражения (http://www.nietzsche.ru/look/l15_1.shtml.htm), а, наоборот, из-за своей силы (“Челкаш”, 1895). Так не мог ли за десятилетие до этого Чехов начать тихую работу по будоражению слабеньких не быть такими? По принципу противоположности – в сильных превратятся слабейшие от тыкания их носом в их дерьмо. Кто-то, глядишь, да услышит… Да и для самого – тренаж… А вместе как-то легче совращаться.
Ещё Троцкий усмотрел склонных к ницшеанству среди так обобщённо обозначенной прослойки: “Живя вне общества, хотя и на его территории и на счет его, она ищет оправдания своему существованию в сознании своего превосходства над членами организованного общества”. Вспомнив чеховского Симеонова-Пищика (фальшивые бумажки делать можно), соглашаешься с Жукоцким, что “чеховская тема потерявшей себя в новом буржуазном мире аристократии” (http://www.nietzsche.ru/look/zhukotsky.php#21) обозначает найденный и Троцким ницшеанствующий слой “блестящего буржуазного пролетариата”, финансовых авантюристов, то страшно обогащающихся, то попадающих в тюрьму. Правда, пищиков Чехов высмеял. Но, может, за малый калибр?..
Ещё.
Выйдя из купеческой черни, став писателем, неким аристократом, можно ли примкнуть душой к аристократам по рождению (типа Раневской), людям неделовым, выброшенным деловыми, капитализмом, из обеспеченного существования? И в жалости к ним иметь мечту, чтоб их лелеяли… за изысканность… И его заодно.
Потом. В России в то время начал постепенно распространяться марксизм. А он был принципиально и парадоксально чреват ницшеанством. У обоих есть “радикальность критики “буржуазного строя”, установка на его уничтожение и создание нового, свободного от либерально-сентиментального и, одновременно, лицемерного “человеколюбия”; оба выступали против постепенности, за взрывной характер общественного процесса, “антиреформизм”. Есть безусловное сходство между критикой идеологии у Маркса и критикой ценностей у Ницше” (Жукоцкий). Чехов, правда, не мог соблазниться взрывом. Но остальное… Отрицается “скованность, отчужденность естественной природы человека современным социумом и культурой”, утверждается “необходимость эмансипации человека на всех направлениях современной социокультурной динамики…”. – Было отчего загореться. “Два великих гуманиста XIX века – Маркс и Ницше – выстраивали свое философское кредо на парадоксальной основе: на отрицании морали как самоценности, обособленной от реальной человеческой жизнедеятельности и диктующей ей [морали] сверху [Богом] – какой быть”. “Если моральные качества не реализуются во всей полноте человеческой жизни, в актуально-действующей воле быть, то всякое иное их превознесение лишь выдает их ограниченность, и хотя удерживает от худшего – “звериного” в человеке, но не дает развиться лучшему – “божественному”, сверхчеловеческому или совершенному в нем. [И вот откуда этот максимализм у казалось бы трезвого Чехова: в человеке всё должно быть прекрасно…] Маркс и Ницше едины в своем порыве морального бунтарства против всяческой усредненности человека, в том числе и чисто бюргерской (по-русски: мещанской) его усредненности”. Только “Маркс акцентирует идею социализма и коллективизма, а Ницше – идею консервативно истолкованного либерализма и индивидуализма. Один возвышает социальное творчество, другой – художественное”. И вот на последнем-то Чехов и сосредоточился, оставив благотворительность и обычный, старый гуманизм на периферии души. - И все в нём ошиблись, приняв периферию за центр, отразившийся, мол, в гуманном, мол, художестве.
Но главное, что “божественное”, сверхчеловеческое или совершенствование человека есть гигантская вдохновляющая задача, не слабее, чем во время возникновения религии. И отсюда знаменитый, непридуманный, стихийный энтузиазм строителей якобы социализма в 30-х годах. Не скрываемый. А теперь представьте, что эта якобы – наоборот - скучность Чехова скрывала под собой соизмеримую с теми энтузиастами страсть.
Что она давала Чехову-художнику? – Энергию крутого поворота формы в литературе.
До Чехова в русской литературе господствовала речевая авторская активность. Писатели имели перед собой возмутительно отсталую страну, в которой позорно задержалось крепостное право. А когда оно было отменено, – и очень неприемлемо для крестьян, - Чехов застал провал народников организовать нечто лучшее. Речевая авторская активность изжила себя.
Гоголь был предельно активен в речевой стихии слов от автора (или повествователя). Чехов, - не в пример найденные мною исключения, указанные вначале, - наоборот: принялся “выбрасывать себя за борт всюду” (http://az.lib.ru/c/chehow_aleksandr_pawlowich/text_0060.shtml).
Вот убивший Башмачкина начальник:
“…а лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спишась и сносясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими”.
Гоголь же этот смех от повествователя (“мы”) даёт. Что он высмеивает? – Незначительность. Это неэффективный начальник. Гоголь не против системы. Он против её неэффективности. А та должна была обеспечить людей мизером и не смогла. Что плохо. Ибо тогда и больше мизера люди захотят от неудовольствия. (Что мы и увидели в СССР с его дефицитом товаров.) И мир рухнет от преувеличенных желаний. Поэтому автор и вмешивается от своего имени.
А Чехов?
“В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения”.
Повествователь безучастен. От ярости автора. Потому что при чём должность впереди сидящего, если дело происходит в театре?! (А повествователь, находясь в зоне сознания Ивана Дмитрича Червякова, вынужден сообщать, - пусть и максимально дистанцируясь от персонажа, но всё-таки, - должен сообщать нам о должности.) Автор в ярости, потому что он против аж самой системы. Та ж бессмертна. Именно для того оксюморон (греч. – “острая глупость”) им, не повествователем, введён в название. Чиновник же никогда не умирает. Умер Червяков, Иван Дмитрич. А вместо чиновника будет другой чиновник (фамилия не важна). И система – вечна. И она ужасна.
Спустя больше ста лет, в теории Семёнова, стало известно, что такая система (азиатский способ производства, по Марксу), политаризм (власть бюрократической пирамиды), живуча со времён египетских пирамид (каковую пирамида и символизирует и тоже вечна) и прижилась в России. А очень нехороша тем, что личность в ней не ценится.
Чехов и без теории это знал всеми фибрами души, и всею душою и отвергал, что и выразилось в ледяной словесной безучастности повествователя ко всему происходящему.
Это не просто манера хорошего смехача, а глубоко содержательная безучастность. Скрытая абсурдность названия – из того же рода.
Эйхенбаум пишет в работе “Как сделана “Шинель” Гоголя” (1918), что примитивная новелла, авантюрный роман, анекдот не знают сказа. Чехов, как бы тоже зная это и претендуя больше, чем на анекдот, тоже не совсем лишил свой рассказ повествователя-актёра и звуковой семантики: “помер” вместо умер, “Дмитрич”, а не Дмитриевич, и “апчхи!!!”. Но это ж мало. И ничего особо не значит. Ничто по сравнению с Гоголем.
Гоголевский повествователь (“мы”) на каждой строчке активничал: кривлялся и ораторствовал, - Эйхенбаум думал, - для того, чтоб замутить воду и в ней указать на плавающую золотую-рыбку-настоящее, на сто`ящее: “Душевный мир Акакия Акакиевича <…> — не ничтожный <…> свой: “Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный (!) и приятный мир... Вне этого переписыванья, казалось, что для него ничего не существовало”” (http://www.opojaz.ru/manifests/kaksdelana.html#Anchor-!2>8-506). Эйхенбаум верил, наверно, что художник создаёт произведение, чтоб в каком-то уголке его поместить свой идеал, чтоб сделать его незаметным для людей, потому что он, как таковой, людям может и претить, и надо им его капнуть в бокал-произведение незаметно для них самих. Но по такому методу оказываются правы и те (кого Эйхенбаум высмеивает), кто в одном уголке увидел славу маленькому человеку, равенству.
Я считаю резче. Художественный смысл нецитируем. И здесь он: не хапайте, люди, - спасётесь. Не весёлость (в чём-то наводка на спасение) белиберды и не пафос равенства (в чём-то наводка на мизер), а - спасение в мизере.
А что с чеховским повествователем-актёром?
Он недолго ломался. Лишь в самом начале (“Дмитрич”) и в самом конце (“помер”). Не заметно, собственно. А вот хорошо заметно, каким чужим происходящему он является, когда в полный свой рост предстаёт перед читателем:
“Но вдруг... В рассказах часто встречается это "но вдруг". Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают”.
Больше собственной персоной повествователь не появится. А здесь, появившись, он же аж вон из рассказа вышел. И сообщает об обычности. Ко всей-де последующей необычайности ни он, ни тем более автор отношения не имеют. Ну о-очень далеки эти субъекты от всего этого муравейника. И ведь нисколько не связывают себя привычными правилами обращения писателя с читателем: не выпрыгивать вон из повествования. (В этом моменте можно ж аж предварение авангардизма увидеть у Чехова: вскорости появятся эгоисты-футуристы и станут превращать эстрадное чтение в скандал в зале.)
“Моим утешением, - писал Ницше в частном письме, - является то, что не существует ушей для моих великих новостей” (иначе кто ж будет плебеями, чтоб существовал аристократ). Мало кто мог его понимать.
Так же и Чехов.
Дав нам норму (чихание не исключительность) и сам же её нарушив (рассказав о его исключительности), плюс, выйдя из пространства рассказа, повествователь стал вне всего. Вне добра и зла, как политкорректно выражаются проповедники ницшеанства для ещё не освоившейся паствы. И далеко не всем заметна эта удалённость писателя.
И он нам морально не свой, как представляется, а совсем-совсем чужой. Пока мы сами не ницшеанцы. Но в любом случае – вкусно читать. А имея в виду ницшеанство – особенно. Что Чехов и хотел. Что нам и надо: испытывать своё сокровенное мироотношение. То есть, получать эстетическое наслаждение.
31 марта 2010 г.
Вопреки “мне” - силою вещей.
|
Стилевое освобождение речевой стихии объекта из подчинения активному авторскому обобщающему слову. Драгомирецкая. |
“В больничном дворе стоит небольшой флигель [уже скучно: и из-за больницы, и из-за того, что давно, наверно, стоит; то есть ничего не меняется - скучно], окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли [ну так и есть! Заброшенность, дикость… Значит, нечто замечательное является идеалом. А пока - тоска]”.
Так начинается “Палата № 6” (1892).
То есть, если хочешь, чтоб в тебе не затухая горела душа в мечте об идеале, то и сам будь врачом и погрузись в человеческую боль, да ещё и пиши о враче, тонущем в этом болоте нехорошего.
Не затухая…
Когда наоборот, казалось бы: пожар заливают водой – и он тухнет… Так какое неугасимое пламя нужно ощущать в себе, чтоб бесстрашно нарываться на испытание этой неугасимости?
“Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним - глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.
Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте… ”.
Ничего себе! Опять повествователь выскакивает из повествования. И это ж, чтоб нас больнее ожгло!.. Он же активничает!?
Нет. Это вещи активничают.
Далее активничающие картины: свалка-постель для сторожа, сторож-избиватель, ужасного вида и вони палата-зверинец, сумасшедшие в синих халатах (бр!), потерянный облик первого, чахоточного, дурацки весёлый второго, это городской шут, выпускаемый в город вопреки мнению сторожа, впрочем, обирающего того после вылазок. Потом услужение этого шута третьему, парализованному, и другим сумасшедшим из-за подражания четвёртому, Громову, с манией преследования.
И тут появляется “мне”:
“Мне нравится его широкое, скуластое лицо”.
Оказывается, вся тягостность активно не приемлется “я”-повествователем, почти героем.
А Громов тоже из активно не приемлющих. Но “я” в нём этого не уважает:
“Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен”.
Прореволюционер, мол, Громов. Фу. И идёт нелицеприятное описание этим “я” прежней неудачной жизни Громова.
Жизни, однажды подвергшейся мании преследования этим нехорошим миром. Хоть в городе его любили. И этот “я”, вживаясь, рисует довольно реалистичную общую картину полицейского государства. Поначалу. Переходя к натуралистическому описанию схождения с ума из-за этого полицейского государства.
“…насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним… и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату N 6”.
Так появился в повествовании Андрей Ефимыч.
И нудоту описания быта сумасшедших заканчивает вещая весть, предварение:
“Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.
Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.
Распустили слух, что палату N 6 будто бы стал посещать доктор.
V
Страшный слух!”.
Из последовавшего жизнеописания доктора не видна страшность… И для кого она?
Это опустившийся человек. И хоть бардак в больнице, царивший при предшественнике Андрея Ефимовича, был чудовищный, немного он изменился и при новом безвольном шефе. Ясно, что “я”-повествователь, несмотря на какую-то эпичность своего повествования, скрыто негодует.
“Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право”.
Впрочем, описывается железное нарастание сопротивления Безобразия от бывших, оказывается, попыток Андрея Ефимовича Ему противостоять. Ни революционеры, ни либералы-де ничего не могут поделать с действительностью. И вот – толстовство.
“Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого?”
Ну точно третий вид проповедников смерти, столь милый Заратустре. И ненавистный “я”.
Ибо Чехов, было, болел толстовством: всё ж какой-никакой бунт.
И скрыто-гневно продолжается описание “я”-повествователем опускания Андрея Ефимовича до толстовства-маразма. (Здесь повествователь не такой ледяной, как в “Смерти чиновника”… Прямо герой-повествователь. Наверно, оттого, что родственника-бунтаря опровергает.)
Тут появляется ещё более ненавистный фельдшер, религиозный, больше заправляющий больничным всебезобразием, чем доктор:
“- Болеем и нужду терпим оттого, - говорит он, - что господу милосердному плохо молимся. Да!”.
“Я” - и бого-, а не только толстовство-, революционеро- и либералоненавистник. Всё-де ерунда.
Фельдшер – из тех, кто “берут на себя "грубую работу господства"” (Троцкий).
А тюфяк-доктор – книгочей и обдумыватель. То, что по Ницше есть аристократ, не удосуживающий себя этой грубой работой. Да вот только “я” что-то его не чтит. Не за то ли, что тот недоницшеанец? Вон, водкой с солёным огурцом книгочтение закусывает.
Ну а пока к нему приходит вышибленный из аристократии аристократ, почтмейстер. И оба блаженствуют в обществе друг друга. И пьют пиво. - “Я” недоволен. И, раз даёт прямую речь, то уж совсем чтоб самому скрыть дрожь от ненавидящего негодования:
“- Вы сами изволите знать, - продолжает доктор тихо и с расстановкой, - что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума”.
Отчего “я” так ярится (не проявляя, впрочем, себя активно)? Оттого, что профанируется великий Ницше (в 1892 году о нём уже в России спорят)? Должно быть почитание высших низшими, иначе рухнет аристократия, а почитания ж нет (толстовцам, например), наличные же аристократы и ухом не ведут – за то “я” негодует? – Не иначе:
“Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать”.
Сарказм же колоссальной силы! Мало, что спрятан.
Что если – горький сарказм? Ибо, если выступаешь перед своими и хочешь воспеть ницшеанскую доблесть, то надо её погубить. Как в высокой трагедии: герой гибнет – идея его остаётся жить в душах уходящих со спектакля зрителей.
Впрочем, герои – скисшие. И сами это знают. Всё – в прошлом.
Так, может, они даны так, чтоб утвердиться во внутренней жизни, в жизни духа? Так поступали все лишенцы…
“…проводят время в обмене гордых, свободные идей”.
Но этим кончиться б должно было, чтоб так всё значило. Однако тут даже ещё не середина. Ибо это отвергается толстовство ради ницшеанства.
Первое, неназванное, далее впрямую критикуется за противоречивый идеал единения с природой, который после смерти не обеспечивает “противоположность между… “я” и тем прекрасным “не-я”, которое составляет окружающая… природа” (Плеханов. Толстой и природа):
“О, зачем человек не бессмертен? - думает он. - Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца?”.
И развёртывается ослепительная картина новой медицины вне этой вот больницы, известная доктору из материалов его чтения. И…
“И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой”.
А это ж болтовня, понимает читатель. Автор – за прогресс. Хоть и против и либералов, и революционеров, которые тоже за прогресс. – Парадокс? – Да нет? И ницшеанцы ж за прогресс, а против либералов и революционеров. (Как и против религии все.)
Но это со стороны видно. А доктору нет. И он мучается от мыслей и бессонницы.
И появляется его завистник и гробовщик уездный врач Евгений Федорыч Хоботов.
И режет Андрею Ефимовичу правду-матку в глаза Громов. И никакого сумасшествия нет в его речи. И прав, получается в эту минуту, революционер. У него просветление. И оказалось, что с ним можно поговорить. И вот так доктор стал захаживать в палату № 6.
Это, конечно, издевательство автора. Сюжетом. Повествователь не при чём. Не проявляет себя. Вот и мы не замечаем издевательства.
А разговоры текут. Умные. Но постепенно проповедуемое доктором Громову непротивление злу становится объективно нетерпимее. Начинает становиться заметным читателю. И Громов доктора начинает побивать. Жизнелюбие - в устах этого якобы сумасшедшего - поёт гимн. И судит простого лежебоку, якобы толстовца.
Доктор стал ходить к пациенту неприлично часто. Подозрительно часто. Люди вне палаты № 6 не поняли его. Хоботов сделал вывод. И Андрея Ефимовича стали подозревать в сумасшествии.
Хладнокровная месть толстовству бывшего толстовца, автора, Антона Павловича Чехова. Кровь стынет от предчувствия, что может стать. Языковая активная роль повествователя уменьшилась. Свирепствует, но неявно для нас, автор.
Итак, стало считаться, что доктор спился.
Составилась неявная комиссия по проверке его здоровья.
Отставка.
И вот он едет с почтмейстером развеяться. Аристократизм попутчика вне домашних бесед оказался сомнительным. Он стал доктора, наконец, угнетать собою.
В общем, крах жизни. Денег нет. Новых книг нет. Он разучился читать, думать. Никакое непротивление злу не утешало. И сорвался. Прогнал от себя Хоботова и почтмейстера, считавших его больным.
Антон Павлович большой мастер всё очень реалистично и плавно подводить! Форменный садист.
Но и постепенность нарушена.
Нет, доктор почтмейстеру таки сказал, что согласен лечь в больницу. Но так. Только сказал. Чтоб отвязаться. А Хоботов его заманил туда как бы на консилиум и больше не выпустил. С помощью того сторожа.
“Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно”.
Ужас!
Гуманизма ради испытывает так жестоко своего читателя милейший Антон Павлович?!
Или так и нужно минимизаторам жизни и всем, кто вжился в них и вот теперь страдает.
Калёным железом выжигать себе-проповедников смерти… Вопреки Заратустре.
Или… - Вот Андрей Ефимович избит. - Не нужно ли Заратустре иметь хорошие кулаки иметь, чтоб навязывать свои законы, а не отдавать "грубую работу господства" кому-то.
И вот – спасительная смерть.
Она таки спасительная.
Так думаешь. Это не написано. От ТАКОЙ жизни спасение - смерть.
Значит, да здравствует не такая жизнь! А ТАК жить – нельзя.
Это круто. И если это - не как Маркс, то - как Ницше.
04 апреля 2010 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/62.html
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |