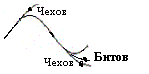
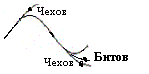
С. Воложин
Чехов. По делам службы
Художественный смысл
|
Чехов колебался насчёт достижимости распрекрасного будущего. То склонялся к тому, что не для всех оно, то – что для всех. |
Чтение в сердцах (Продолжение)
|
В этом поганом мире гарантии отсутствуют. Профессионалы оперируют вероятностями. Американский генерал Джордж Паттон |
Я влип, кажется с Чеховым. Крепко влип. С тем, что он – ницшеанец.
Ибо, если он в рассказе “По делам службы” (http://public-library.narod.ru/Chekhov.Anton/pismo.html) “в лоб” поставил вопрос о том, что это недостойно – когда полсвета плачет, а полсвета скачет - желать быть в той половине света, что скачет… Пусть и от имени героя вопрос поставил… - То какой же он ницшеанец? Не может так жёстко, с осуждением, ставить такой вопрос ницшеанец. Ницшеанец, понимаемый как приверженец Зла, лишь из политкорректности или самообманно прикрывающийся фиговым листком, мол, он по ту сторону Добра и Зла.
Так что? Раз Чехову закрыта дорога и в революционное социалистическое сейчас-изменение мира (из-за давнего разочарования в таком пути), то что Чехову остаётся? Вера в то, что Зло можно избыть, ему отдавшись? Как символисты? Как по поговорке: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься…
Тогда понятно было б и вне искусства поведение Чехова: в каждом новом для него городе в первую очередь узнавать, где публичный дом, и идти туда.
Тогда даже и художественность этого рассказа – “По делам службы” - сохраняется: “в лоб”-то вопрос поставлен всё же героем, а не автором. А автор-то это сделал, потому что парадоксальный выход знает - в как бы сверхбудущем (где ж иначе всё так чудесно переменится от Зла к Добру?).
Правда, вера ж некая в чудо некое требуется для такого парадоксального спасения… Она и изображена даже обиняком: в рассказе Лошадина о возмездии Лесницкому младшему за грех Лесницкого старшего. Но. Рассказ-то тоже отдан целиком в уста персонажа, темнющего персонажа…
Где ж тут во всём этом высокоумный символизм?
Да и быстро, а не в сверхбудущем, возмездие Лесницкому наступило…
Не наступила, правда, Справедливость ещё в остальном мире… Есть, например, в принципе есть такая вот Россия неблагоустроенная, со страшным климатом, воплощение страны-изгоя по сравнению со, скажем, жителями курортного климата. Одним – Добро, другим – Зло. И это нехорошо. А раз нехорошо, значит, хорош мир без Зла. И он когда-нибудь будет, раз, получается, существует о нём понятие.
Но, но и но. Как к этим абсолютам, с большой буквы писанным и якобы символистом Чеховым исповедуемым, перейти от его реалистического по виду текста?
Спасёт ли, если вспомнить, что однажды я подразделил символистов на, так сказать, небесных и земных (в докладе “Пришвин и Пушкин”)? Чтоб Чехов, значит, земным был… и более близким по времени родственником Пришвину, чем Пушкин… Но Пришвин какой-то успокоенный больно. А Чехов же – надрыв. Больная совесть за существование на свете каких бы то ни было удовлетворённых, когда так скверно. Больная совесть даже и за удовлетворённых смертью, как Лисницкий. Больная совесть и за удовлетворённых подвижнической жизнью Лошадиных.
Вот! Вот это последнее, кажется, главное. Больная совесть за удовлетворённых Лошадиных.
Надо, чтоб Лошадины перестали брать на себя лошадиную долю. Просто перестали брать.
Ведь не зря сделано так, что никто Лошадина не слал за старшиной, а он пошёл. Никто, надо думать, его не слал и к Тауницу за следователем и доктором, а он пошёл. В метель, в ночь. Не халтурит человек по делам службы. Вплоть до, в сущности, героизма ради общего дела доходя. (За героизм это даже и не считая.) Так вот надо не жизнь в России обустраивать (революциями или эволюциями), не климат побеждать благоустройством (как, скажем, американцы на Аляске). А менталитет русский менять когда-нибудь к сверхбудущему.
Не зря в рассказе есть аж восхождение к характеру русского человека.
Восходит доктор. И то изрядный трёп.
И не зря трёп некоторым образом оспорен: “а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения”.
Но кроме трёпа есть и неназванная правда (а мы догадываемся): суровая природа родит героев труда.
Однако такая задача, как менять менталитет, чтоб быть выполненной, должна родиться внутри нас, лошадиных. Поэтому Чехову ни в коем случае нельзя читателю подсказать, что он хочет. – Отсюда такой реализм, казалось бы.
Не всюду, впрочем. Можно ли считать реалистичным такой испуг крестьян от непонятного самоубийства: “Народ очень беспокоится, ваше высокоблагородие, уж третью ночь не спят. Ребята плачут. Надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся... Как бы в потемках барин не примерещился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как вечер, мимо избы не ходят в одиночку, а так, всё табуном”. И ведь это не только слова Лошадина, возможно, самообманно преувеличивающего положение, чтоб быть озабоченным за общество и совершать ради него героические поступки. Вот слова автора: “Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника”. – Не разбойника. Разбойника что бояться? Это человек. А вот непонятно лишивший себя жизни кто? Что за душа?
Можно, правда, думать, что понятные нам, тёртым в безбожии, мотивы безбожника, презирающего себя за неудачную жизнь, осознающего её неудачность острее всего в те моменты, когда он совершает жалкие потуги жизнь эту украсить (хоть обедом) и нисколько не боящегося смерти как таковой, - можно думать, что эти мотивы, в общем, верно угадываются и верующими как дьявольство какое-то. И тогда – страшно им.
И тогда и тут – реализм.
На самом деле пафос рассказа никакой не реализм. Реализм объясняет людей обстоятельствами. А тут – задача-мечта автора измениться народу вопреки обстоятельствам. От озарения. Как это случилось на наших глазах со следователем. Мол, если со следователем Лыжиным могло стать изменение, то и с сотским Лошадиным может (вот же он понимает мотивы самоубийства Лисицкого, хоть крестьянин). Значит, и для крестьян мыслимо изменение. Идеализм тут изряднейший. Вначале – озарение, слово. И - человечество всем составом вернётся в рай, рай на земле. Земной, так сказать, символизм…
Есть даже в тексте и почти символистские утончённости: “Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, всё полно одной общей мысли, всё имеет одну душу, одну цель, и чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем”, - Думает Лыжин. – “Да нет. Всем”, - озаряет, как и Чехова, нас.
Может, потому озаряет, - как предполагает Есин (см. тут), - что рассказ короткий. То есть – для простых людей. – Плохо? – Плохо. – Ну так делай, чтоб было хорошо. Захотеть достаточно.
Итак, Чехов символист.
Вот и фабула его рассказа следует типичному символистскому изживанию злом зла. Доктор и следователь полностью отдались ницшеанскому – относительно шастающего по метели ночь за ночью общественника Лошадина – удовольствию настоящей аристократической жизни в имении Тауница. И… в результате им стало совестно за своё поведение, когда до их сознания дошла самоотверженность Лошадина на фоне их удовольствий. Фактически ради них они на сутки вскрытие затянули.
Может, можно думать, что Чехов колебался насчёт достижимости распрекрасного будущего. То склонялся к тому, что не для всех оно, то – что для всех. В одном случае он оставался крайним индивидуалистом, в другом – крайним коллективистом.
А что: крайности – сходятся.
Но в любом случае Чехов, в итоге, - как и Битов в предыдущем пассаже, - против русского трудового коллективистского героизма.
26 февраля 2010 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/58.html
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |