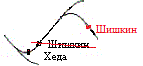
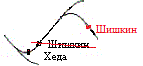
С. Воложин
Шишкин и… голландские натюрморты.
Художественный смысл.
| Коварный вопрос: в каждой картине надо уметь видеть что-то неочевидное и высокое? – Да! Но не безмятежность, как Асафьев у Шишкина, не высокий романтизм, как Гегель у голландцев. |
Вторая интернет-часть книги “Сочинения на заданную тему”
ПОСТОЯНСТВО*
в меняющемся мире
*
- Вывод о романтическом реализме Шишкина оказался неверным. Верно тут. У Шишкина простой реализм, чуяние того в социуме, что никто другой ещё не чует. Подсознательное. А оптимизм, всеми тоже чуемый – из-за содержания авторского чуяния: расцвета народной мощи.Впечатление - вторая суть.уть.
Глеб Горбовский
Честный критик, выступая перед аудиторией, обязан честно признаться: “Господа! Сегодня по случаю юбилея Шекспира я хочу поговорить о себе...”
Фридесберт Туглас
Этот опус написан вскоре после смерти моей матери, Мэры Иткиной, и наверно потому, под влиянием остро пережитого несогласия с бесследностью человеческой жизни, он носит несколько мемуарный характер. Проявившееся в нем постоянство унаследовано от матери. И в нем - всеобщий закон жизни: сохраняться - в инобытии - наперекор всем изменениям и смертям.
Начинаю новый эксперимент, примыкающий, впрочем, к серии типа “поток сознания”, эксперимент на тему: как постигается художественное произведение. На сей раз путь будет пролегать через самообман. Впрочем, не уверен, что и последняя точка тут будет стоять не после очередного самообмана...
Речь пойдет в основном о голландских натюрмортах XVII века и о пейзажах Шишкина.
“Лесные дали”. Кто помнит эту вещь?
На первом плане поляна, спускающаяся по отлогому холму. За ней - перелесок: на спуске, видно, более крутом. Потом опять поляна, справа соединяющаяся с первой, как нижний этаж с верхним. И дальше леса, леса, леса по холмам и долинам. Все сине`е, все голубее - до самого горизонта, до совсем уж голубого неба. А всеобщая голубизна - значит, первая половина дня. Не утро, правда, - летнее солнце высоко. Было б утро, солнце отражалось бы в воде, в той,- вдали, в центре,- проглянувшей излучине огромной реки. Далеко за утро, но интерес художника к чему-то утреннему: взгляд - на восток, против солнца; и деревья, и дальние облака как бы опушены светом по краям своим. Так - только глядя против солнца бывает.
И все это зелено-голубое пространство как бы оглядывает отдельно стоящая стройная высокая сосна, что справа и почти на самом переднем плане. Выше всех маячит ее макушка.
Простор! Тайга... А как же - не тайга: сплошь хвойный лес.
Меня, юношу, восхищала репродукция этой картины. Да и сейчас, глядя на нее и вспоминая себя тогдашнего, я прихожу в волнение.
Пятидесятые годы. Я скоро кончу школу. Все дороги открыты передо мной. Какую выберу? А по стране гремит слава великих строек коммунизма. Строят Братскую ГЭС. Байкал... Ангара... Романтика. Я рисую Падунский порог в виде прямо-таки водопада и дикие скалы. Очень популярна песня “Амурские волны”. Исполняемая хором московских студентов по радио, она меня заставляет чуть ли не задыхаться. И я пытаюсь нарисовать край, где багряное солнце встает. Сибирь - страна мечты.
И конечно же, эти хвойные массивы (наверно камские) в шишкинских “Лесных далях” для меня были сибирской - по настроению - тайгой.
Что по сравнению с такими переживаниями могли мне дать голландские (пусть будет пока необъясненным это сопоставление) натюрморты с их обязательной едой?..
Нет. Это, конечно, поразительно: чуть не оскомину вызывает полуочищенный лимон на холсте и почти теряешься от прозрачности стакана и воды в нем... Но - жратва... Подумаешь!
Лично мне не пришлось голодать ни в войну, ни после нее. В эвакуации соседский мальчик из беженцев, вечно грызущий безвкусную макуху - спрессованные жмыхи из чего-то едва съедобного - меня удивлял своим пристрастием к ней. А его вечная энергичность и веселость сводила на нет мамино объяснение его смакования макухи: “Он голодный; им есть нечего”. Худшего же я, дошкольник, не видел и не слышал.
А после эвакуации, в едва не опасных для жизни давках очередей за хлебом, я всегда выходил победителем: на уровне ног взрослых (если присядешь) - не так тесно. А если там, между ногами, опередить свою очередь и пробраться к прилавку, то в сумятице тебя всегда пожалеют и дадут купить. Так что я всегда был с хлебом, и спортивным интересом оборачивалась проблема для меня.
В общем, не воодушевляла меня у голландцев ни богатая еда, ни богатая посуда.
Все это не значит, что я с юных лет был сугубо духовным в своих вкусах. Нет. То, что написано о “Лесных далях”, написано хоть по воспоминаниям, но зрелым человеком. А тогда меня в немалой степени занимало то, что изображение - как живое. И в таком смысле голландские натюрморты равнялись шишкинским пейзажам. Это КАК ЖИВОЕ было чем-то прямо экзотическим среди массы картин, такой иллюзорности не достигавших. Рерих был “экзотичен” на другой манер - и тоже нравился. Импрессионисты - тоже странны и нравились тоже. И Рокуэлл Кент - необычен... И разные современные мазилы: если чем-то поразили - нравились. Положим - каша мазков; прохожу мимо, почти не глядя, но, бросая косвенный взгляд, вдруг чувствую: что-то знакомое. Что? Возвращаюсь, вглядываюсь: решительно никакого изображения вообще не видно. Каша мазков. Опять ухожу, бросая последний взгляд. И опять - знакомое. Я понял: надо не вглядываться или смотреть прищурившись - и тогда видно, что это. Это ялтинский пляж с сутолокой тел-мазков на переднем плане и с дрожащим от жары и гомона воздухом, что между зрителем и горами, с их Ай-Петри. Читаю название - что-то вроде такого: “Ялтинский пляж”... Ура! И - нравится. От княжны Лопухиной я глаз оторвать не могу, так нравятся ее черты лица, ее лукавая улыбка, ее глаза - почти влюбился. Значит - прекрасная картина. А перед “Волной” Айвазовского (огромное полотно) у меня,- когда я рассматривал, как же сделана прозрачность воды,- как-то незаметно (близко подошел) исчезла из поля зрения рама, и на миг показалось, что меня сейчас настоящая волна накроет. Миг, но достаточно, значит - очень хорошая картина: взволновала. И то же - с шишкинской “Корабельной рощей”. Вглядывался, как сделана кора сосны, и опять подошел близко, и уплыла из внимания рама. И опять на миг показалось, что я - в лесу... И Чюрленис... Как ни зайдешь в галерею его картин, так новую полускрытую деталь заметишь где-нибудь. Бесконечность какая-то...
Но постепенно, постепенно я начал вводить различия в свое восприятие живописи. Я принял для себя критерий, что искусство, высокое искусство, это то, что производит в зрителе (в слушателе, в читателе) довольно сложную ассоциацию идей - как выразился Плеханов.
Такие зерна упали в благодатную почву. Давно, еще в студенчестве, я поспорил с одним псевдолюбителем живописи (тот прочел биографии многих знаменитых художников), что он откажется перед общим нашим кругом знакомых от притязаний на роль знатока живописи, если мы с ним (каждый - себе) выберем по штуке из его собрания репродукций, и я его - по времени - переговорю, говоря исключительно о своем впечатлении от картины, а не об истории ее создания, биографии художника и тому подобном.
Юношеский максимализм... Соперник согласился на такое соревнование и выбрал рембрандтовский коллективный портрет врачей перед трупом - там много фигур. О каждой - по несколько слов промолвил и натянул несколько минут. А я взял - не помню чье - изображение Иисуса Христа (“Пантократор” - как бы портрет его). И такое вдохновение было в лице Иисуса, и так веще глядел он вдаль,
поверх меня - зрителя - (а ведь портреты обычно “глядят” на зрителя), что я решил, что он как бы в Будущее смотрит, что он как бы видит его, представляет, какое оно прекрасное, что он глядит через века - и куда ж это, получается, если через века - из моего сегодня? да в коммунизм же он глядит, коммунизм он провидит! Я так возбудился, что проговорил дольше. И победил.Вот она - почва, которую я засевал плехановской мыслью о сложных ассоциациях идей при восприятии искусства.
По этой логике - если умеешь подыскивать слова и почему-нибудь не стесняешься раскрывать себя, то чем больше можешь сказать в результате того, что смотрел на картину, чем сложнее ассоциации, тем выше по ранжиру произведение. И я решил, что приблизился к мечте юности моей: понять, что значит шедевр. В литературе (благодаря книгам Г. А. Гуковского) мне открылось много шедевров. Следуя методу Гуковского, я осложнил для себя понятие “шедевр” еще свойством как бы пропитанности каждого элемента произведения, каждой клеточки его строения соком идеи, ради которой произведение создавалось. Со временем и в живописи мне представилась возможность найти такого “идейного” художника, даже “сверхидейного”, можно сказать,- Чюрлениса. И объясняя для себя в таком духе его творчество, а также подыскивая (и находя!) себе опоры в авторитетах, я дошел до как бы искусствоведческого экстремизма - самоцитирую:
<<...не картиной, а чем-то вроде документа или раскрашенной фотографии, не поэмой в красках, а наглядным пособием или иллюстрацией, или изящной вещью, пригодной для украшения жилья и учреждений,- оказываются также большие тщательно написанные живописные изделия всех, грубо говоря, бездушных художников... в живописи очень много таких работ, много оттого, что трудно преодолеть присущее ей диалектическое противоречие изображения и выражения.
Что это значит? Это значит, что не может быть живописца, не влюбленного в натуру, не платящего дань этой любви - изображением. И чтобы верно служить этой любви, нужен острый глаз и мастерская рука. Но искусство идеологическое, рождающееся из самой глубины души художника и воспринимаемое зрителем не только глазами, но и, так сказать, всей нервной системой (а только для этого оно специфически и предназначено и иначе было бы вытеснено из жизни: зрелищем, развлечением, занятием, игрой, ремеслом...) - идеологическое искусство - требует от художника не только таланта глаза и руки, таланта любви к натуре, к природе, к жизни, к человеку в их видимых глазу сторонах,- идеологическое искусство требует от художника еще великого ума и души>>.
То есть голландец Хеда, например, получалось, по-моему,- художник без великого ума и души, а Шишкин - с оными.
Но не может же, думалось, вся рота шагать не в ногу, а один я - в ногу. О картинах голландцев веками говорят, мол, это - мировые шедевры, а о шишкинских пейзажах что-то такого не слышно.
Нужны были оправдания для роты. И они начали копиться. Цитирую свою коллекцию интерпретаций художественных деталей:
<<
В. Хеда. “Натюрморт. Ветчина и серебряная посуда”. 1649 г. Почему выбор предмета такой низменный: еда и посуда, причем все - богатое? - “Гегель утверждал, что бытовая фламандская живопись - это не реализм, а романтизм; он пояснял свой тезис тем, что глубокая суть фламандской живописи - вовсе не изображение объективной жизни, быта, а чувство гордости нации, победившей жизнь, овладевшей внешними благами, что суть здесь в переживании, настроении, которому полностью подчинена внешняя реальность, исчезающая как самостоятельная сила”. (Гуковский. “Пушкин и русские романтики”. М., 1965, стр. 83>>.Вот такой экспонат в коллекции...
Это уже,- думалось,- что-то. Появился шанс понять, в чем шедевральность голландских натюрмортов XVII века. И тогда я “прозрел”, о чем это пишет Недошивин в имевшейся у меня книжице “Беседы о живописи”:
<<
Когда Хеда писал свой завтрак, он не потому так тщательно выписывал всю эту снедь и утварь, что хотел польстить корыстно-собственническому чувству голландского бюргера (дескать, как всего много и какое все добротное у хорошего хозяина!). Он восторженно рассказывал зрителю, как интересен, хорош, многообразен мир даже в тех ничтожных проявлениях, которые нас повседневно окружают. И хрустящая корочка слоеного пирога, и звонкое стекло посуды, и перламутр ножевого черенка - все вызывает в художнике живое чувство утверждения материальности мира, его богатых и благих даров. Тогда, в XVII столетии, это было немаловажно>>.Ага! Раз привлекается идея, масштаб которой соизмерим с целым веком (XVII), а по Гегелю - идея еще имеет и сверхнациональное значение: как пример другим нациям, в XVII веке еще не сумевшим “овладеть внешними благами” - раз так, то эти натюрморты, конечно же, - шедевры (к тому ж и поразительны - “как живое” на них... да еще эта подробность оказывается столь многозначительной в своей бравурности, хвастовстве на весь мир).
В то время в Каунасе была выставка западноевропейских (если не у`же - голландских) пейзажей каких-то тех, надцатых веков.
Я посмотрел и поразился: 300 лет тому назад в Голландии даже в деревнях, даже у бедных крестьян дома были каменные, чего частенько нет по сей день и в наших советских деревнях! Масштаб хвастовства голландских натюрмортистов перехлестнулся для меня и за XVII век: вот что значит капитализм (он тогда в Голландии утвердился, впервые в мире)... не только в сравнении с феодализмом, а даже и с социализмом!!!
И у меня хватило вдохновения, казалось бы, непритворно ответить на такой коварный вопрос - “что же: если не символист, а реалист создаст картину,- в ней тоже надо уметь видеть что-то неочевидное и высокое?”.
Цитирую из первого варианта моей рукописи о чюрленисовских картинах:
<<“
Совершенно неправильна мысль, будто бы привычка к анализу, ориентировка в технических вопросах искусства мешает получить сильные впечатления от него, испытывать непосредственные эмоции при его восприятии. Эта мысль на самом деле - лишь лукавое самооправдание людей, утерявших способность воспринимать искусство...Нет, изучая, анализируя в школе одно произведение за другим мы приучаем учащихся видеть произведение искусства во всех его элементах.
А тот, кто видит произведение искусства во всех его деталях и конструктивных элементах, может и должен воспринимать его эстетически полнее и лучше, чем другой читатель. Именно вследствие углубления в анализ искусства он воспринимает его не только вернее, но и сильнее; он испытывает при чтении романа или стихов не меньше, а больше эмоций и душевных движений вообще, чем читатель, которого не научили видеть, анализировать... Значит, мы ведем учащихся от “простого” некультивированного стихийного восприятия искусства - к “простому” восприятию, но уже культивированному, сознательному, обученному и тем более сильному и жизненно-активному
” (Гуковский. “Изучение литературного произведения в школе” стр. 86-87).Возьмем пример, подтверждающий последние пассажи цитируемых мыслей Гуковского. Имея в виду при этом, что вы, читатель, как условились, “не понимаете” символиста Чюрлениса, обратимся к его антиподам - сугубым реалистам, которых некоторые даже за натуралистов принимают, которых, вроде, и толковать и анализировать - излишне.
Знаменитые голландские натюрморты XVII века... Кто-нибудь скажет: ничего волнующего, если не считать, что иной раз может разгореться аппетит от вкусного “прямо как живого” вида отличной снеди и замечательной столовой утвари. Но почему посуда для изображения взята богатая, серебряная, тонко отделанная чеканкой, почему салфетка такая белоснежная, а еда столь обильна, питательна и полезна? И зачем вообще так детализировать и выписывать изображаемое, так подчеркивать вкусность, сочность, блеск и т. д.? Наверное Гегель, отвечая себе именно на такого рода аналитические вопросы, показал, как много национальной голландской гордости (гордости своим трудолюбием, настойчивостью, терпением и мужеством) заключено в этих “низких” темах житейской прозы. Голландцы отвоевали свою землю у моря, первые в мире вырвались из феодальной средневековой бедности народа и до настоящего времени их страна является одной из самых передовых по уровню жизни.
Вот она - возвышенная, но и скрытая сторона этого восторженного изображения вроде бы низкой духом зажиточности.
А возьмите Шишкина, например, его знаменитую “Рожь”... Разве здесь просто красивый вид или бездумная натуралистическая фотография? Разве нет здесь чего-то прямо противоположного голландским натюрмортам? Там - достижение, здесь - возможность. Здесь - не хрустящая корочка пышного хлеба на столе, здесь хлеб, который еще Бог его знает, когда и в каком количестве попадет на стол к крестьянину, своему истинному хозяину. Но нет и тени уныния в картине. Буквально безбрежно хлебное море, до самого неба, до горизонта простирается рожь. Но Шишкин не удовлетворился этим и дал еще одну линию горизонта: справа в беспредельные дали уходят уступами леса - широка и могуча русская земля. А не специально ли художник так детализировал и проработал передний план картины? Ведь размер картины огромен. Ведь подойдя близко и рассматривая эти травы и цветы, колосья и колеи постепенно теряешь чувство реальности, что стоишь в музее, и кажется, что со всех сторон тебя охватывает не просто простор и высокое небо, а сама материализовавшаяся мощь. И под стать ей эти сосны. Почему Шишкин взял отдельно стоящие деревья, случайно ли это? Нет. В великом произведении искусства каждая его клеточка, как соком, пропитана главным чувством, главной мыслью, главной идеей. Деревьям легче вырасти группой, лесом, чем в одиночку. Какое же ощущение силы пробуждается в душе, если перед тобой не одно-два, а много вот таких богатырей, по одиночке выдержавших все бури и ветры на своем долгом веку...
Могучая, но бездействующая сила. Огромные потенции, несметные возможности... А пока - тихо. Ни ветерка, ни шороха вокруг. Ни единой волны на поверхности ржаного моря. И даже эти стрижи, несущиеся над самой дорогой, возможно, не зря введены художником в картину. Ведь это в затишье перед будущей грозой спускаются к земле мошки, а за ними и стрижи. И нет ли намека на сгущающиеся тучи вдали справа над отдаленными лесами? А пока - тихо. Спит могучий народ необъятной земли величиной в одну шестую часть земной суши и впереди у него - богатырское будущее>>.
Так сопряглись у меня голландские натюрморты с Шишкиным.
Но я писал это - по репродукциям. И по памяти. Подлинников голландских натюрмортов и пейзажей Шишкина я давно уже не видел. И вот однажды, возвращаясь из командировки через Москву, я зашел, по обыкновению, в музей (в тот заезд это был музей имени Пушкина) и против обыкновения - не один, с сослуживицей. Она не понимала живописи, но ей было любопытно, как я произведение раскалываю, как орех, и извлекаю ядро.
В тот раз на меня вдруг произвела впечатление Ника-победительница. От натурализма, с каким выполнены ее угадываемые под складками накидки мощные мышцы и вздыбленные крылья, веяло такой напористой, вернее, воспаряющей силой... слов нет. Воплощенная победа.
А я в те годы особенно стеснялся непосредственного большого впечатления, когда оно меня переполняет настолько, что никаких слов не хватает. Мне тогда это казалось неверностью Чюрленису, над рукописью книги о картинах которого я тогда работал по вечерам. Как бы ни было сильно мое впечатление от его картин, все же переживание усиливалось вдали от них, по мере их обдумывания. И ощущение потрясения от внезапного открытия сути всегда случалось со мной не в галерее, а в самых неожиданных местах, ибо я почти все время, свободное от основной работы, жил как бы двумя жизнями: внешней и внутренней.
В общем, я не доверился тогда, в Москве, в музее, непосредственному в себе, прошел мимо Ники молча и решил лучше поэксплуатировать заготовленное. Повел спутницу к голландским натюрмортам и... вышел пшик. Ни я сам не взволновался, ни слушательницу не раскачал. “Ерунда, хоть ты и хорошо говоришь”,- сказала она, и мне нечего было ответить.
А потом я наткнулся на неприятнейшие слова о Шишкине очень уважаемого мною Асафьева:
<<
...к последней трети XIX века начинает становиться заметным... тяготение к живописи, “не беспокоящей мысли и не волнующей глаза”, живописи для отдыха от дел, для услаждения взора... “настоящими” видами... тем, что “похоже”, “вот совсем как в жизни”... основной принцип: не волновать, не тревожить сознание... Нравится - вот и все. Даже талант [специфически живописный - различать от таланта рисовальщика] особенной роли не играет... [обязателен, впрочем] внешне технический шик, блеск, лоск, то есть не только изображение [“настоящих” видов]... но и элегантность изображения...В этом роде особенно выделяется И. И. Шишкин, самый последовательный представитель “критерия настоящего”, убежденный “натуралист” и, бесспорно, прекрасный виртуоз-рисовальщик [
но не колорист, не собственно живописец]. Любопытно его искусство. В своих громадных полотнах он однообразен и композиционно примитивен, выдавая за “настоящий лес” ловко расставленные для услады глаза “точные породы деревьев” и сразу бросающиеся взору эффекты освещения. Знание леса налицо, но деловое, количественное, хозяйское. Недаром Шишкин был знаменит в эпоху колоссальной распродажи лесов на вырубку. Впрочем, как раз среди людей, обязанных относиться к лесу делово, оценочно, среди управляющих, лесников, агрономов я встречал безусловных поэтов и романтиков леса - не чета Шишкину, с его живописно-мертвыми лесными штампами.Но стоит только познакомиться с шишкинскими рисунками пером - впечатление меняется. И чем они, рисунки, менее отделаны и “зализаны”, тем более их хочется рассматривать, ибо в них ощущается через рисунок, через удивительно гибкое, чуткое перо, что в лесу всегда рост, всегда жизнь “вперегонки”, и что растения друг за другом и друг сквозь друга стремятся захватить свет и лучи солнца. В рисунках “видна” тишина, “слышна” неизбывная изменчивость светотеней и осязается изменчивое постоянство якобы неизменного облика. Тут Шишкин чуткий поэт леса и точность его наблюдений усугубляет тонкость поэтизации реального. И все-таки при малейшем вмешательстве “обобщающего ремесла знатока” возвращается на свое место критерий “настоящего”, мнимый технический шик и “безмятежная красивость”, то есть все, что нужно зрителю [
буржуазного салона, как в другом месте пишет Асафьев], желающему от живописи только услаждения в часы “отдыха после службы”.В гостиной, в салоне, в кабинете должны находиться картины, ничем не тревожащие сознания, но “дразнить” (не волновать, а дразнить) чувство они могут. [
Далее у Асафьева текст о чувстве страха перед “водой” Айвазовского, текст, с которым перекликается мною чуть раньше ретроспективно-свысока описанный страх перед “Волной” Айвазовского] ...и страшно, и приятно [из-за технической шикарности]... и страх поэтому не страшный - это свойство и было причиной исключительной притягательности его привычного для глаз мастерства [И дальше - по смыслу контекста - распространимо и на Шишкина]. Впрочем, мастерство ли тут! Ценно ли мастерство без борьбы за нелегко дающееся выражение замысла, за живописное осмысление действительности? Думаю, что нет, и по этой причине безмятежность искусства Айвазовского [и Шишкина] не ставит его выше любой холеной живописи художников-технологов, работающих на хорошо учитываемый спрос>>.Вот такой разгром.
Должен признаться, что вся эта уничтожающая Шишкина тирада действовала на меня только в силу авторитетности Асафьева, авторитетности объективной и субъективной (из его книг в мою коллекцию интерпретаций художественных деталей попали: Борисов-Мусатов - “У водоема”, Серов - “Портрет Стасова” и декорации к опере “Юдифь” в 1907 году, Шварц - “Иван Грозный у гроба сына” и “Царский поезд на богомолье”, Головин - декорации к опере “Каменный гость” в 1917 году и к опере Глюка “Орфей и Эвридика” в 1911 году, Репин - “Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 г.”, Крамской - “Портрет Л. Толстого”, Добужинский - “Вильно” и “Уголок Петербурга”, Коровин - “Париж. Бульвар капуцинов”, Сомов - “Украденный поцелуй”, “Дама в голубом” и портреты Блока, Добужинского и др. - очень много. И все - Асафьев.) Но слова о Шишкине были для меня лишь общими фразами, как и общие рассуждения Гегеля о голландских натюрмортах. И как в натюрмортах я, в конце концов, не почувствовал высокого романтизма, так в шишкинских деревьях из больших картин я не почувствовал безмятежность и тенденцию не тревожить сознание.
В общем, в моей душе произошло раздвоение: рассудок, принимающий Гегеля и Асафьева, говорил мне одно, а непосредственное чувство - другое. И в этом, если позволите, для меня тоже была некая общность между голландцами и Шишкиным.
А потом так случилось, что о Шишкине и о своем внутреннем разладе по поводу него я позабыл. О голландцах же все попадались и попадались высказывания. И - парадокс - хоть они и могли примирить мой рассудок с чувством, я так мало доверял последнему, что не замечал (загипнотизированный догмой о глубоких ассоциациях и высоких идеях), что высоты-то особой у голландцев нет.
Плеханов:
<<
Голландцы отвоевали у моря ту почву, на которой они живут, благодаря их настойчивости, терпению и мужеству им удалось свергнуть господство Филиппа II и завоевать религиозную и политическую свободу, а их трудолюбие и предприимчивость обеспечили им значительное благосостояние. Голландцам были дороги эти свойства их характера и эта их почтенная буржуазная зажиточность. А эти-то свойства и эту-то зажиточность и воспроизводили голландские живописцы>>.Не ахти какая высота - трудолюбие, предприимчивость и зажиточность. Правда, история еще вмешана тут. Но были примеры и с отвязыванием истории.
Фромантен:
<<
Если поразмыслить о событиях, какими полна история Голландии XVII века... то нельзя не удивляться равнодушию живописи к самой сущности народной жизни.Идут сражения... на суше и на море, на границах и в самом сердце страны. Внутри междуусобицы... Войны с Испанией, Англией и Людовиком XIV не прекращаются. Голландия, наводненная врагами, защищается - об этом повествует история... Можно сказать, что все художники... прожили свою жизнь, почти каждый день слыша грохот пушек.
Однако их произведения показывают нам, чем они были заняты все это время...
Несмотря на войну, кое-где жили мирно. В эти тихие, как бы равнодушные уголки художники переносили свои мольберты. Здесь они находили приют для своей работы... А так как повседневная жизнь шла своим чередом, то они и писали ее, изображая домашний быт, сельские и городские нравы, писали наперекор тому, что вызывало тогда волнение, тревогу, патриотический подъем, пробуждало сознание величия страны. Ни волнений, ни смут не было в этом удивительно укрытом мире, который можно было бы принять за золотой век Голландии, если бы история не говорила нам о противном.
...никаких сцен, выходящих за пределы жизни полей или городов, которая глазам художников того времени представлялась как жизнь однообразная, плоская, вульгарная, лишенная исканий, страстей и подчас даже чувств
>>.И дальше идет длинное перечисление тем изображения. Там не упомянутой оказалась снедь и посуда, но не беда. Ясно же, что натюрморты вполне вписываются в общую всем голландским художникам того времени философию их искусства.
Правда (опять это “правда”), можно счесть, что тут отказ не от истории, а от исторической фактографии, от публицистики, как выражаются теперь. Но были примеры подведения под “низкие” голландские натюрморты очень глубоких рассуждений, исторических в очень широком плане: в мировом и общечеловеческом.
Тот же Фромантен, Луначарский и Ипполит Тэн.
Сначала Фромантен:
<<
Революция, только что даровавшая народу свободу, богатство и предприимчивость, лишила его того, что повсюду составляет жизненную основу великих школ [а именно: элементов драматического, патетического, романтического, исторического - как в другом месте выразился Фромантен]......Проблема выглядела так. Есть нация бюргеров, практичная, мало склонная к мечтаниям, занятая делами, настроенная отнюдь не мистически, пропитанная антиитальянским духом [
Фромантен имеет в виду Возрождение: привычку мыслить возвышенно, обобщенно, с человечеством - универсальным, со вселенной - очеловеченной]... с религией без алтарных картин [протестантство], с привычкой к бережливости. Для этого народа надо было найти искусство, которое понравилось бы ему, соответствовало ему, изображало его...Голландская живопись... была и могла быть лишь портретом Голландии... верным, точным, полным, похожим, без всяких прикрас... Может показаться, что нет ничего более простого, как открытие этого будничного искусства. На самом деле, с тех пор, как стали заниматься живописью, нельзя представить себе ничего равного ему по... новизне
>>.А вот Луначарский:
<<
Маленькая амплитуда колебаний - вот что было им свойственно. Они немножко похожи на того чеховского человека, который никогда в жизни не написал восклицательного знака. Такова и голландская живопись - без восклицаний, без всякого пафоса, чрезвычайно по земле ходящая и очень мещанская, потому что служила она мещанству. Мещанство, отвоевав Голландию от Испании, возлюбило себя вдвойне, считало себя венцом человечества, лучшим, чего человечество может добиться. Голландский мещанин считал, что если он производит полотно и честно торгует, не слишком часто напивается, если у него есть жена и дети и дом его полная чаша, то чего же ему еще остается желать? Все это он считал божьим благословением и законной радостью жизни. В нем жила уверенность, что его маленький мирок есть перл создания... Вот все это и выдвигало голландский реализм на первый план>>.И далее - об одном из видов реализма:
<<
Тэн выдвигал такую мысль, что реализм соответствует самодовольным эпохам, у которых нет внутренних сил, способных поставить перед ними высокие идеалы, и эпохам, которые не терзаются никакими противоречиями и, стало быть, имеют в некоторой степени застойный характер. Люди, являющиеся носителями реализма, по Тэну - довольны бытием, довольны общественным строем, их окружающим, принимают его с любовью таким, каков он есть. Это верно, что буржуазия, в особенности средняя, в тех случаях, когда она сильна достаточно, чтобы определять искусство своей эпохи, часто склоняется к реализму, утверждая и прославляя в нем свой быт. Голландская средняя буржуазия XVII века, среди которой было сравнительно мало в то время богатых негоциантов и совсем не было знати, затеяла отложиться от Испании, колонией которой она была>>. И победила. И по уровню жизни действительно опередила всю Европу и весь мир.Ну, чего еще нужно, казалось бы? Все тут есть! И не волнующий мою душу апофеоз низкого мещанства, и потрафляющая рассудку сложная (историческая) ассоциация идей. Но... Никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть. Срабатывает инерция внушенной идеи, что низкое и шедевр - не совместимы. Нужно было мне наткнуться на концепцию в веках повторяющихся больших художественно-идеологических стилей, то ввысь направленных, соборных, коллективистских, то приземленных, индивидуалистических, гуманистических,- остро и красиво говоря,- чтобы открылись мои духовные очи на голландские натюрморты. Они нашли для меня свое место на великой Синусоиде стилей:
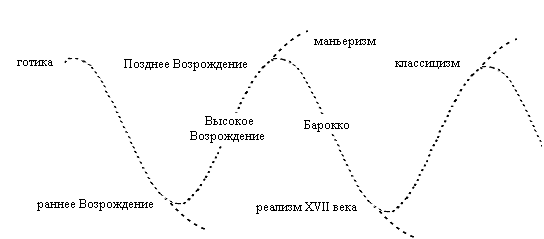
Всемирно-исторична, то есть вели`ка, может быть сама низость духа. Низость и шедевр - совместимы!
А куда ж отнести Шишкина? К реализму XIX века? Так он - низкий на моей Синусоиде? Как же совместить мои высокие мысли и чувства, всю жизнь мою рождающиеся от его картин, с этой низостью? Просто ошибался всегда?
Вот, казалось бы, еще тому доказательство, подпадающее под мою же заявленную “синусоидальную” схему (еще самоцитата из черновиков о Чюрленисе, вернее, коллаж с использованием Луначарского):
<<
Целостной была поначалу академическая живопись - искусство крупной буржуазии, победившей феодализм в Великой Французской революции. И в том, что никуда, ни к каким идеалам она не порывалась, совершенно довольная окружающим, сказывалась известная сила, инертная сила класса-победителя. Правда, для литературы такое самодовольство было гибельно, но живопись - добросовестная, глубоко спокойная - становилась иногда даже по-настоящему большим искусством>>.Что,- подумалось,- если и шикарная живопись “не беспокоящая мысли”, предназначенная для буржуазного салона (по Асафьеву), есть русский вариант родового искусства класса-победителя. Ведь в последней трети XIX века (после отмены крепостного права и вступления России на капиталистический путь общественного развития) было кому оказаться вдруг на верху после еще недавнего невидного положения.
Что если шишкинские пейзажи - одно из выражений подобной самолюбующейся победительности? И Асафьев прав?..
Однако.
Есть реализм и реализм.
Начать с того, что синусоида - слишком грубая схема и слишком, так сказать, западно-европоцентристская.
И разной высоты всплески и впадины должны быть на уточненной схеме, и вообще ближе к истине и к истории не плоская кривая, а объемная спираль, плоской проекцией которой и является синусоида. Да и спираль-то должна быть не из линии, а из, опять же, спиралек, если не еще сложнее: спиральки - из спиралечек.
Существует так называемый “анклавный” тип культуры (не всеми, впрочем, признаваемый).
<<
Существо “анклавного” варианта состоит в том, что данная нация проходит определенные стадии своей духовной эволюции не вся сразу и целиком, а как бы по частям,- так, что разные социальные слои вовлекаются в этот процесс неравномерно, иногда через большие промежутки, с резким отставанием общественной “периферии” от “центра”. “Анклавность” характерна, как правило, для процесса европеизации национальных культур “Незапада”>>.Далее я буду цитировать (это Кожинов) с пропусками.
<<
Сначала достижения западного... осваиваются и развиваются верхушечным, “элитарным” общественно-культурным слоем [дворянская культура в России]... Во второй трети XIX века... широкой волной входят разночинцы, которые именно в эту эпоху решительно претендуют на то, чтобы покончить с культурной гегемонией дворянской интеллигенции. Разночинец врывается в становящийся мир новой русской культуры как своего рода “варвар”, который не может и не хочет полностью слить свою внутреннюю жизнь с духовным опытом предшественников. Поэтому во многих сферах он вынужден начинать строительство своей новой культурной системы с той самой исходной точки, которая дворянской интеллигенцией была уже давно пройдена. Так возникла “вторая волна”... а за ней на рубеже ХХ века последовало нечто вроде “третьей волны”, захватившей городские низы и национальные “окраины” Российской империи>>.Я нарочно опустил название периода, который в цитате считается начальным. Мне важно было лишь показать возможность повторения, повторения в модулированном, так сказать, виде великих стилей Синусоиды. В каком-то приближении к истине можно было б сказать, что оригинальных наименований в Синусоиде должно было б быть меньше. Через века же “повторяющиеся” стили надо было б называть тем же названием, но с добавлением века (как это уже и получилось само собой для реализма XVII века).
Теперь несколько слов о верхней и нижней половинах Синусоиды (я буду очень огрублять - и потому, что так легче и писать и понимать, и потому, что это - схема).
В “верхней” части - искусство с идеалом в будущем, “нижняя” - в настоящем.
Тут я хочу (извиняюсь) дополнить “анклавную” концепцию.
Каждый раз по-своему наново начинают не только новые социальные слои, но и новые поколения. С чего начинают, я не стану уточнять. По-видимому, у кого как.
Пусть, например,- только примеры я буду приводить литературные, так легче,- итак, пусть, например, идейно-эмоциональная направленность отрока Пушкина начинается с такого отношения к антитезе “настоящее - будущее”, которое огрубленно можно было б выразить: “Да здравствует настоящее!” Действительно. Однотомное собрание сочинений Пушкина,- скомпонованное хронологически,- начинается стихотворением “К Наталье”:
...Видел прелести Натальи,
И уж в сердце - Купидон!
Так, Наталья! признаюся,
Я тобою полонен,
В первый раз еще, стыжуся,
В женски прелести влюблен.
Целый день, как ни верчуся,
Лишь тобою занят я;
Ночь придет - и лишь тебя
Вижу я в пустом мечтаньи,
Вижу, в легком одеяньи
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи -
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...
И проснулся..
.Крах? Да и кончается - признанием лирического героя, что он монах... Мечта не достижима? - Нет. Шутливо тут все. И идеал - достижим.
Это очень напоминает раннее Возрождение - культурную ипостась мирного внедрения буржуазности (индивидуализма, личной свободы) в феодальный строй.
И как в Западной Европе обострение борьбы третьего сословия за эту свободу - в культуре отразилось Высоким Возрождением, так молодого Пушкина 1812 год, беспрецедентный год общественной самодеятельности и инициативы, а также последующая предреволюционная ситуация в среде передового дворянства сделали лидером так называемого гражданского романтизма.
“Да здравствует ближайшее будущее!”- таков идейно-эмоциональный лозунг произведений Пушкина нового периода, и таково же резюме всех предреволюций. Утопиями называли их веру лишь следующие поколения.
Умница Пушкин, однако, быстро понял,- еще даже до разгрома декабристов,- что есть что-то нефундаментальное в благих порывах личности. И на миг разочаровался.
Демон
В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия -
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,-
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапно осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел -
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Но Пушкин не задержался на разочаровании. “А почему не вышло? Обратимся-ка от будущего к настоящему без предвзятости”,- вот пафос следующего этапа его развития: он открыл реализм потерпевших поражение. На этом жизнь его оборвалась.
А жизнь пережившего его Гоголя оборвалась на фазе разочарования. (Люди - разные. Не всем дано взять себя в руки и начать разбираться.)
Трагедийный комизм - пафос Гоголя (второго периода). Специфическая героика и трагедийность, отмеченная печатью безысходности, плюс гротескная комика - так характеризуют вообще этот период в литературе. “
Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и трагического величия”,- писал Белинский. Гоголь всю жизнь боролся за цельного, гармоничного человека, но чем дальше, тем больше утрачивал веру в него, так как видел вокруг всеобщее “обмеление”, духовное рабство, скуку (“Мертвые души”); в результате и возникла “болезненная” книга (“Выбранные места из переписки с друзьями”), где Гоголь взывает к идеалу и к усовершенствованию личности,- писал Аполлон Григорьев.Это уже иной лозунг: “Да здравствует сверхбудущее!”
Наиболее ярко реализовал его своим творчеством представитель следующего поколения, исключительно (по краткости жизни) современник николаевской реакции на декабризм - Лермонтов.
Но не тем холодным сном могилы...
Я б хотел навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...
Могли ли, однако, Гоголь и Лермонтов проигнорировать недавнее открытие реализма Пушкиным? Нет. Реализм - это как признак витка спирали: куда б ни завернула его линия - это все еще тот же виток.
Поэтому когда после очередной крупнейшей (с 1812 года) войны с Западом - после Крымской войны, поражением окончившейся для России и показавшей, что крепостной стране больше не быть великой державой,- когда после этой войны уничтожение крепостного права стало реальной практической целью, тогда представитель опять же дворянского искусства - граф Лев Толстой - под уже знакомым идейно-эмоциональным лозунгом “Да здравствует будущее!” (пусть не ближайшее, но и не заоблачное) - Лев Толстой, находясь на том же типологическом, что ли, витке истории искусства, что Гоголь и Лермонтов, тоже не мог отказаться от исследования, от реализма.
Но посмотрите, какой же он романтический, этот толстовский реализм (я не перейду дальше времени конца написания “Войны и мира” - 1866 года).
Тут я вынужден объявить об еще более длинном отступлении от живописи в литературу.
Романтическое произведение - рупор автора, выражение его субъективности. И что делает Толстой, такой, вроде бы, незаинтересованный эпик-исследователь?
Цитата из Страхова:
<<
Ничего подобного не представляет ни одна литература. Тысячи лиц, тысячи сцен, все возможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления,- все есть в этой картине...Полная картина человеческой жизни.
Полная картина того, в чем люди полагают свое счастье и величие, свое горе и унижение.
Вот что такое “Война и мир”
>>.А вот что (не первым, наверно) заметил Ю. Андреев: <<
Он [Толстой] максимально устранил из “Войны и мира” все, что напоминало бы о крепостном праве>>. И еще вот: <<Отсутствие в громадном романе представителей любых других классов, помимо дворян и крестьян...>>В чем дело?
А в том, что Толстой, подобно революционным романтикам всех времен, думал, что он знает,
что предложить обществу, чтобы решить крестьянский вопрос; знает, что предложить и еще до отмены крепостного права (накануне которого он и начал “Войну и мир”); знает, что предложить и после отмены, такой отмены, что бедствий народа не умалила (а тогда он кончил “Войну и мир”).Мысль его заключалась в том, что повернуть нужно к патриархальности, что каждый должен улучшить самого себя и быть поменьше (как патриархальный крестьянин), поменьше связанным с другими (что и обеспечивается патриархальной жизнью). Толстой считал, что привести к этому общество могут лишь так называемые гуманные дворяне. Те, жизнь которых близка к крестьянам. А западный, капиталистический путь,- путь во главе со все более заправлявшими в российской жизни разночинцами, купцами, кулаками,- это неверный путь, который кончится поражением, как и Крымская война. Потому что историю определяет всечеловечество, то есть крестьянство. Захочет оно отмахнуться от захватчиков - и будет победа 1812 года, устанет от угнетения - и будет поражение в Крыму. Все будет так, как оно неоосознаваемо для самого себя хочет. Дворяне же могут это довести до сознания. Но только не высший свет, далекий от народа, и не декабристы, тоже далекие от народа.
Потому-то начинал-то Толстой - по черновикам - “Войну и мир” с конца - с возвращения Пьера-декабриста из ссылки, после Крымской войны, а “начал” по окончательному тексту “Войны и мира” - с развенчания высшего света на примере салона Анны Павловны Шерер.
Конечно, это не открытые выкрики чистокровных романтиков. Толстой (ведь реализм открыт) не так явен. Но явен.
Цитирую А. В. Чичерина.
<<
С первых строк... во французском и русском говоре, в порхающем переходе с одного языка на другой, уже сказывается авторский критический подтекст. Его комментарий выплескивается и наружу: “...говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы”, “выказывая в сложившихся около ее рта морщинках что-то неожиданно-грубое и неприятное”.Третья глава открыта короткою фразой, которая обнаруживает автора еще больше. В пяти словах сомкнулись продление протекающего действия и весьма полное авторское отношение к изображенной сцене, авторская позиция.
“
Вечер Анны Павловны был пущен”. “...был пущен” - это голос из другого мира, антисалонное, деятельное, рабочее слово. Оно еще и усилено: “Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели”.Изведавший все извилины дальновидных затей князя Василия, многозначительные вздохи Анны Павловны, автор сам принадлежит к другому, духовно чуждому миру
>>.Толстой, вживаясь, как бы сживается со своими врагами, но лишь для того, чтоб тем разительнее их осудить.
Опять Чичерин:
<<
Анна Павловна, конечно, в своем кругу очень мила, добра и заботлива, ей свойственны чувства благодарности, привязанности и верности. Но придворный аристократизм, окрашивающий эти добродетели, противопоказан прямоте и простоте авторского восприятия людей и жизни. Элен очаровательна в глазах окружающих ее людей. Она не только хороша внешне, но и умеет себя держать - и безукоризненно, и изящно. Тем более ненавистны автору и ее такт, и ее восковая красота. Представляя как будто волю читателю соглашаться с общим мнением или же с ним, автором, он все же так сильно, и чем дальше, тем сильнее, гнет в свою сторону, что читатель ему покоряется безусловно>>.Я не стану дальше цитировать сплошь. Думаю, Чичерин успел доказать на нескольких крошечных (а это так ценно) элементах идею целого, что можно без подробного обоснования поверить характеристикам пообщее:
<<
В образе автора...- знание закономерности каждой человеческой судьбы. Для фаталиста рок - нечто слепое; видеть нечто в основе своей разумное в судьбе отдельного человека и в истории общества - это фатализму противопоставлено>>.А Толстой, видите ли, знает.
Спиноза писал, что в каждом утверждении есть доля истины; что сказав, мол, что Солнце в 200 шагах над землей в небе висит, высказана-де та действительная истина, что Солнце - отдельное от Земли тело...
Толстой и вправду приблизился к тому постулату, что войну выигрывают не полководцы, а народ, если война справедливая.
Толстой считал исторический процесс “неразумным” в том смысле, что он получается из “роевого” - слитного поведения крестьянства, которое он считал всечеловечеством. В отношение (то или иное отношение) к этому “роевому” движению он и ставил всех героев романа-эпопеи, как бы зная, предопределяя их судьбу близостью к народу. (А это, вспомнив Чичерина,- уже сколько-то разумно, исторически разумно.) Например, Шкловский (я вообще здесь все модулирую Шкловского) заметил, что в черновиках Ростовы разоряются вследствие проигрыша Николая. А в окончательном тексте - не только, а еще и потому, что Наташа принимает на себя решение бросить “детское” имущество, взяв на освободившиеся телеги раненых. Это - уже находится в отношении к истории. Это уже не слепой случай, не фатум, а историческое предопределение: а как же могут не пострадать лично патриоты в трудную для родины годину. И в то или иное, но всегда в отношение к “роевому” патриотическому движению всечеловечества поставлены все в романе-эпопее. Из-за этого он получился, собственно, не романом. В романах герои все встречаются, встречаются, и в том - его единство. А тут единство - в отнесении к общей истории.
Толстой сделал открытие: открыл метод художественного отражения законов истории. А собственно ни одного закона истории не открыл. Думал же, что открыл. И из-за того был ипостасью гражданственного романтика. На вершинах Синусоиды истории искусства у всех - утопии, которые их авторы, до времени, за утопию не считают. Оттого - и энергия их.
Здесь нет спокойствия аналитика, свойственного стопроцентному реалисту, потому-то и анализирующему, что он еще не знает пути в Будущее.
А Толстой уже знает. Вот и пишет Герцену (о задуманной “Войне и мире”): “
Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик...” А ведь в Пьере Безухове так много автобиографического, романтического (в смысле энтузиазма).Слова Толстого (не из “Войны и мира”): “
Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая бесконечная сила”.“
Лень писать с подробностями, хотелось бы писать огненными чертами”.“
Человеку нужен порыв”. Куда порыв,- добавляет Шкловский,- он не дописал. Просто порыв, душевная способность к нему.Романтик! Гражданский романтизм.
И вот этот романтик заявил себя вовсю открытым вторжением автора в третьем и четвертом томе романа-эпопеи.
Чичерин:
<<
Но вот автор заговорил прямо, от себя, стал размышлять и даже спорить о причинах и смысле изображаемых им исторических событий. Как если бы пианист или певец стал просто разговаривать с публикой что-то разъясняя, возражая кому-то![
Это написано по поводу выступлений Доливо-Саботицкого, но в сути своей это можно экстраполировать на Владимира Высоцкого. Кто слышал, например, комментарий Высоцкого к песне “Почему аборигены съели Кука”, не станет возражать. А Высоцкий тоже - на взлете Синусоиды.]Впрочем,-
продолжает Чичерин,- я знал одного первоклассного певца, который не считал унизительным для себя во время концерта, в пышном, переполненном зале, растолковать музыкальный характер и художественный смысл того, что он собирался петь или уже пел. Вы думаете, что не его это дело? К чему? А знаете, прекрасно это у него получалось>>.И далее - опять о “Войне и мире”:
<<
“Айсберги”, недоговоренности, стилю этого произведениям чужды. И даже наоборот: все договорить, все высказать до конца. Что в главном предложении не поместится, то выглядывает из деепричастного оборота>>.Стопроцентные “обитатели” низов Синусоиды все же очень ценят чисто литературные интересы, они любят изображать.
На верхах Синусоиды - важна мысль, выражение.
Чичерин:
<<
Перед читателями он [Толстой] не в роли созерцающего и шлифующего художника, а в качестве ищущего мыслителя, который меньше всего озабочен формальными условностями...>>Так появились его огромные громоздкие предложения.
<<
Образ автора с большой силой обнаруживается... в синтаксической структуре, где сцепление всех видов придаточных предложений, причастных и особенно деепричастных оборотов служит аппаратом разложения и крепления мысли... Чрезвычайно сильная примесь МЫСЛИ во всем ИЗОБРАЖАЕМОМ обнаруживает лицо пытливо, неустанно мыслящего автора, постоянно преодолевающего препятствия и преграды [как и бывает в жизни], не скрывающего шероховатость и колдобины избранного им пути [Элен - красива, Пьер - неуклюж, Наташа - неверная, Кутузов - обрюзгший], требующего и от своего читателя преодоления трудностей>>.И это - при всей апологетике безмыслия, апологетике, происходящей от идеализации патриархальности.
На парадоксах и противоречиях ничего не стоит меня поймать очень критически настроенному читателю. Но проявите волю понять меня. Патриархальные крестьяне, “безмысленные” и “безличностные” - это идеал. И все, кто к ним близок, - люди чувства и люди как бы преимущественно для общества живущие, как бы не личности - это тоже идеал. Но отстаивать этот идеал - дело Личностей и Мыслителей (хоть нескольких). Поэтому человек чувства, Пьер, беспрерывно размышляет,- замечает Шкловский. “
Не только Пьер, но и Наташа в постоянном внутреннем, философском или религиозном движении”,- пишет Чичерин. И в первую очередь мыслитель - образ автора. И все это (а не содержательное тяготение к безмыслию, к непосредственности как идеалу) определяет романтическую ипостась Толстого.В “Войне и мире”, в ранее написанных “Казаках” действуют громадные личности. И это определяет некий романтизм, всегда на личность уповавший преимущественно. Что идеал толстовских личностей - безличностное, общинное - это второе. Первое же - романтизм.
Я не стану больше развивать эту мысль, не стану писать о Платоне Каратаеве, в котором Толстой исказил суть русского солдата еще суворовского закала, исказил в угоду своей концепции доброй, рыхлой, все растворяющей патриархальности, не стану распространяться, что с такими, как Каратаев, пожалуй, и войну бы не выиграли. Всю эпопею все равно не охватишь, тем более, когда она - подспорье для другого совсем. А романтический характер творчества Толстого второго, по-видимому второго, периода его творчества, мне кажется,- и так уже доказан.
Мне столь надолго пришлось остановиться на Толстом, чтоб на конкретностях доказать очень еретическую сегодня и неподробно (о Толстом) высказанную мысль В. Кожинова о романтизме Толстого времен “Войны и мира” и вообще о повторении всех великих западноевропейских стилей в России XIX века.
Сам Чичерин, которого я здесь так много цитировал, не замечает, сколько подает он материала для ви`дения Толстого в романтическом свете. (Характерна фраза, которой он кончает свою статью: <<
Его [Толстого] сила в его ясности и в безусловном и до краев одухотворенном реализме>>.)Одухотворенном... Это ли не эхо романтизма: все - от духа, от души.
И мне для Шишкина еще одного одухотворенного нужно коснуться (я именно лишь коснусь) - Достоевского, тоже причисляемого Кожиновым к романтизму, с чем я уже не хочу согласиться. А хочу - к иному месту (выше вершины Синусоиды, как маньеризм) - на вылет вон с Синусоиды хочу я отнести Достоевского. Как ранее - разочарованных, но не без очарования разочарованных,- Гоголя и Лермонтова отнес.
Достоевский лишь на семь лет был старше Толстого. Но в молодости это много. Пока Толстой еще раскачивался, Достоевский успел увлечься утопическим социализмом и быть за это приговоренным к смертной казни. Достоевский не струсил и не в благодарность за помилование переменился. Он искренне разочаровался в утопическом социализме и “путь” нашел в какой-то особой религии. И пришел к уже знакомому лозунгу: “Да здравствует сверхбудущее!” Настоящее ужасно. А сдаться на милость победителю - характер не позволяет. Вот и выход: бегство - вперед, в иррациональное вперед. И еще: Достоевский очень мучился своей изменой социализму. И оттого такие напряженные у него романы, рассказы, столь крайние психологические состояния героев. Он беспощадно испытывал прежде всего себя, мучил себя, и потому он больше любит мысли своих героев, чем их самих. Трагедия - его стихия. Как и у Лермонтова.
И конечно, и у Толстого, и у Достоевского при всем их якобы знании, вере в будущее и сверхбудущее - огромное все же Незнание пути туда, и оттого - реализм при всей его романтической ли, маньеристской ли окраске.
И вот теперь, если будет мне позволено считать, что на базе литературы можно принять, что около начала последней трети XIX века в России развилась социально-политическая и нравственно-психологическая ситуация, порождающая произведения, оказывающиеся в верхней половине Синусоиды и даже над ней, при всей их принадлежности к реалистическому витку спирали истории искусства, если все это мне будет позволено принять, то это будет солидной альтернативой асафьевскому заявлению, что в последней трети XIX века случилось <<
тяготение к живописи, “не беспокоящей мысли”>>.Нет. В чем-то Асафьев, может, и прав. Взять такую картину Шишкина, как “На севере диком...” Это название: оно что - намек на известное стихотворение Лермонтова?
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.
И голая вершина, и снег, и риза - ветки до самого низа,- и ночь - и снится ей все - все, вроде бы, подтверждает, что это - иллюстрация лермонтовского стиха. Но у Лермонтова - горючая тоска по невозможности достигнуть в жизни идеала. У Лермонтова превалирует духовность, идея - надрыв, как бы красиво на слух ни звучало стихотворение. А у Шишкина выпячивается тот самый асафьевский шик и лоск.
Я не разбираюсь в технике живописи, но могу все же сказать вот что. Я попробовал сделать копию маслом в масштабе один к одному с журнальной репродукции этой шишкинской картины. Так вот четыре квадратных сантиметра снега на скале я писал несколько вечеров, и сколько в том снеге оказалось оттенков, сколько красок пришлось мне брать кроме синей и белой, я не помню, но много: и желтую, и фиолетовую, и зеленую, и коричневую.
Вот это богатство палитры у Шишкина, видно, и создает ощущение шикарности. А лермонтовского преобладания духа над материей нет. Живописи вообще это трудно (особенно “
реалистически-натуралистической”). И у Лермонтова идеал, недостижимость слышимы, видимы, ощущаемы: Восток, жара, пальма, одиночество. А Шишкин в стиле своего искусства это в принципе не так уж и мог это сделать.Даже одиночество сосны у него не получилось. Для одиночества нужно б взять горизонтальный формат картины - как в “Среди долины ровныя...” У Шишкина же вышло не одиночество, а величие. Контраст далекого плана и ближнего, контраст леса и сосны, контраст опущенного и поднятого, темного и светлого - выглядит не одиночеством, а выделенностью.
Могучая сила - вот что вышло у Шишкина.
А что,- подумалось,- если он и не думал иллюстрировать Лермонтова. Что если он отталкивался от печального лермонтовского образа. Ведь вот и названо-то не “На севере диком стоит одиноко...”, не всей строкой, как это принято называть стихотворения без названия, а только “На севере диком...”.
Что если не зря усечено название. Тогда вся шикарность и богатство палитры играют на идею - да, идею! - на восхищение богатырем. Это (если сравнить с современной Шишкину литературой русской) - а ля романтический, а ля высоко-возрожденческий реализм Толстого, а не а ля маньеристский реализм Достоевского и Лермонтова.
Смешно. Где-то в начале я отправился от прогегелевского романтизма голландских натюрмортов. Потом пришел к ложности этой идеи. А теперь меня повернуло к некоему романтизму - кого! - реалиста Шишкина! Не продемонстрировал ли я, что доказать можно все, что угодно.
Думаю: все в чем-то правы. Как тот спинозовский болтун о Солнце. Нужно другие акценты сделать на словах Гегеля, Гуковского, Асафьева, а попросту чуть другие слова применять - и все взаимосогласуется.
Пусть даже Асафьев прав (я не видел, но поверю), что в отличие от этюдов в картинах Шишкина лес - без борьбы всех против всех за солнечный свет. Значит что: Шишкин - лакировщик? Можно это и иначе определить. Современные Шишкину народники тоже видели лишь светлые стороны русской сельской общины и потому надеялись, что Россия минует капитализм и сразу в социализм пойдет. Так что: они тоже лакировщики? Кожинов их к романтикам относит (а я б - ко взлетам на Синусоиде). А наши советские лакировщики тоже рассчитывали (самые искренние и честные) на более высокие (как, может, и обещали 30-е годы) моральные качества народа, когда думали, что мы вот-вот к коммунизму прийдем. Тоже род нормативного романтического крыла в социалистическом реализме. Чего ж ругать за романтизм. Впрочем, Асафьев, отругав, потом, в другой главе уже хвалит: за свет, за оптимизм - не за тот же романтизм ли?
Гуковскому, от которого я впервые узнал о гегелевском высказывании насчет голландских натюрмортов, Гуковскому нужно было лишний раз проиллюстрировать мысль, что романтизм это больше выражение, чем изображение. Гегель ему подходил как уважаемое имя, а случилось, что говоря о голландцах, Гегель склонял романтизм и высокое.
У Гегеля же - речь шла, по сути, о содержании подтекста. Выражают в какой-то мере все, в конце концов. Выражают изображая. То есть в подтексте.
Что голландцы гордились, еще не означает высоту; что наличествует выражение гордости - еще не означает романтизма. А вот длительную, доминирующую тенденцию, выражаемую натюрмортами: подо всеми войнами тогдашними, распрями, временными поражениями - Гегель узрел. И назвал. Только чуть не так бы...
Переименовали - и все, похоже, без натуги улеглось в стройную схему. Неужели я опять заблуждаюсь?
Ну, а что Шишкин на всю жизнь задержался на своем варианте романтического реализма... Такое бывает. Гюго тоже романтиком остался на всю жизнь, когда рядом все изменялись и эволюционировали его собратья по перу. Это уж каков человек.
Есть - особо постоянные.
Август 1986 - март 1987 гг.
Конец второй интернет-части книги “Сочинения на заданную тему”
| К первой интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
К четвертой интернет- части книги |
|||
| К пятой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |