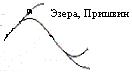
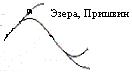
С. Воложин
Эзера. Насилие.
Пафос романа - за терпимость
| Вон из цивилизации, в место «над схваткой». Это бегство от фальшивого парада и псевдоблагополучия - извращений исторического оптимизма того общества. |
Четвертая интернет-часть книги “Сочинения на заданную тему”
На конкурс “Рецензия”
Что говорит своим новым романом
Регина Эзера
Среди читателей “ЛГ” встретятся люди, не понимающие язык литературной образности. Для них и предназначен этот разбор нового романа Регины Эзеры “Насилие”.
Можно было бы согласиться с аннотацией романа, что он рассказывает о судьбе латышской крестьянки Элизы Кроне и ее семьи, что Эзера говорит своей книгой об укорененности несчастий сегодняшнего дня в дне вчерашнем, военном, об ответственности наших нынешних поступков за будущее.
Действительно. Почему Элиза отказалась приютить брата, хотевшего спрятаться у нее на хуторе от фашистского призыва? Потому что она и так слыла красной из-за ушедшего “с русскими” мужа, и понятное желание во что бы то ни стало вырастить сына толкнуло ее на морально сомнительную осторожность. Тут действительно начало бед фамилии Кроне. Брат “загремел в легион”, потом - плен, фильтрационные лагеря, “пропащая жизнь”. В итоге - спился и вскорости умер, оставив сына Юста, наследственного алкоголика. Затем - изломанная Юстом душа и тело его жены Сольвиты, физически уродливая дочь их (гидроцефал) и сын Агрис - с задатками морального урода. Мужа Элизы убили националисты. Ребенок, Эрик, годами мало видел мать, которой пришлось “трубить на ферме от темна до темна, на своих плечах вывозя колхоз в трудные времена”. Эрик рос без призора. И вырос. Насильником и бандитом. И мать спрятала его от людей и власти. И годы моральных мук ее не спасли жизнь сына. Он повесился. И ей пришлось ночью похоронить его в лесу, и могила заросла и потерялась.
В общем, можно было б согласиться с аннотацией, если б эта фабула и разрабатывалась автором. Но, во-первых, большая часть сказанного не развернута в романе. Во-вторых, в него вставлено многое, не относящееся к Кроне: целая часть
“Вместо пролога”, шесть озаглавленных и сверх дюжины неозаглавленных лирических отступлений - добрая треть текста. И основное - введен рассказчик, не только “там во все вмешивающийся”, но ставший главным героем.Зачем, спрашивается, это понадобилось? - Затем, чтоб мягко, а может, и не вполне осознанно выразить очень широкий взгляд автора на проблемы нашего, мол, насквозь политизированного, принципиального и потому-де ожесточенного мира.
И вот, не отказ брату в убежище описан в романе, а несколько слов Элизы об этом плюс два абзаца авторской половинчатой оценки щекотливого факта. Не выпечка Элизой хлеба для партизан акцентируется, а всеобъемлющая доброта ее. “Все - люди, все есть хотят”,- дважды повторяет автор Элизину фразу. И слова, что Элизе “недостает классового подхода”, как-то отчужденно звучат не только для самой Элизы. И в подборе исполнителей геноцида: и ультраправого, и ультралевого - гитлеровского и полпотовского - нет ли в такой симметрии подсознательного поиска точки зрения “над схваткой”? А задумчивое: “она не должна была все отдавать работе, ведь ребенок важнее коровы”?.. Или это слабое, но стойкое ощущение, что автор-рассказчик оправдывает свое неосуждение Элизы за укрывательство насильника... Да вообще по книге рассеяны разные сомнительные поступки рассказчика: от неумелых выпивок до варварской ловли лягушек с Агрисом.
Все это образы непредвзятого подхода в размышлении о болях нашего сегодняшнего мира.
Но в непредвзятости, согласитесь, есть какая-то пассивность в отношении к материалу жизни. А пассивность (по В. Муриану) появляется, когда автор не склонен сближать идеал с действительностью [1]. Вот Эзера и не склонна сближать. “Я бежала,- пишет она,- от необходимости быть (или, по крайней мере, выставлять себя) всезнающей и всесильной”. И это бегство от фальшивого парада и псевдоблагополучия - извращений исторического оптимизма нашего общества. Это бегство, в котором совсем не обязательно терять идеал. И все же что-то минорное происходит от перенесения его вдаль.
В романе есть глава “Вкратце о своих целях”, очень симптоматично не оправдывающая свое название. Зато в ней есть такое признание: “...я не могла выразить свой замысел коротко. Мало того, я обнаружила, что не в силах сделать это и подробно... Цель ведь - нечто весьма конкретное, строго заданное...” И далее там чувствуется, что, скажем так, считавшаяся Марксом его отличительная черта - единство цели - не является в самооценке Эзеры ее признаком. Ее же козыри - раскованность и честность.
Эзера просто запуталась в нашей сложной жизни и честно выражает это своим романом. В социологическом плане такое умонастроение является как бы поляризованным отражением в определенной интеллигентской среде того факта,- теперь особенно четко осознанного,- что “мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем” (как отмечалось на июльском, 1983 года, Пленуме ЦК КПСС).
И как когда-то “не столько вдаль, сколько вглубь” отошел от “замыслившейся” интеллигенции Пришвин [2] (не зря процитированный Эзерой), так и она пробует теперь искать свое место “над схваткой”, или иначе: в такой природной глубине, где еще нет речи о цивилизации, а человек пребывает как живое существо, в высоком смысле этих слов, равное другим животным. Вот зачем эта глава о собаке; эти мысли о приручении ее первобытной женщиной, о свойствах собачьей любви. Вот почему появилась надежда, что Агрис не станет зверем, только когда он (в конце книги) плачет в обнимку с собакой. И вот зачем с нею же, перед космическим равнодушием к хрупкой - и потому бесценной - земной жизни, плачет рассказчик, “шепча одни и те же бессвязные (но, добавим, глубокомысленные) слова: “Ты собака... и я собака...”” Вот зачем эпизод с кошкой, выкармливающей щенка: “Происходит нечто такое, на чем стоит мир и что выше житейских распрей и мелких раздоров”. И вот, наконец, почему роман кончается описанием звуков весеннего гона лосей.
И все это не надерганные штрихи. Образ самой Элизы выражает идею пусть неудачной, но все же попытки сохранить жизнь во что бы то ни стало, что кажется Эзере особенно актуальным на грани возможного ядерного уничтожения жизни: “Я верю, что война не повторится. Но куда мне девать свой страх?”
“Терпимость” - так можно переназвать для себя “Насилие”, и это больше б соответствовало пафосу романа. Значит ли, что и глава о названии книги оказалась у Эзеры несостоятельной? - Нет, пожалуй. Ибо - как доказал крупнейший исследователь психологии искусства Л. С. Выготский - удаленность образа от того, что он должен означать - правило художественности.
А какова ж общая оценка романа и автора? - Не будет оценки. В этот раз пусть оценивает читатель: он теперь достаточно много поймет - даже самый некомпетентный в литературной образности.
Примечания
1 - Муриан В. М. Эстетический идеал. М., 1966. С. 18.
2 - Пришвин М. М. Записки о творчесте. В кн. Контекст· 1974. Литературно-теоретические исследования. М., 19775. С. 318.
Каунас. Март 1985 г.
Конец четвертой интернет-части книги “Сочинения на заданную тему”
| К первой интернет- части книги |
Ко второй интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
|||
| К пятой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |