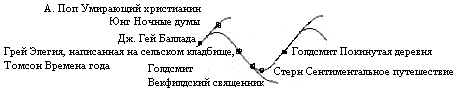
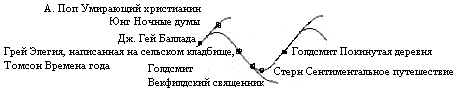
С. Воложин
Голдсмит. Векфилдский священник.
Художественный смысл
| Эволюция сентиметализма иллюстрируется больше чем целым периодом Синусоиды идеалов, и Голдсмит там – как бы целый отрезок кривой. |
Четвертая интернет-часть книги “Сквозь века”
И С К У С С Т В О
М Е Д Л Е Н Н О Г О
Ч Т Е Н И Я
Ш Е Д Е В Р А
ЧИТАЕМ “ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ”
И ОБ ОТПРАВНОЙ ТОЧКЕ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Может ли быть интересен разбор романа XVIII века? Сегодня - да. Речь пойдет о первом английском сентименталистском романе - “Векфилдском священнике” Оливера Голдсмита. А сентиментализм был реакцией против просветительского культа разума, который оказался в условиях первичного, дикого капитализма - с точки зрения реакции на эту дикость - культом бессовестного эгоистического расчета. У нас же сейчас как раз такой капитализм и реставрируется.
Но,- скажете,- роману уже больше 200 лет. О нем писали - не меньше. Откуда у вас, завзятого интерпретатора, пафос о нем писать? Он уже весь, наверно, до последнего слова истолкован и объяснен. - Во-первых, не до последнего слова. Хоть я очень и очень далеко не все, написанное о романе, читал (тем более, что он - факт английской литературы, а я с английским не в ладах), я чувствую, что белые пятна остались, не объяснены должным образом даже первые слова романа. Вернее, первые слова авторского, так он его назвал, “Предуведомления” к роману. Вот эти слова:
“В предлагаемом труде тысяча недостатков...”
Вы себе представляете хрестоматийно известного писателя, так халатно относящегося к творчеству?
Голдсмит, правда, тут же, после процитированных парадоксальных слов, загладил впечатление:
“...и вместе с тем можно привести тысячу доводов в пользу того, что недостатки эти являются его достоинствами”.
Но все-таки, все-таки...
Так вот как минимум этот-то нюанс,- да и еще найдется десяток-другой,- глубоко, я чувствую, никем не объяснен. А я смогу. Потому что вооружен приемом Синусоиды.
Этот прием я буду прояснять в ходе разбора “Векфилдского священника” в частности и сентиментализма вообще.
Обыденное сознание связывает сентиментализм с чувствительностью и слезливостью то ли автора, то ли читателя, то ли обоих. И если связать такое представление, опять же - на обыденном уровне, с разочарованием в разуме, представшем в качестве расчетливого эгоизма, то и тут все понятно. Кому-то удается в условиях первичного капитализма рассчитывать поступки хорошо, и он побеждает в жизненной гонке за успехом. Другому не удается рассчитывать хорошо, и он катится в отбросы общества. Отбросы, не иначе, ибо такое общество контрастное. Этот другой, может, оправдывая себя, из понятия “хорошо рассчитывать” исключает для лично своего употребления аморальные ходы и укоряет победителя толстокожестью. Ну, а тот, в ответ - укоряет побежденного чувствительностью. Другой соглашается и, от обиды на неудачу и от ужаса положения, в каком он оказался,- плачет. Все на месте: чувствительность и слезливость.
Причем это удел 9/10 населения. Ибо именно 1/10, говорят нам теперь, только и способна быть предпринимателями. Во всяком случае, преуспевающими. По крайней мере, в первичном капитализме (в наипоследнейшей - послерузвельтовской, что ли формации этого “изма”, где есть многочисленный средний класс, соотношение удачников и неудачников, видно, другое). Но мы с Голдсмитом пока интересуемся первичным, диким, по преимуществу разбойничьим.
Так вот и здесь - в катастрофическое состояние, оказывается, попадают не 9/10 народа, а меньше. Хоть в Украине (и России) и пошла на убыль численность населения, но это еще не мор. В России, говорят по TV, отношение теневых доходов населения к законным равно 2:1, а в Украине 5:1. Практически все в той или иной степени воры и разбойники, обманщики и иные закононарушители и кое-как да выживают. Да и состояние законности способствует закононепослушанию и покрывает всех, правда, лучше - крупных воров.
В общем, до антикапиталистической революции еще очень далеко.
Но многим и многим душепротивно состояние практически вошедшего в норму плутовства, воровства и разбоя. Довольно многим хотелось бы демонстративно уйти подальше от жизни, недемонстративно имея все же какой-то источник существования.
ЧИТАЕМ БЛИЖАЙШИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
ГОЛДСМИТА
Вот из подобного умонастроения двести с чем-то лет назад в Англии и родилась одна из фаз сентиментализма в искусстве. Материальной базой творцов этого сентиментализма явилась их какая-то, пусть случайная, все же обеспеченность, а социальной базой их идеала была пока еще отсталость английской деревни: во многих местах тогда еще оставалось натуральное хозяйство и свободные мелкие землевладельцы, йомены. Глядя издали, сентименталистам казалось естественным “бежать” в своих произведениях из безнравственного города в идиллическое село.
...Как часто серпам их
Нива богатство свое отдавала; как часто их острый
Плуг побеждал упорную глыбу; как весело в поле
К трудной работе они выходили; как звучно топор их
В лесе густом раздавался, рубя вековые деревья!
Пусть издевается гордость над их полезною жизнью,
Низкий удел и семейственный мир поселян презирая...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...в громкихПлестках отечества жизнь свою слышать -
то рок запретил им;
Но, ограничив в добре их, равно и во зле ограничил:
Не дал им воли стремиться к престолу стезею убийства,
Иль затворять милосердия двери пред страждущим братом,
Или, коварствуя, правду таить, иль стыда на ланитах
Чистую краску терять, иль срамить вдохновенье святое,
Гласом поэзии славя могучий разврат и фортуну.
Чуждые смут и волнений безумной толпы, из-за тесной
Грани желаньям своим выходить запрещая, вдоль свежей,
Сладко-бесшумной долины жизни они тихомолком
Шли по тропинке своей, и здесь их приют безмятежен.
Кажется, слышишь, как дышит кругом их спокойствие неба.
Это Томас Грей. “Элегия, написанная на сельском кладбище”. 1751 год.
То не беда, что на фоне кладбища развернул Грей свои образы. Говорит-то он в своей элегии о жизни. О скромной и тихой, мирной и нравственной жизни в селе.
О ней же говорит и Джеймс Томсон во “Временах года” еще раньше, в 1730 году.
О! если счастья кто прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает,
В кругу своих друзей от шума удален,
О, как тот истинно покоен и блажен!
Нет нужды в том ему, что мот, богач, надменный
В чертогах золотых, льстецами окруженный,
Обманывая их, обманут всякий час.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мудрец, обманчивой надеждой не прельщен,
Он и душой своей и всем обогащен;
Обогащен весны приятными дарами,
И летней жатвою, и сочными плодами,
И осень для него готовит виноград,
Виющийся вокруг столетней гордой ивы,
Когда ж Борей валит пушистый снег на нивы,
То даже и тогда он будущим богат!
И т. д. и т. п.
ЧИТАЕМ ИЗ IV И V ГЛАВЫ
РОМАНА
Вот то же, вроде бы, воспевает и Голдсмит пером своего героя, священника Примроза, с четвертой главы оказавшегося живущим вовсе не в Векфилде (как по названию романа из тридцати двух глав), а в оставшейся для нас безымянной деревне, где, по бедности, он, хоть и священник, занимается сельским хозяйством, сам, с семьей:
“...к восходу солнца все собирались в общей комнате, где уже горел огонь, разведенный служанкой. Обменявшись приветствиями... мы склоняли голову и воздавали хвалу Всевышнему, даровавшему нам еще один день. Исполнив этот долг, я отправлялся с сыном на обычные наши работы, между тем как жена и дочки приготовляли завтрак, за который мы садились всегда в одно и то же время. Этой трапезе я отводил полчаса, обеду - час; за столом жена и дочки болтали какой-нибудь невинный вздор, мы же с сыном заводили философскую беседу.
Вставая вместе с солнцем, мы прекращали свои труды с его заходом и возвращались в лоно семьи, где нас ожидали приветливые взоры и уютный очаг, в котором весело потрескивали дрова”.
И дальше идет сравнительно подробное описание их досугов и увеселений.
О работе же - только процитированные пять слов: “обычные наши работы” и “свои труды”. Длительные, надо заметить. Если от восхода до захода солнца летом 16 часов, так что-то подозрительно мало сказано об этом существеннейшем отрезке жизни.
А ведь глава называется как? - “Даже при скромном достатке возможно счастье, ибо оно заложено в нас самих и не зависит от внешних обстоятельств”. К счастью эти 16 часов ежедневной работы, видимо, не относятся. Они, видно, внешние обстоятельства. Не в пример Томсону и Грею с их “серпами”
, “нивой”, “плугом”, “упорной глиной”, “топором”, “вековыми деревьями” - вообще “полезной жизнью” с наградами “весны дарами”, “летней жатвою”, “сочными плодами”, “виноградом”.Тот же мизер о труде у Примроза в следующей главе, как, впрочем, и в еще двух случаях на всю книгу, где заводится речь о сельской работе.
“Неподалеку от дома, в тени боярышника и жимолости, мой предшественник поставил скамью. Сюда-то в хорошую погоду, когда работа спорилась, мы все собирались отдохнуть от дневных трудов и в вечерней тиши любоваться обширной панорамой, открывающейся взору. Здесь же иной раз пили мы чай; трапеза эта ныне казалась нам настоящим пиршеством; мы справляли ее не каждый день и всякий раз испытывали неизведанное доселе удовольствие, облекая все хлопоты, связанные с ее приготовлением, чрезвычайной торжественностью. Покуда мы пили чай, оба наших малыша поочередно читали вслух и свою порцию получали после взрослых. Иногда же, разнообразия ради, дочки пели, аккомпанируя себе на гитаре; мы же с женой во время такого концерта обычно прохаживались по зеленому склону, украшенному колокольчиками и васильками, с упоением беседуя о наших детях и наслаждаясь ветерком, который, казалось, нес нам здоровье и душевный покой.
Постепенно мы пришли к убеждению, что всякое состояние таит в себе какие-нибудь, ему одному свойственные, радости. Каждое утро мы вставали, чтобы вновь приняться за труды; зато вечером мы могли предаваться безмятежному веселью”.
Опять о трудах три слова, а о веселье - остальные все. И потом - это слово “зато” в последнем процитированном предложении... Взгляд на сельскую жизнь - явно со стороны. Оно, конечно, и у Томсона с Греем в общем так же. Но Голдсмит своего Примроза поставил, похоже, в нарочито ложное положение. Вся священникова семья и сам Примроз не в меньшей степени вовсе не нацелены на умиротворение своей небогатой жизнью в безымянном селе, вопреки их собственным утверждениям.
ЧИТАЕМ ИЗ III ГЛАВЫ
Или посмотрите, почему Примрозы вообще из города Векфилда попали в деревню. Вроде бы, из-за того, что все их состояние, отданное какому-то купцу в рост, пропало, т. к. купец обанкротился и сбежал. Вот прямые слова священника:
“...мысли мои были заняты изысканием средств к существованию; наконец довольно далеко от старого нашего места жительства мне предложили небольшой приход, фунтов на пятнадцать, и таким образом я мог рассчитывать и впредь жить, не поступаясь своими нравственными правилами, а про себя решил завести небольшое хозяйство на месте, чтобы пополнить свои доходы”.
Так, во-первых, священник противоречит сам себе. Одно дело - пополнить доходы, заведя, как потом выяснится, сельское хозяйство, что было немыслимо, если остаться жить в городе. Другое дело - бегство из безнравственного города в нравственную деревню, как “бегали” пером на бумаге сентименталисты Томсон и Грей, чтобы “не поступаться своими нравственными правилами”
.Кто и в чем Примроза бы ущемил, останься он, обедневший, приходским священником в Векфилде?
“Если бы разорение наше коснулось одного меня, я бы особенно не горевал; я огорчался единственно из-за семьи, которую ждало унижение - ведь ни жена моя, ни дети не были приучены равнодушно сносить высокомерие людское!”
Значит, из-за возможного уязвления тщеславия бежал Примроз. Пусть не своего лично, но мы уже знаем, что верить на слово ему нельзя. Он приводит модные сентименталистские причины: “не поступается он своими нравственными правилами”. А на самом деле он как раз ими поступается. Он уезжает в деревню из тщеславия: там он и его семья будут равные среди равных - в почти бедности.
Судите сами, здесь один из тысячи недостатков романа (эта нечеткость образа главного героя) или здесь достоинство (на самом-то деле люди и не бывают прямые, как палка).
ЧИТАЕМ ИЗ II ГЛАВЫ,
А ТАК ЖЕ ИЗ ДАЛЬНИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
А Голдсмит, оказывается, намутил, или лучше сказать - углубил, еще больше. Его Примроз, живя еще богатым в Векфилде, обманывал себя, будто он живет, подобно модным сентименталистам, скромно, - обманывал, откупаясь перед своей совестью довольно крупной благотворительностью:
“Мой приход доставлял мне ежегодно около тридцати пяти фунтов, которые я жертвовал целиком в пользу вдов и сирот священнослужителей нашей епархии; обладая изрядным состоянием, я мог не заботиться о вознаграждении и испытывал тайную радость при мысли, что исполняю свой долг безвозмездно”.
Останься он жить в Векфилде, ему бы пришлось с благотворительностью покончить. И как бы он тогда себя обманул насчет скромности? А в деревне - можно? Там не 35, а 15 фунтов доставлял приход. Или Голдсмит опять сотворил некий недостаток сюжета? А может, это опять не недостаток, а реалистическое изображение непоследовательного Примроза, обманывающего самого себя?
Почему я все говорю о самообмане? - Это ультратонкая материя.
Сказать, что умиротворенный скромный сентиментализм есть результат разочарования просветителя в разуме, это сказать слишком общо. На самом деле скромный сентиментализм отталкивался еще и от какого-то другого искусства, менее скромного, воинствующего. Им в Англии являлся такой же нормативный, то есть заведомо знающий правду, как и сентиментализм,- ранний просветительский классицизм.
Вот его образец - финал “Баллады” Дж. Гея:
“...Нас учат, что Природа
Со смыслом все творит,
Тогда зачем под воды
Укрылся скал гранит?
Ужель скала таится
В подводной глубине,
Чтоб милому разбиться
И чтобы плакать мне?”
Она, застыв от горя,
Бранила жребий свой,
Борею вздохом вторя,
Кропя волну слезой.
Когда на гребне тело
Волна пред ней взнесла,
Склонясь лилеей белой,
Юница умерла.
Юница предельно активна. Она не много не мало - жребий свой бранит. Ее смерть, хоть и не сермяжное самоубийство, но создает впечатление, что это что-то прямо самовольное. Перед нами трагедия. Герой гибнет, а дело его остается жить: вера в разумно устроенный мир. Тут веет прямо замахом повлиять смертью на общественное мнение (если порядок вещей в природе включает в себя и порядок вещей в обществе - общественное мнение). Значит, не индивидуалистического толка тут идеал.
И если идеал таких воителей, как Гей, идеал, мыслимый как немедленно достижимый в результате бурного активизма, если такой идеал терпит в обществе крах, то что начинают исповедовать несгибаемые недавние его последователи? Они своими чаяниями из обманувшего их надежды, ставшего непереносимым до мерзости, настоящего устремляются аж в сверхбудущее.
Посмотрите на стихотворение Александра Попа “Умирающий христианин”. Насколько плохим должен предстать мир и насколько необорима должна быть вера в хорошее, чтоб найти все же выход!
Небесного огня божественная искра,
Душа, сбрось смертные одежды.
Болезней, страха и надежды
О, жалкая игра!
Оковы разорви природы,
Пари к источнику и жизни и свободы!
Теперь твоя пора!
Внемли, как ангелы вокруг тебя вещают:
“К нам, милая сестра, скорее!”
Мой взор становится тусклее;
Я не могу дышать,
Потеря сил и чувств смятенье...
Душа, ответствуй мне, реши мое сомненье:
Не то ли - умирать?
Земля бежит, бежит... исчезла уж из вида!
Отверсто небо видят взоры;
Слух серафимов внемлет хоры...
Горю достичь... Друзья,
Свои скорей мне дайте крила!
Где торжество твое победное, могила?
Смерть, где коса твоя?
Если Гей экстремист, то Поп, в этом стихотворении, уже сверхэкстремист в своем отрицании неразумной действительности во имя разумной, соборной, ознаменованной хорами серафимов, где есть друзья. Но хоть накал эмоций там и там большой, это все еще логизированные обобщения, это все еще вера в разум, это все еще классицизм. И надо было, чтоб произведение еще больше пропиталось бы страстью соборности, коллективизма, чтоб эта страсть уже выглядела в произведении как самоцель - и тогда его уже назвали потомки сентименталистским. Таким произведением стала нравоучительная поэма “Ночные думы” Эдварда Юнга (1742-1745гг.).
“...Когда в морях войны подсолнечная тонет,
Когда невежественность в ней от стрел насилья стонет;
Вы в жизни ближнего жизнь видите свою!
Гласите ко Творцу: “Мы за любовь твою,
В любви к Тебе, в любви ко ближним заключенной,
Не согласимся взять под власть свою вселенной!
Жить ближними, Тобой! есть счастье наших дней”.
Ах! земнородные давно от цели сей
И сердцем и умом навеки отвлеклися;
Они бесчувствия бронею облеклися.
И автор грезит о сверхбудущем, может, неземном:
Когда о множестве миров мечтаю я,
В подпору, к истине взывает мысль моя.
К той истине, что все для Вышнего возможно,
Ужель о власти я его вещаю ложно?
Так вот от какого бунтарского искусства отталкивался скромный, так назову его, сентиментализм Томсона и Грея, мудро понявших, что плетью обуха не перешибешь и жить - надо и даже можно, соединяя несоединимое, “высокое” - с “низким”, общее - со своим, коллективизм - с индивидуализмом.
Не так ли очень зажиточный Примроз в Векфилде холит в себе остатки коллективизма: благотворительствует, не держит помощника и воинствует кое в чем?
“...я держался таких же точно убеждений, что и Уистон, и полагал, что священник англиканской церкви по смерти своей первой жены не имеет права жениться вторично...”
ЧИТАЕМ ИЗ ПРИМЕЧАНИЙ,
А ТАК ЖЕ ИЗ I ГЛАВЫ
Примечание к книге по поводу Уистона сообщает:
<<
В 1715 г. он основал религиозное общество, стремившееся возродить мораль раннего христианства. Уистон был изгнан из Кембриджского университета и даже обвинен в ереси>>.А раннее христианство было поборником равенства людей. И именно под таким флагом совершалась в Англии революция предыдущего, XVII века, сделавшая на какое-то время страну республикой.
Так вот, не в пример лирическому герою Томсона и Грея, Примроз у Голдсмита вовсе не умиротворен в своем соединении несоединимого.
Трусил, видно, Примроз быть во всем последователем Уистона и в своем ренегатстве тихо подкусывал поборников справедливости:
“Всю жизнь я придерживался того мнения, что честный человек, вступивший в брак и воспитавший многочисленное семейство, приносит в тысячу раз больше пользы, чем тот, кто, пожелав остаться холостым, только и знает, что болтать о благе человечества”.
Этими словами начинается собственно роман. И они знаменуют муть в душе Примроза, которую Голдсмит реализовал
“тысячью недостатков” своего сочинения - противоречиями в душе и поступках главного героя в первую очередь, и этой же мутью - реализмом в сущности - он превратил недостатки своего повествования в достоинства. Он открыл, так сказать, реалистический сентиментализм.Конечно же, не “всю жизнь” Примроз был такой практично-приземленный. А если и “всю”, то одновременно в подсознании его жил и антипод. Смотрите, я продолжу цитату:
“По этой-то причине, едва миновал год после моего посвящения, как я начал подумывать о супружестве; и в выборе жены поступил точно так же, как поступила она, когда выбирала себе материю на подвенечный наряд: я искал добротности...
[не любви]
...не прельщаясь поверхностным лоском. И надо сказать, что жена мне досталась кроткая и домовитая. К тому же, не в пример другим нашим деревенским девицам, она оказалась на редкость ученой - любую книжку осилит, если в ней не попадаются чересчур уж длинные слова”.
Прямо сарказм прорывается! Откуда он? Не от загнанного ли в подсознание “высокого” в себе?
Верьте теперь следующему абзацу:
“Как бы то ни было, мы нежно любили друг друга, и чувство наше крепло по мере того, как сами мы старились. Словом, мы не имели причин роптать ни на судьбу, ни друг на друга. Жили мы в прекрасном доме, посреди живописной природы, и общество, окружавшее нас, было самое приятное”.
И верьте всей первой главе, живописующей в сущности “низкую” жизнь в Векфилде.
ЧИТАЕМ ОПЯТЬ ИЗ II ГЛАВЫ
Почти все в мемуарах священника ложь, вероятнее всего - неосознаваемая. И скромная жизнь его в Векфилде - ложь. И потому-то он взорвался:
“- Ну, нет,- отвечал я...
[На увещевания родственника не слишком в публичном диспуте напирать на духовника Уилмота, желающего жениться в четвертый раз, Уилмота, согласного на брак со своей дочерью старшего сына Примроза, Джорджа, и еще не знающего о банкротстве примрозовского купца.]
...- если мне и впрямь грозит разорение и суждено сделаться нищим, то негодяем я быть не хочу, и я не подумаю, конечно, отрекаться от своих убеждений. Я сию же минуту пойду и извещу всех о том, что со мной случилось. Что же касается спора, я, напротив, беру назад уступки, которые сделал старику, и не соглашусь признать его супругом четвертой миссис Уилмот - ни в одном из значений этого слова!”
И то, что Голдсмит без снисхождения выдал нам Примроза в его внезапном мальчишестве, показывает, что автор первого сентименталистского романа конечно же не является сторонником экстремистских идеалов Гея, Попа и Юнга, будь они классицистские или сентименталистские. А то, что Голдсмит Примроза в мальчишество все же ввел, показывает, что и от умиротворенных Томсона с Греем Голдсмит тоже отличается.
Впрочем, мы отвлеклись на ультратонкие материи, породившие “скромный сентиментализм”, и имеем еще слишком мало доказательств того, что Голдсмит во время создания романа не был “скромным сентименталистом”. Поэтому продолжим-ка наше медленное чтение.
ЧИТАЕМ ОПЯТЬ ИЗ IV ГЛАВЫ,
СООТНОСЯ С ТЕМ, ЧТО БУДЕТ В ПОСЛЕДУЮЩИХ
“Новое наше пристанище находилось в небольшой деревушке, где поселяне пахали свою землю сами, не ведая ни нужды, ни избытка. В собственном хозяйстве находили они почти все необходимое и лишь изредка выезжали в город за покупками. Вдали от света они сохранили первозданную простоту и, скромные и неприхотливые от века, даже не вменяли себе в заслугу свою умеренность. В будние дни они трудились, весело и с охотою, а в праздник предавались отдыху и развлечениям. В сочельник пели гимны, в утро святого Валентина дарили девушкам ленты, на масленицу пекли блины, первого апреля изощрялись в остроумии и накануне Михайлова дня свято соблюдали обычай колоть орехи”.
И как хотите, а это словосочетание: “свято соблюдали обычай колоть орехи”, по-моему, есть улыбка Голдсмита в адрес Примроза, священника все же, а такого приземленного. И здесь продолжается приглашение нам не очень Примрозу доверять. Ни в чем.
Или вот вам идиллия - через несколько строк после процитированного:
“Наш домик стоял у косогора, позади подымалась прелестная рощица, впереди протекал говорливый ручей, по одну сторону простирался луг, по другую - полянка. Мне принадлежало около двадцати акров пахотной земли, после того как я уплатил своему предшественнику сто фунтов за право владения ею. Невозможно представить себе что-либо прелестней маленьких моих полей, окаймленных кустарником, среди которого высились вязы неописуемой красоты”.
Замечательно! Но если продолжить - там начнутся опять подвохи неистощимого на них Голдсмита.
“Соломенная крыша придавала особенно уютный вид одноэтажному домику...
[Впоследствии именно из-за того, что она соломенная, а не черепичная, она, в загоревшемся доме, чуть не погребет под собой примрозовых малюток Дика и Билла. Правда, лишь чуть не погребет, и тем больше у Примроза будет радости и “убеждения, что всякое состояние таит в себе какие-нибудь, ему одному свойственные, радости”. Так, погорелец - рад... спасению детей. Впрочем, и в том я вижу усмешку Голдсмита.]
...внутри стены были чисто выбелены, и мои дочки взялись украсить их произведениями собственной кисти...
[Это уже тщеславие. Нигде не сказано, что они способны украсить. Тем более что?- святую простоту выбеленных стен деревенской хаты. Такие потуги кончились тем, что Примрозы заказали огромный семейный портрет, который не проходил ни в одни двери и стоял в летней кухне, занимая целую стену - в том самом месте, где живописец натянул холст на подрамок. Усмехается этому их промаху, правда, и сам рассказчик, священник Примроз. Но Голдсмит вряд ли тем способствует тому, чтоб мы с серьезностью отнеслись к мемуарам этого священника.]
...Правда, одна и та же комната должна была служить нам гостиной и кухней, но нам от этого было только теплее...
[Не кажется ли вам, что изворотливый священник просто демонстрирует словоблудие, а Голдсмит его тихонько подставляет?]
...К тому же содержалась она [кухня] в образцовом порядке: блюда, тарелки и медные кастрюли были вычищены и натерты до блеска и стояли по полкам сверкающими рядами...
[На какую-то торжественную оду кухне нацеливается Примроз? - Нет. Он мягче и сложнее.]
...так что любо было смотреть на них, и глаз не требовал богатого убранства”.
Слова, слова... Требовал и глаз, и все остальное, требовали все Примрозы, даже и сам священник, что подтверждается дальнейшим сюжетом (Примроз отказал совсем необеспеченному, но работящему и вообще во всех отношениях замечательному мистеру Берчеллу,- отказал в руке младшей дочери; пустился на всякие ухищрения, чтоб заставить отъявленного развратника соседа-помещика Неда Торнхилла просить руки его старшей дочери). И в повторном чтении вы уже не станете доверять, что перед вами воспевается сентименталистский идеал скромного существования.
ЧИТАЕМ ИЗ XVII И XXIV ГЛАВЫ
И СООТНОСИМ С ТЕМ,
ЧТО МЕЖДУ ЭТИМИ ГЛАВАМИ
Наоборот. Вы усмешку в адрес умиротворенной идиллии увидите в иных сценах более чем скромного, а попросту бедственного существования.
Вот утро следующего дня после побега из дома старшей дочери, Оливии, с соблазнителем:
“Жена по-прежнему старалась облегчить свое горе упреками.
- Никогда,- вскричала она,- никогда эта негодница, опорочившая свою семью, не переступит смиренный сей порог! Никогда больше не назову я ее своей дочерью! Нет! Пусть себе живет потаскушка с мерзким своим соблазнителем! Она покрыла нас позором, это верно, но, во всяком случае, обманывать себя мы больше не дадим.
- Жена,- сказал я,- к чему такие жестокие речи? Я не менее твоего гнушаюсь грехом, ею совершенным. Но и дом мой, и сердце мое всегда пребудут открытыми для бедной раскаявшейся грешницы, если она пожелает возвратиться. И чем скорее отвернется она от греха, тем любезнее будет она моему сердцу. Ибо и лучшие из нас могут заблуждаться по неопытности, поддаться на сладкие речи, прельститься новизной. Первый проступок есть порождение простодушия, всякий же последующий - уже детище греха. Да, да, несчастная всегда найдет приют в сердце моем и в доме, какими бы грехами она ни запятнала себя! Снова буду внимать я музыке ее голоса, снова нежно прижму ее к своей груди, как только в сердце ее пробудится раскаяние...”
Ах, как будет хорошо! И вот это “хорошо” случилось. Оливия, перенесшая еще как-то представленный ей гарем в доме Неда Торнхилла, не перенесла того, что он ее саму вскорости предложил своему другу, и ушла; священник вернул ее в семью и запретил жене ее укорять; да еще разнесся и подтвердился слух, что Нед Торнхилл женится на богатой красавице. И - перед нами сцена, как погорельцы (я уже упоминал, что у них сгорел дом, перед возвращением Оливии) пытаются жить и даже веселиться:
“Следующее утро выдалось на редкость солнечное и теплое по тому времени года, и мы решили позавтракать под кустом жимолости, где младшая моя дочь по моей просьбе присоединила свой голосок к концерту, раздававшемуся в ветвях деревьев над нами. Тут, на самом этом месте, бедняжка Оливия впервые встретилась со своим соблазнителем, и все кругом, казалось, напоминало ей о ее горе. Однако грусть, что вызывают в нас красоты природы и гармонические звуки, ласкает сердце, не уязвляя его. На этот раз сладкая печаль проникла в душу и матушки ее, она всплакнула и снова возлюбила свою дочь всем сердцем.
- Оливия, красавица моя!- воскликнула она.- Спой же нам ту печальную песенку, что некогда так любил слушать твой отец. Сестра твоя Софья усладила нас своим пением. Спой же и ты, девочка, побалуй своего старого отца!
Она спела свою песенку с таким трогательным одушевлением, что я сам умилился чуть ли не до слез.
Когда неведомая сила,
Любви нахлынувшей волна,
К паденью женщину склонила
И долг нарушила она,
И видит вскоре, что любимый
С другой скрестил влюбленный взор,-
Чем ей помочь, неисцелимой,
Как смыть с ее души позор?
Один лишь путь: в тоске безмерной
Таить глухую боль стыда
И, чтоб раскаялся неверный,
Уйти из жизни навсегда.
Когда она исполняла заключительный куплет, голос ее задрожал от нестерпимой грусти и сделался еще нежнее...”
Главное - Оливия жива, раскаивается и прощена, даже матерью. Субъективно - все очень хорошо, объективно - очень плохо. Такая сшибка должна-таки растрогать не только героя.
Стихи неслабые, и введены, чтоб усилить впечатление, и я достаточно сентиментальный человек и способен расплакаться в чувствительном месте повествования. А это - для меня таковым не оказалось. Почему? Потому что Голдсмит заставил Примроза в своих мемуарах так поперебивать историю Оливии, что эта часть романа может показаться крупной ошибкой автора. Судите сами.
Ну, отправился Примроз на поиски сбежавшей Оливии, а на его пути, естественно, понаставлены были люди Неда Торнхилла, посылавшие его по ложному следу. Ну, заболел в дороге от всех передряг немолодой священник - и это естественно. Все - отвлекает от драмы с дочкой. Ну, естественно, что через какое-то время, выздоровев, герой успокоился, даже и не найдя дочь (она-то счастлива с любимым, так он вправе думать). Но уделять полглавы, называемой “Отец отправляется на розыски дочери, дабы вернуть ее на стезю добродетели”, вопросам театральной моды и портрету современного театрального зрителя!..
Пусть сам по себе театральный поворот сюжетно оправдан. Перед отъездом семьи из Векфилда старший сын Джордж был отправлен в Лондон для устройства своей судьбы. Та не сложилась. Он поступил в труппу бродячих артистов и вот - встретился на большой дороге с отцом. Но, занимаясь после всех передряг мемуарами, надо было Примрозу уделять столько места диалогу о театре с одним из бродячих артистов?
Или естественный рассказ сына о своих неудачах... Какой он длинный! Сколько там нагромождено!! И как бегло рассказано! Будто мемуарист (а на самом деле Голдсмит) намекает: “Ай, все это ерунда. Не обращайте внимания”.
А этот анахронизм всего, происшедшего с Джорджем (там событий хватает на несколько лет, не меньше), с тем, что происходило с остальной его семьей с момента расставания с ним в Векфилде и до встречи (несколько летних месяцев)...
Когда слушаешь - говорят: уши вянут слушать. А тут что сказать? Вот уж, воистину, в романе “тысяча недостатков”.
А еще история драмы сбежавшей Оливии перебита большой главой, почти целиком посвященной политическим воззрениям Примроза (в дороге и на промежуточном отдыхе люди разговорчивы с чужими людьми). Но... Примроз эти серьезнейшие свои взгляды излагает, как оказалось, дворецкому (считается само собой разумеющимся, что дворецкий не может ориентироваться в политике),- дворецкому, который в отсутствие хозяина разыграл роль помещика. Пассаж!
И весь ужас происшедшего с Оливией у Неда Торнхилла дан в пересказе. Тоже беглом.
И после этого - быть чувствительным читателем ее драмы и умиротворения? Нет, Голдсмит не был поэтом умиротворенного сентиментализма.
ЧИТАЕМ ИЗ XXV ГЛАВЫ
Но и сказать, что совсем не уважал такой сентиментализм, тоже нельзя. Тонкая бестия этот Голдсмит!
Вот Нед Торнхилл за то, что священник отказывается принять приглашение на свадьбу с соперницей священниковой дочки, и вообще, за строптивость, упек Примроза за долги в тюрьму, а там - шум и веселье старающихся забыться заключенных.
“ “Ну что ж,- подумал я.- Если закоренелые преступники веселы, то мне и вовсе грех унывать! Тюрьма все та же, что для меня, что для них, а у меня как-никак больше причин чувствовать себя счастливым, нежели у этих людей”.
[Примроз менее грешен, а те - более, и не покаялись.]
Подобными мыслями я пытался подбодрить себя, но слыхано ли, чтобы кто когда-либо становился веселым по принуждению, которое само по себе есть враг веселья? И вот, покуда я сидел в углу и предавался грустной задумчивости...”
В камере оказался старый знакомец. Он достал священнику соломы, поделился с ним постелью, и... Похоже, что хоть эта глава оправдывает свое название - “Никогда не следует отчаиваться; утешение приходит к нам при любых обстоятельствах”:
“В одном углу я разложил солому, покрыв ее сверху постелью, которою поделился со мной мистер Дженкинсон, после чего мой провожатый довольно любезно пожелал мне спокойной ночи и ушел. Я предался обычным своим благочестивым размышлениям на сон грядущий, вознес хвалу небесному моему наставнику и проспал сладчайшим сном до самого утра”.
Грех думать, что и здесь неправда. Правда! Умиротворенный скромный сентиментализм выразил действительно существующий момент в жизни человеческого духа.
Но - лишь момент. И для Голдсмита в 1766 году время такого сентиментализма прошло.
Поэтому он припас для него под конец романа целый букет насмешек.
ЧИТАЕМ ИЗ XXIX ГЛАВЫ
И СООТНОСИМ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ
“...к религии... надлежит нам обращаться за истинным утешением, ибо, если мы счастливы, приятно думать, что мы можем продлить свое блаженство навеки, если несчастны - как радостно думать, что нас ожидает отдохновение от мук! Итак, счастливым вера дает надежду на вечное блаженство, несчастным - на прекращение страданий.
Но хоть религия оказывает милосердие всем людям без разбора, особую награду дарует она тому, кто несчастен: недужному, нагому, бездомному, тому, кто несет непосильное бремя, и тому, кто томится в темнице, священная наша вера обещает наибольшие блага... Иные безрассудно ропщут на такое предпочтение, говоря, что оно ничем не заслужено. Но они не подумали о том, что даже небо не в силах сделать бесконечное блаженство таким же великим даром в глазах людей и без того счастливых, каким оно представляется тем, кто обижен судьбою...
...Провидение добрее к бедняку, нежели к богатому, еще и в другом; загробная жизнь для него так заманчива, что расставание с жизнью земною для него менее тягостно. Кто несчастен, тот изведал все ужасы бытия. Человек многострадальный спокойно ожидает смерти на своем последнем ложе: у него нет сокровищ, которые ему было бы жаль оставить; он испытывает лишь неизбежную боль окончательного расставания с жизнью, и она мало чем отличается от привычных его мук...
...Итак, провидение дарует несчастным два преимущества над теми, кто счастлив в земной жизни, - легкую смерть, а на небе еще особую радость, ибо чем больше исстрадалась душа человеческая, тем для нее ощутимее блаженство...”
Длинно, правда? А ведь, где троеточия, я еще много пропустил. Подозрительная длиннота в лаконичном по стилю и небольшом по объему романе. Да?
Это проповедь Примроза в тюрьме, проповедь полулежа своему сыну Джорджу и другим заключенным. Он готовится к смерти. Он угасает от изнеможения душевного и физического. Оливия умерла от горя. Младшая дочь, Софья, украдена, как потом оказалось, тем же Недом Торнхиллом. Старший сын в этой же тюрьме ожидает смертной казни за то, что вызвал на дуэль обидчика Оливии и смертельно ранил одного из четырех его слуг, высланных им на место дуэли вместо себя. К тому ж у священника вот-вот будет гангрена на руке, обожженной во время пожара, когда он спасал младших сыновей (а в тюрьме не лечат, еще хорошо, что дали приют здесь же, в тюрьме, остальной семье). В общем, те еще “прелести” жизни, из которой лучше всего - уйти. И вот он готовит себя и сына к этому уходу.
В чем-то похоже на цитировавшегося “Умирающего христианина”? - Да, нет. Уж очень тут тихо и плавно. И тут - умиротворение, вернее, томная меланхолия. Тут, как у Томсона в конце “Гимна”:
Куда б ни привела рука Твоей судьбы,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Где бедность и недуг, где рок напечатлел
Отчаянья клеймо на лицах искаженных,
Куда б, влеком Тобой, с отрадой я летел,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тебя велю искать и сердцу и очам.
Постигнешь ли меня гонения рукою -
Тебя ж благословит тоски молящий глас,
Тебя же обрету под грозной жизни мглою.
Ах! скоро ль прилетит последний скорбный час,
Конца и тишины желанный возвеститель?
Промчись, печальная неведения тень!
Откройся, тайный брег, утраченных обитель!
Откройся, мирная, отеческая сень!
Но у Джеймса Томсона стихотворение, выразив порыв к счастью-смерти, тут же и кончается. А у Оливера Голдсмита роман указанной проповедью не завершается. Наоборот, после нее начинается цепь невероятнейших случайностей, возвращающих семью священника в состояние, лучшее чем исходное в Векфилде. Смертельно раненный слуга оказался симулянтом. Сам Нэд Торнхилл изобличен в похищении Софьи, и она спасена торнхилловым дядей Уильямом, вольным лишить силы иски племянника к Примрозу по поводу долгов и ранения слуги. Даже Оливия оказывается не умершей: священнику соврали, чтоб он разрешил брак злому Нэду Торнхиллу с другой девушкой, богатой наследницей. И Оливия даже оказывается не обесчещенной, а законной женой Нэда Торнхилла. Потому что сам Нэд оказался обманутым: один плут ему для обмана Оливии подставил не лжесвященника для венчания, а настоящего священника. И т. д. и т. п. И чтоб все это случилось, нужно было, чтоб увозимая похитителем Софья увидела в окно кареты своего любимого Берчелла (переодетого могущественного дядю Неда) и крикнула ему, нужно было, чтоб тот оказался чрезвычайно сильным и храбрым, чтоб без оружия сумел ее отбить у вооруженного, нужно было, чтоб этот похититель был очень приметной наружности, чтоб тюремный благодетель Примроза, Дженкинсон, узнал похитителя по описанию и указал, где тот живет. И нужно, чтоб этот Дженкинсон оказался всеобщим знакомым и во все впутанным, даже в ложное венчание Оливии, сделанное им законным, чтоб когда-нибудь за молчание сосать деньги из Неда Торнхилла. Ну - неисчислимы счастливые совпадения. В общем, как говорится, сорок бочек арестантов. Столько нагромоздил автор случайностей.
А еще ж он “недостатков” подсыпал. Как, например, священник мог оказаться ложным, когда у Неда Торнхилла это был проторенный путь:
“...он венчался уже не раз с помощью все того же священника; и таких жен у него шесть, а то и восемь...” - говорила Оливия в XXI главе; но только случай с Оливией оказался законным. Как мог Примроз поверить, что Нед Торнхилл требует его, именно его разрешения на брак с богатой невестой, когда у того был свой капеллан, на все готовый? Как этот Нед вообще смог посадить Примроза в тюрьму за арендный долг, когда в IV главе, я цитировал, написано, что земля приобретена у прежнего священника за сто фунтов? Ну и так далее.
ЧИТАЕМ ТО, ЧТО ПИСАЛ ГОЛДСМИТ
СПУСТЯ ГОДЫ
Но, может, самой этой невероятностью скопления случайностей Голдсмит хотел не посмеяться над умиротворением как философией жизни, а... Может, он хотел намекнуть, что только в книге, мол, и возможно спасение сброшенных на самое дно? Может, потому, выпячивая книжность, он и напортачил во многих местах в своем романе? И, может, этот роман - призыв к состраданию! Тогда он вписывается в обыденное представление о сентиментализме и пусть не слезы в читателе вызывает, но, по крайней мере, тяжелые размышления о несправедливости жизни для некоторых...
Сравнение с другим хрестоматийным произведением Голдсмита, “Покинутой деревней”, показывает, что предположение наше несостоятельно.
Сочтем потери. Отбирает знать
Надел, который многих мог питать...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но где найти пристанище несчастным,
Погубленным вельможей своевластным?
Могла когда-то на земле общинной
Хоть скудную траву найти скотина,
А ныне вольный выгон огорожен
И чадами богатства уничтожен.
Куда деваться? В города идти?
Но что несчастных ждет на сем пути?
Глядеть на злато, не вступая в долю,
На люд, попавший в горькую неволю...
...На блеск забав пустых и изощренных,
Что зиждется на горе разоренных?
Там шелк и бархат на хлыще придворном,
А швец измучен ремеслом тлетворным.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Взгляни туда, где, как бездомный зверь,
Дрожит в ознобе лютом Евы дщерь -
Никак, она в деревне расцветала,
Над былью горькую слезу роняла,
И озарял жилище взор юницы,
Как первоцветов вешние зарницы.
А ныне, потеряв друзей и стыд,
Под дверью совратителя лежит...
Ужели, милый Оберн, твой народ,
Подобно ей, живет в плену невзгод?
И, может, ныне, чуя глад и дрожь,
Они краюху просят у вельмож?
Риторические вопросы, как известно, не требуют ответов. Все и так ясно. Но мы еще со школы помним про огораживания в Англии. С общинной земли богачи крестьян сгоняли ради пастбищ для овец, а не как у Голдсмита: “вольный выгон огорожен и чадами богатства уничтожен”. Овцы нужны были для шерсти, шерсть - для мануфактур, а изгнанные с земли крестьяне нужны были для тех же мануфактур уже в качестве неимущих и на все согласных рабочих, тех, кого во всей поэме Голдсмит упоминает лишь мельком, одной строчкой:
А швец измучен ремеслом тлетворным.
Это все же кое-что, а не полное падение юницы.
Так зато нам и виднее из исторического далека. А Голдсмиту - нет, и он нагнетает. И раз нагнетает - это уже тенденциозный сострадательный сентиментализм.
И он возник уже в другую эпоху, когда деревня даже издали, даже сентименталистам перестала казаться идиллической, когда покинутых Обернов стало большинство, а еще не затронутых капитализмом - меньшинство. И неважно, что Голдсмит не совсем разбирается с делами вокруг села.
Неважно так же, что не так уж много времени прошло между написанием “Векфилдского священника” и “Покинутой деревни”: всего четыре года. Огораживание - был процесс медленный в Ирландии, откуда родом был Голдсмит. Но она была далеко. И раз покинув свою деревушку, он никогда туда не возвращался. А в Англии все шло гораздо быстрее, и четыре года могли разделить эпохи. Да и могло даже до умницы Голдсмита какое-то время не доходить вроде бы очевидное, а потом вдруг дойти и претвориться в произведение сострадательного и тенденциозного сентиментализма.
Но, что если есть тенденциозность уже и в романе?
Иногда кажется, что есть.
ЧИТАЕМ ВПЕРЕМЕЖКУ ИЗ I, XVI, XVII, VII И III ГЛАВ
Сюжет романа представляет собой цепь, подозрительно состоящую из одних только неумелых предпринимательских акций одного за другим всех членов семьи Примрозов, считающих себя хорошо подготовленными к “военным” действиям на “фронте” борьбы за жизненный успех, в этой войне без правил, войне всех против всех. Причем Примрозы ханжат, даже перед собой, что они придерживаются чести, правды и добра.
Вот - мать семейства, Дебора Примроз:
“- Поверьте, миссис Примроз, таких хорошеньких деток, как ваши, во всей округе не сыщешь!
- Да что, милая,- ответит жена,- они таковы, какими их создало небо: коли добры, так и пригожи; по делам ведь надобно судить, а не по лицу.
И тут же велит дочерям поднять головки...”
А позже - пустилась во все тяжкие, чтоб “поймать” на красоту Оливии мерзавца Неда Торнхилла:
“...жена взяла на себя миссию прощупать его и с этой целью задумала обратиться к нему за советом относительно замужества своей старшей дочери. Если этот маневр не вынудит его сделать предложение, положили пугнуть его соперником...
[фермером Уильямсом, действительно к ней сватавшимся было]
...На последний шаг я, однако, никак не хотел дать свое согласие, пока Оливия не обещала мне, что если помещик в конце концов так и не пожелает на ней жениться сам, она выйдет замуж за того, кого изберут ему в соперники...
...Немного потребовалось усилий, чтобы разжечь его [Уильямса] былую страсть, и на второй или третий вечер они встретились с мистером Торнхиллом в нашем доме и обменялись яростными взглядами. Впрочем, Уильямс платил аренду исправно, и посему помещичий гнев не был ему страшен. Оливия же, со своей стороны, великолепно разыграла роль кокетки (если можно назвать ролью то, что являлось ее подлинной сущностью) и выказывала новому поклоннику самое нежное внимание”.
И был назначен день свадьбы с Уильямсом, и оставалось до нее лишь четыре дня - и Оливия сбежала.
И только ли любовью надо объяснять себе побег Оливии из дома, если она не убежала от Неда на следующий же день, после того, как он представил ей свой гарем? - Конечно, здесь не только любовь, а еще и далеко не благонравный расчет (понимаемый, как благонравный):
“...Она [жена] заметила, что среди наших знакомых... можно насчитать немало вольнодумцев и что тем не менее все оказались превосходными мужьями, не говоря о том, что она знала девиц, которые выйдя замуж за вольнодумцев, так искусно повели дело, что мужья их вскоре превратились в самых добрых христиан.
- И кто знает, друг мой,- заключила она,- чего только не удастся добиться нашей Оливии! Девочка за словом в карман не полезет, о чем ни говори, да и спор вести она как будто мастерица.
- Вести спор, душа моя? Разве она читала какие-нибудь полемические сочинения? Не помнится мне, чтобы я давал ей подобные книги. Ты, право, преувеличиваешь ее достоинства.
- Ах, нет, батюшка,- возразила тут Оливия,- ничуть. Я перечитала ужас сколько рассуждений. Я читала диспут между Твакумом и Сквэром, спор Робинзона Крузо с дикарем Пятницей и сейчас как раз читаю о словесном состязании в “Благочестивых влюбленных”.”
Средний сын, Мозес, был натаскан на спорах. И что?
“- Сделайте милость, докажите!- воскликнул сын мой Мозес.- Я же со своей стороны постараюсь опровергнуть вас.
- Отлично, сударь!- вскричал помещик... [подлец Нед Торнхилл] ...сразу смекнув, с кем имеет дело, и подмигнул, как
бы приглашая всех принять участие в предстоящей забаве.- Если вы хотите начать диспут, я принимаю ваш вызов. Но прежде всего нам нужно установить, как вы намерены вести его - аналогическим или диалогическим методом?- Я желал бы вести его на разумных началах,- отвечал Мозес, в восторге от того, что ему представилась возможность выступить в словесном поединке.
- Вот и отлично!- воскликнул помещик.- Итак, я полагаю, вы не станете отрицать, что все сущее существует? Если вы не примете этого постулата, мне придется уклониться от дальнейшего обсуждения.
- Что ж,- ответствовал Мозес,- это я, пожалуй, могу допустить. Будь по-вашему.
- Я полагаю также,- продолжал его оппонент,- что вы согласитесь с тем, что часть меньше целого?
- Допускаю!- вскричал Мозес.- Ибо это не только справедливо, но и разумно.
- Полагаю,- воскликнул помещик,- что вы не станете отрицать, что сумма трех углов треугольника равна сумме двух прямых углов?
- Это не подлежит никакому сомнению,- отвечал тот и важным своим взором окинул всех нас.
- Превосходно!- вскричал помещик и продолжал скороговоркой:- Итак, на основании обусловленных мною предпосылок, позвольте мне заметить, что взаимосвязанность самостоятельных существований, имеющая место при обратимом двойном взаимоотношении, само собой разумеется, вызывает возможный диалогизм, который в известной мере доказывает, что сущность духовного субстрата следует отнести к категории вторичных предиктов.
- Погодите, сударь!- вскричал Мозес.- Я отрицаю это положение. Или вы полагаете, что я так, без боя, приму столь еретическую доктрину?
- Как?- воскликнул помещик в притворном исступлении.- Не примете? Извольте же ответить мне на следующий вопрос: согласны ли вы с Аристотелем, когда он утверждает, что родственное родственно?
- Безусловно,- отвечал Мозес.
- В таком случае,- вскричал помещик,- отвечайте без обиняков на следующий мой вопрос: чего, по вашему мнению, недостает в первой части моего силлогизма: secundum quoad или quoad minus? Да приведите ваши доводы тут же, без обиняков, слышите?
- Прошу прощения, сударь,- отвечал Мозес,- я еще не могу оценить всю силу вашей аргументации; впрочем, если бы вы представили ее в виде одной-единственной посылки, то я думаю, что без труда мог бы ответить вам.
- Нет уж, сударь!- вскричал помещик.- Увольте! Вы, оказывается, хотите, чтобы я снабдил вас не только аргументами, но и мозгами. Прошу прощения, сударь, но вы слишком много захотели!
Все стали смеяться над беднягой Мозесом, который один хранил унылый вид среди веселых лиц, его окружавших; в течение всего вечера он не промолвил более ни слова”.
А сам прехитрый священник?
“...следуя своему всегдашнему обычаю, я пригласил хозяина распить с нами бутылочку вина; он принял мое приглашение тем охотнее, что счет, который готовился предъявить нам наутро, от этого отнюдь не должен был сократиться. Зато он мог рассказать мне о людях, среди которых мне суждено было отныне жить, а главное, о мистере Торнхилле, помещике, в чьих владениях находился мой новый дом, расположенный к тому же всего в нескольких милях от его собственной усадьбы. Он аттестовал его как джентльмена, который в жизни привык искать одни наслаждения и славился своей приверженностью к прекрасному полу. Никакая добродетель, по словам хозяина, не могла устоять против его искусства и настойчивости, и на десять миль кругом едва ли можно было встретить девушку, которая бы не оказалась жертвой его вероломства”.
И каковы результаты его разведки? Он пошел на поводу у своей жены и дочки и встал на тропу охоты за Недом. И никакие ошибки-предзнаменования по ходу той охоты его не остановили и привели к краху.
И если неизбежно все плохо кончается, когда плохо пригодные для бесчестной игры низы, принявшие правила нечестной игры, рвутся наверх, то, может, Голдсмит хотел читателей разжалобить? Может, это тенденциозность - так губить и губить не таких уж плохих, по большому счету, людей? Может, здесь, в романе, такая же тенденциозность, как и в “Покинутой деревне”?
Однако, как тогда объяснить ту беспощадную трезвость и хоть сочувственную, но насмешливость, что сквозит в каждой странице текстов о поражениях несчастных соискателей лучшей доли?
Нет. Тут не сострадание. Повторяю: до сострадания тогда, в 1766 году, большая английская литература еще не дошла.
ЧИТАЕМ О РОМАНЕ, СОВРЕМЕННИКЕ
“ВЕКФИЛДСКОГО СВЯЩЕННИКА”
И в 1768 году, и современнику Оливера Голдсмита, Лоренсу Стерну, собрату по разочарованию в экстремистском сентиментализме Юнга и в скромном сентиментализме Томсона и Грея,- тоже еще было не до сострадательного сентиментализма. Стерн тоже еще осматривался.
<<
Внимательно анализируя текст “Сентиментального путешествия”, можно обнаружить, что прекраснодушные философские убеждения Йорика ставятся под сомнение практикой его поведения, а суждения героя о себе самом либо противоречат его же суждениям, высказанным в другом месте, либо опровергаются его поступками......Не случайно рассказ о поездке Йорика в Версаль, где он надеялся угодничеством и низкопоклонством добыть себе иностранный паспорт, стоит рядом с историей продавца пирожков, который стойко переносит выпавшие на его долю невзгоды, не теряя собственного достоинства. Благородство одного резче оттеняет душевную слабость другого.
Не случайно рассказ о нищем попрошайке, который лестью выманивал милостыню у женщин, предшествует рассказу о поведении Йорика, пользующегося методом нищего в светских салонах.
Не случайно нелюбезному поведению Йорика, отказавшегося уступить место даме в последней сцене романа, предшествует описание радушия и гостеприимства простой крестьянской семьи.
Не случайно прекраснодушный порыв Йорика, пытающегося освободить запертого в клетке скворца, завершается спустя несколько страниц рассказом о дальнейших приключениях злосчастной птицы, обнаруживающим эфемерность благородных чувств героя книги.
Не случайно знаменитый, полный сентиментального пафоса эпизод с мертвым ослом заканчивается перебранкой Йорика с кучером. Йорик искренне сочувствует мертвому ослу и его хозяину. Он упивается проявлением собственной чувствительности и полагает, что извлек из этой встречи моральный урок для себя:
“Если бы люди любили друг друга, как этот бедняк любил своего осла,- это бы кое-что значило”. Но это только фраза. Ведь в тот же момент, когда Йорик растроганно думает о добром отношении крестьянина к своему ослу, его раздражает, что кучер, жалея лошадь, не хочет гнать ее в гору: “Печаль, в которую поверг меня рассказ бедняка, требовала к себе бережного отношения; между тем, кучер не обратил на нее никакого внимания, пустившись вскачь по pave' [под гору]...Я во всю мочь закричал ему, прося, ради бога, ехать медленнее,- но чем громче я кричал, тем немилосерднее он гнал.- Черт его побери вместе с его гонкой,- сказал я,- он будет терзать мои нервы, пока не доведет меня до белого каления, а потом поедет медленнее, чтобы дать мне досыта насладиться яростью моего гнева.
Кучер бесподобно справился с этой задачей: к тому времени, когда мы доехали до подошвы крутой горы в полулье от Нанпона,- я был зол уже не только на него - но и на себя за то, что отдался этому порыву злобы.
Теперь состояние мое требовало совсем другого обращения: хорошая встряска от быстрой езды принесла бы мне существенную пользу.
- Ну-ка, живее - живее, голубчик!- сказал я. Кучер показал на гору...”
>> (К. Н. Атарова. Лоренс Стерн и его “Сентиментальное путешествие”. М., 1988).Это ж подумать только! Роман, своим названием давший наименование целому литературному течению, движим пафосом, совсем отличающимся от обыденного понимания сентиментализма, как жалостливости и слезливости.
Атарова, кстати, в своей работе показывает, что 200 лет Стерна неправильно понимали. Так надо ли удивляться, если, с моей подачи, окажется, что и Голдсмита 200 лет недопонимали?
ЧИТАЕМ ИЗ IX И XII ГЛАВ,
А ТАК ЖЕ ЕЩЕ И ЕЩЕ ИЗ ГРЕЯ
Итак, мы отказываемся от недавнего минутного поползновения счесть “Векфилдского священника” произведением сострадательного сентиментализма. А что он не является проявлением “скромного сентиментализма”, то тоже мы несколькими способами уже установили.
Но, может, недостаточно? Может, все-таки здесь торжествует пафос томной меланхолии, убеждение в непрочности земного счастья? И потому ко всему, мол, нужно относиться спустя рукава... И к сочинению взаимосвязанных перипетий в романе: ну их, пусть не сходятся... И к невероятному стечению спасительных случайностей: ай, все пустое... И к поражению за поражением в потугах устроить жизнь получше: хорошо в любом положении... Как, впрочем, и плохо - в любом... Все - трын-трава!
...Те, что ползут, те, что летят,
Тем кончат, где начнут.
И хлопотун и весельчак,
Один лишь день порхает всяк,
Одет в наряд, Фортуной тканый;
Рукой Несчастья схвачен враз
Иль Старостью, воздушный пляс
Он кончит, смертью званый.
Томас Грей. “Ода весне”
Не то же ль говорит Голдсмит в “Векфилдском священнике”?
Нет! Голдсмит не Грей. Грей - морализатор. “Скромный сентиментализм” вырос из нравоучительных од. А Голдсмит больно уж шутлив. И раз уж культивирует чувство, - поскольку сентименталист,- то даже буйство чувственности и эгоизм (тоже ведь чувство!) не обходит довольно любопытным вниманием своим, насколько это возможно, отдав перо высокоморальному мемуаристу, священнику Примрозу:
“...Когда обнаружилось, что для такого многочисленного общества у нас не хватает стульев, мистер Торнхилл тотчас предложил, чтобы дамы посадили джентльменов себе на колени. Этому я воспротивился самым решительным образом, оставив без внимания неодобрительный взгляд, который жена метнула в мою сторону”.
Не правда ли, тут есть тот нюанс, что надо, мол, отдать должное наглости, как таковой, в ее раскованности. Иначе зачем было заставлять священника в мемуарах вспоминать такие мелочи под видом подробнейшего отчета о том, как семейство вели в аморальность?
“- Нет таких удовольствий, нет таких радостей,- перебил меня [священника] мистер Торнхилл,- которых они [дочки священника] не были бы достойны! Ведь сами они словно созданы на радость людям. Что касается меня,- продолжал он,- то я обладаю изрядным состоянием; а как девиз мой - любовь, свобода и наслаждение,- то, если половина всего, чем я владею, способна доставить прелестной Оливии радость, я готов передать эту долю ей, не попросив взамен ничего, кроме дозволения присоединить в придачу самого себя!”
Предложить - кому?! - священнику, да еще в присутствии всей семьи и посторонних,- отдать дочку в содержанки, будучи уверенным, что если тот ни суть, ни форму не проглотит, так он, Нед Торнхилл, сумеет обратить все в шутку и в визитах в дом ему не откажут! Ей-Богу, так и слышишь: “Браво!” - голос Голдсмита в подтексте самого факта, что напечатан такой текст.
Конечно же, священник взорвался и, конечно же, Нед его нейтрализовал, не слишком даже поступаясь своими принципами:
“- Что же до того,- продолжал он,- на что вы только что изволили намекнуть, уверяю вас, сударь, что я и в мыслях ничего подобного не имел. Нет, нет, клянусь всеми соблазнами мира, добродетель, которая требует длительной осады,- не в моем вкусе! Молниеносный наскок - вот залог моих любовных успехов!”
А разве не получили вы удовольствие, читая, как Нед обкрутил Мозеса в диспуте на тему: религия есть дьявольский обман?
А как смакуются технологии объегоривания на ярмарке плутом Дженкинсоном сначала Мозеса, продававшего старого жеребца, потом самого священника, продававшего тягловую лошадь!
“- Я ее продал,- вскричал Мозес,- за три фунта пять шиллингов и два пенса!
- Молодец, мой мальчик!- воскликнула она [жена].- Я знала, что ты их вокруг пальца обведешь. Между нами говоря, три фунта пять шиллингов и два пенса - это не так плохо. Дай же их сюда!
- Денег у меня нет!- отвечал Мозес.- Я пустил их в оборот.- Тут он вытащил из-за пазухи какой-то сверток.- Смотрите! Двенадцать дюжин зеленых очков в серебряной оправе и сафьяновых футлярах.
[А замысел был - купить верховую лошадь для выездов, чтоб достойно выглядеть перед соседями ввиду ухаживаний Неда за Оливией.]
- Двенадцать дюжин зеленых очков,- повторила жена слабым голосом.- И ты отдал жеребца, а взамен привез нам двенадцать дюжин каких-то несчастных очков!
- Матушка, дорогая!- вскричал мальчик.- Послушайте же разумное слово: это выгоднейшая сделка, иначе я не стал бы покупать их. Одна серебряная оправа стоит вдвое больше, чем я отдал за все.
- Что толку в твоей серебряной оправе?- вскричала жена в исступлении.- Я уверена, что, если пустить их в продажу как серебряный лом, по пяти шиллингов за унцию, то мы и половины своих денег не выручим.
- Об этом не беспокойтесь!- воскликнул я.- За оправы вам и шести пенсов не дадут,- это посеребренная медь, а не серебро.
- Как?!- вскричала моя жена.- Не серебро? Оправы не серебряные?
- Да нет же!- воскликнул я.- В них не больше серебра, чем в твоей кастрюле...
...Между тем у бедняги Мозеса открылись наконец глаза. Он понял, что попался на удочку ярмарочному плуту... Я попросил его рассказать, как было дело. Оказалось, Мозес, продав лошадь, пошел бродить по ярмарке, высматривая другую для покупки. Там он повстречал человека почтенной наружности, который пригласил его в какую-то палатку под тем предлогом, что у него якобы имеется лошадь для продажи.
- Тут,- продолжал Мозес,- к нам присоединился еще один джентльмен; он был прекрасно одет и просил двадцать фунтов под залог вот этих очков, говоря, что нуждается в деньгах и готов уступить все за треть цены.
Первый джентльмен под видом дружеского участия шепнул мне, чтобы я не упускал такого случая и очки непременно купил. Я вызвал мистера Флембо [соседа по земельному участку], и они заговорили ему зубы так же, как и мне, и вот в конце концов мы оба решили взять по двенадцать дюжин очков каждый”.Цитировать, как надули самого Примроза, когда на ту же ярмарку продавать тягловую лошадь и покупать верховую отправился он сам, я не буду: слишком длинно, хотя и занимательно. Сообщу лишь итог. Примроз оказался с чеком на предъявителя к мистеру Флембо, а тот его оплачивать отказался, так как подписан он был тем же почтенным Дженкинсоном, который его и Мозеса подбил купить очки.
Весело творится зло - и нам весело читать про это...
Слабо верится, чтоб это все было нравоучением: каждый сверчок - знай свой шесток, знай, что ты не годишься в плуты и пролазы, и потому оставайся на том низу, на каком оказался, иначе еще ниже окажешься, НЕ ДЕЙСТВУЙ!
Нравоучения ж - просты, не осложняются подтекстом, намеками, выводами по ассоциации. Так что, даже когда читаешь улыбчивое нравоучение моралиста,- чувствуешь напор автора. Вот конец шутливого, если можно его так назвать, стихотворения Томаса Грея “О кошке, утонувшей в вазе с золотыми рыбками”:
...Красотка! Пусть узнает всяк,
К чему ведет неверный шаг;
За все грядет расплата.
Не все, что манит мысль и взгляд,
Есть лучшая из всех наград,
Не все, что блещет, злато.
А феерическое падение Примрозов и еще более феерическое вознесение обратно и даже выше не способствуют нравоучению в духе Грея, в духе томной меланхолии и скромного сентиментализма.
ЧИТАЕМ ОБ ОБЕЩАННОМ ПРИЕМЕ СИНУСОИДЫ
И ЧИТАЕМ ИЗ ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ,
А ТАК ЖЕ ИЗ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
Логическую стройность во взаимоотношения всех видов сентиментализма вносит упоминавшийся вначале прием Синусоиды. Синусоида это проекция на плоскость винтовой спирали. А спираль - геометрический образ диалектического развития: тезис вытесняется антитезой, а та - синтезом, в чем-то сочетающим тезис с антитезой. Затем цикл повторяется. И так - вечно.
Синусоидальный образ развития искусства известен давно. Но он еще не разработан в применении к идеалам, которыми руководствуются художники, субъективно выражая себя, меняющегося в изменчивом мире, а объективно - обеспечивая движение истории искусства. И совершенно еще не применяется такая тонкость, как инерционные вылеты вон с синусоиды на ее перегибах при движении по ней во времени.
Идеалы естественно распределять между полюсами: высокие идеалы и низменные идеалы. Поэтому естественно Синусоиду идеалов представлять себе разворачивающейся горизонтально, например, слева направо вдоль причинно-логической и временной оси. Синусоида - непрерывна, а вылеты с нее вон - как бы короткие отрезки продолжающихся, не сумевших завернуть левых полудуг взлетов и спадов волн. Вверху - как пена, залетевшая выше гребня волны, внизу - зеркально.
Так, если представить, что эмоции развратника Неда Торнхилла и плута Дженкинсона были выражены в специальном художественном произведении, и если захотеть поместить это произведение на Синусоиду идеалов, то куда б пришлось его поместить? - На нижний вылет вон с Синусоиды.
На верхнем вылете, естественно, по противоположности, оказались бы процитированные чуть не вначале “Умирающий христианин” Александра Попа и “Ночные думы” Эдварда Юнга (не на нижний же вылет помещать их с их устремленностью в небо).
У нижнего перегиба, перед вылетом вон и вниз, разместился б “Векфилдский священник”, если б Голдсмит отбросил от своего романа все, кроме первой главы, а в самой первой оставил бы лишь безбедную низменную жизнь Примрозов в Векфилде без священниковых завираний насчет скромности.
Перед верхним перегибом поместилась бы воинствующая трагическая “Баллада” Дж. Гея и трагическая песенка Оливии, если б она не была включена в высмеивающий ее контекст.
После верхнего перегиба - все здесь процитированное из Томсона и Грея. Типичный синтез высокого и низкого. Удовлетворение теми материальными благами, какие дала судьба, как бы мизерны они ни были, и, в то же время, несомненная духовность мудрого умиротворения.
На новую взмывающую дугу Синусоиды “ступила” бы “Покинутая деревня” (это именно ее последователи: не процитированные - из-за отсутствия подходящих переводов - Джон Лэнгхорн и Вильям Каупер, тенденциозно доводили читателя до жалости и сострадания).
А перед этой новой взмывающей дугой, у второго нижнего перегиба - “Векфилдский священник” Голдсмита и “Сентиментальное путешествие” Стерна. Реалистический сентиментализм. Всматривающийся беспристрастно во все перед ними выраженные идеалы и неудовлетворенный ими всеми. Смеющийся над ними и... незнающий, как же быть:
“Вся комната, казалось, наполнилась радостью; восторг наш передался даже в общую залу, где заключенные выразили нам свое сочувствие.
Оковами бряцая в восхищенье,
И дикий звон сей музыкой звучал”.
Это сцена среди апофеоза справедливости. Справедливость вершится прямо в стенах тюрьмы из-за того, что неудачник Берчелл оказался могущественным баронетом Уильямом Торнхиллом, якобы сказочно добрым человеком, явным исключением из правил. Потому “якобы”, что такова, в сущности, инерция молвы. Сам он, разорившись было от залетов доброты и снова разбогатев (разбогатев честно, но... не сказано, как), стал теперь добрым по расчету. Его собственное в том признание выглядит так (он говорит сам о себе в третьем лице):
“Тут-то понял он, что, если хочешь, чтобы сердце другого человека принадлежало тебе, нужно отдать ему взамен свое... Щедрость его стала разумнее...”
Настолько разумнее, что Примрозов,- если объективно,- он спас потому, что в душе своей уже отдал свое сердце Софье, младшей дочке священника. А все остальные щедроты - обрамление.
Так что и тут подпустил Голдсмит шпильку.
Так как же быть? - Не дает роман ответа.
Призыв к массовому состраданию несчастным стучался в повестку дня общественного сознания, но в “Векфилдском священнике” еще не был осознан.
Одесса. 1 августа 1997 г.
Конец четвертой интернет-части книги “Сквозь века”
| К первой интернет- части книги |
Ко второй интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
|||
| К пятой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |