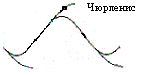
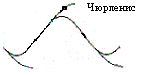
С. Воложин
Чюрленис. Художественный смысл произведений живописи и литературы
Восьмая интернет-часть книги
Разрешение Каунасского музея Чюрлёниса на публикацию в интернете репродукций произведений Чюрлёниса:
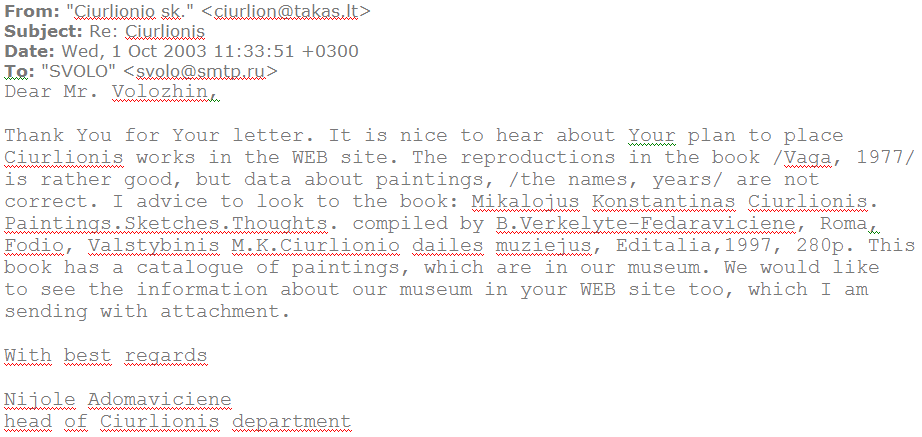
8.2
К замечаниям о наиболее общих
художественных принципах
Можно предполагать, что осенью 1906 года (после вояжа по Западной Европе) Чюрленис судил о смелости и новизне работ современных французских художников как соревнующийся с ними коллега, то есть с точки зрения собственного новаторства, еще более необычного, чем новаторство самих французов.
К этому времени у него уже были написаны “Лица”, “Мысль”, “Гимн”, “Сотворение мира”, триптих “Рекс” - и если даты установлены верно - “Дружба”, “Истина”, “Тишина”. Его блеклый колорит уже существовал. Чюрленис уже противопоставил себя публике, требующей от живописца “во-первых, живописи”, он уже противопоставил себя подавляющему большинству современных ему художников.
Кроме того уже лишь несколько месяцев оставалось до создания первых его так сказать музыкально скомпонованных произведений.
В общем, он мог уже чувствовать, что является таким новатором, которого не ждут даже революционеры от искусства. Смелость и даже предельная смелость становятся творческим принципом художника. И она очень хорошо укладывается в общее правило, выводы из которого весьма неприглядны для него и его почитателей.
Пусть не подтвердились все предыдущие подозрения относительно Чюрлениса, но если есть еще одно - нельзя его замолчать. Итак, последнее испытание теорией...
Логика движения благоприятно отсталого искусства индивидуалистической эпохи заставляет живописцев заразиться безудержной смелостью художественного субъективизма французов и заставляет их обогнать. Примеры налицо: экспрессионизм в немецкой культуре (не путать с ранее упоминавшейся экспрессионистской тенденцией) и печально известный абстракционизм (беспредметная живопись) русских художников - Кандинского, Малевича, Бобрина...
Поглядеть на такие вещи Чюрлениса, как циклы “Зима”
(97-104), “Искры” (90-92),средняя часть триптиха “Мой путь” (159) и некоторые другие - покажется, что не Кандинский, а Чюрленис открыл абстракционизм (хоть на несколько лет - а все-таки раньше Кандинского). Но...
“Чистый” абстрактивист, в своем крайнем неприятии окружающего мира желая быть совершенно свободным от всякой изобразительности, умышленно уничтожает на своем полотне сходство с предметами. Чюрленис - явно не таков. Об этом и говорить нечего.
“Полуабстрактивист” кое-что сохраняет: некоторые приблизительные намеки на форму. Но и он пренебрегает слишком многим. Он игнорирует реальный способ существования формы. Чюрленис - опять же - не пренебрегает. Наоборот. Рисуя что-то в высшей мере бесформенное и непонятное, он изображает довольно реальные замерзшие окна или причудливые облака, клубы дыма или межзвездную пыль.
Взятые прямо из природы и поставленные, скажем, на стол “нерукотворные” изображения из, например, корней и веток деревьев потому и нравятся нам, что нас чарует волшебная перекличка разных “царств” природы, в которой угадываются скрытые закономерности. И потому-то НЕ нравятся нам “полуфигурные” изображения “ полуабстрактивиста”, что они произвольны и не уважают “почерк” природы.
И Чюрленис явно понимает эту психологическую особенность восприятия и считается с ней. Он понимает, что намеки на форму волнуют и возбуждают фантазию лишь тогда, когда они сами основаны на свойствах натуры, на тех прихотливых вариациях и отклонениях, возможность и предвосхищение которых заложены в самой натуре.. Вот он и рисует, например, в “Спокойствии” не то мыс, не то чудовище, а вернее - и то и другое одновременно.
В общем, Чюрленис далеко не абстрактивист, и не зря Кандинский говаривал о задаче “преодоления Чюрлениса”.
Но какая-то схожесть между ними все же есть, да и сам абстракционизм тоже не на пустом месте возник, а из довольно-таки приверженного изобразительности экспрессионизма - этого самого влиятельного из модернистских течений и самого живучего... (Здесь и далее экспрессионизм надо будет понимать в узком смысле этого слова.)
Оформившись еще в 1905 году, экспрессионизм просуществовал, с перерывами правда, чуть ли не до настоящего времени, будучи актуальным теперь не только в США, ФРГ, Австрии и Италии, но и в ГДР, Польше и Чехословакии. А кое-кто даже утверждает, что он и не может быть преодолен другим стилем до тех пор, пока существует угроза существованию человечества.
Так если верно, что Чюрленис - один из лучших проводников долгосрочных законов в искусстве, то не экспрессионист ли он или, по крайней мере, не ближайший ли предтеча этого течения?
Чем не параллель его знаменитой “Истине” обязательный для каждого уважающего себя экспрессиониста образ пророка, провидящего будущее и правду?
Значит, присмотреться нужно повнимательней к этим возможным “родственникам” чюрленисовских творений.

Страдальчески изломанные брови, глубокая морщина мученика, прорезавшая лоб, впалые щеки, потрясенные глаза, смотрящие не просто вдаль, а чуть ли не в разные стороны, всклокоченная борода и космы волос - это еще не все, что приковывает внимание в “Пророке” Эмиля Нольде. И даже не зловещий контраст черно-белой гравюры создает необычное по напряженности ощущение.
Еще до того, как зрительские “сочувствия и противочувствия” начнут колебаться между психологическим крайностями, выражаемыми этим взглядом, одновременно вперившимся и отведенным, еще до того, как наши впечатления начнут метаться между отрешенностью и порывом, скорбью и возмущением, смирением и твердостью, еще до того, как вы всмотритесь и прочтете в этом ошеломленном лице трагедию страшного прозрения о мире, о его тайной ужасной и вечной сущности (или о роковой будущности) - еще до всего этого вас поразит... как бы негативность изображения. Черным выполнено то, что выступает, на чем кладут обычно блики: нос, усы. А глаз - белый... В то же время большие белые пятна лба и щек возвращают впечатление обычности.
Так что тут за изображение: негативное или позитивное?
И еще не осознав этого, зритель в первую же секунду поражен и принимается невольно искать причину.
Вот такая странность, отчуждение от обычного, такое умение почти насильно, еще до понимания, овладеть вниманием зрителя является краеугольным камнем эстетики экспрессионизма. А это же в полной мере характерно и для Чюрлениса.
Разве не поражает зрителя, обычно ждущего от живописца живописи, чюрленисовская “бледнопись”. А если и удивит вас вдруг обнаруженная светоносность - так она тоже небывалая, как бы сюжетная, что ли. Например, свет из глаз в Мысли” или свет черного солнца (“Иегова”
(225), “Прелюд” (207)...)На сюжет и композицию вообще падает главная часть неожиданностей, преподносимых Чюрленисом зрителю: молнии под землей, а если и в небе, то их сразу семь; облака на ступенях и храмы в небесах; дуб до неба и рыбы в воздухе; летающий уж и деревья, не только корнями, но и кронами прорастающие сквозь землю, как сквозь клочья тумана. Или эти взаимопроникающие (а может, просвечивающие друг сквозь друга?) полуматериальные миры... Или перспективы и смешения масштабов, какие не приснятся и в самом фантастическом сне... А эти точки зрения - как с самолета, который в те годы не вошел еще в жизнь, и, наконец, его космические точки зрения и вид
ения...Совсем как экспрессионисты: с какой стати, мол, писать то, что есть в природе?.. И если, мол, толпа в недоумении скажет: что это такое, такого не бывает,- так она просто глупа, ибо это все равно, что спрашивать значение каждого звука в симфонии, приводящей к определенной эмоции.
“Долг художника,- сказал как-то Чюрленис по поводу непонятности своих работ,- выразить в картине то, что он хочет, долг зрителя - понять его”. А долга быть понятым зрителю у художника нет?..
Но вот парадокс: Чюрленис - в общем-то, как раз понятен, а экспрессионисты - нет.
Взять того же Нольде: “Сошествие Святого Духа ”.
За столом теснится группа людей с аккуратненьким... язычком пламени на голове у каждого. Крайний слева осклабился, другой закрыл глаза, третий, положив руку на плечо соседа, смотрит - не поймешь: скучая или грустя. Крайний справа восторженно расширил глаза и приоткрыл рот. Двое на переднем плане в знак союза соединили руки на столе, первый глядит пронзительно на товарища, второй, очень глупо поджав губы, вытаращился вверх и вдаль. В центре молится, сложив ладони, фантастически светлоглазый человек... И это все написано утрировано грубо...
Вещи, вроде “Пророка” Нольде, у экспрессионистов едва ли не исключение по понятности. И глядя на их работы, чаще всего не понимаешь (и не сопереживаешь), а лишь чувствуешь, что они явно содержательны и тенденциозны. Но о чем они проповедуют - остается вопросом.
И вот, если экспрессионисты так же, как Чюрленис, устремились, по их же словами, прямо к сущности мира, если они, так же, как Чюрленис, предполагали, что художник какой-то особой интуицией может понять скрытую сущность вещей и, так сказать, творчески создать ей, этой сущности, тело и одежду, которые не скрывали бы ее,- то почему же у них плохо обстоит дело с ясностью выражения? Почему по сравнению с ними так понятен, так естественно понятен Чюрленис?
Вот, например, вдохновенные слова, навеянные одному русскому критику начала ХХ века (Чудовскому) чюрленисовскими образами трав и деревьев:
Правда: вспомните, как упрямо извиваются ломкие травы в “Деве”, нежные цветы в “Сотворении мира”, тонкие стебли в триптихе “Мой путь”, вспомните все, что было уже сказано здесь о произведениях Чюрлениса, и вы согласитесь с Чудовским, что картины Чюрлениса “с поразительной реальностью овеществляют отвлеченный идеализм”.
В педантическом задоре можно лишь уточнить, что с образами художника ассоциируется не просто “отвлеченный идеализм” вообще, а достаточно определенные частные положения конкретного идеализма, например, объективного (в “Горе”), или ему враждебного идеализма, субъективного (в цикле “Зима”), или позитивизма, противостоящего им обоим (в том же цикле “Зима”), или всем им противоположного - стихийного материализма (в “Мысли”). Можно множить и множить такое перечисление: сенсуализм - в той же “Мысли”, агностицизм - в “Истине”, анимизм - в “Спокойствии”, анархизм - в “Сонате моря”, фатализм - в “Сонате солнца”, в ней же, а особенно в “Истине” - релятивизм...
И не случайно “измы” зачастую паруются, собираются втроем вокруг одного и того же произведения. Многие работы Чюрлениса не просто философичны, но “диалектичны”: дают образно и зримо саму жизнь, саму судьбу той или иной философии в человеческом сознании. Многие вещи художника отражают то самодвижение (а чаще всего самораспад), который происходит от внутреннего противоречия вот этой, “изображаемой” в картине, философии.
Как замечательно намекает диптих “Прелюд и фуга”, мол, слабость бунтаря,- пусть и возвысившегося над робкой и покорной толпой,- перед неограниченно давящей силой - состоит в том же, в чем и могущество самой этой силы: в стремлении к неограниченной свободе, попирающей свободу других.
Как тонко прослежена в “Сонате моря” история ультрареволюционности и всеобщего отрицания, проходящего через бессилие мятежного фатализма, через своеобразную вершину экстремизма - апатию и гражданскую самоликвидацию - к яростному, опять же, возмущению против угнетения и уничтожения личности.
Картины Чюрлениса, вполне в духе диалектических устремлений новейшей живописи, нередко изображают саму изменчивость философии во времени. Планы (ближний, дальний...), с лежащими в их основе идеями и отделяемые друг от друга иногда даже рамами (в циклах), Чюрленис располагал порою прямо как звенья единого диалектического ряда: тезис - антитеза - синтез. Например, в триптихе “Мой путь” за незрелыми упованиями (тезис) следует отчаяние (отрицание тезиса) при виде катастрофической бесплодности посева, и затем идет синтез (отрицание отрицания): идеалистический пафос отрешения от материальных идеалов как таковых. Зримо - это последнее - путь вверх, куда направляет ледяная гора-рука, подобная той, что и в “Дне” показывает на небо...
Общая идея экспрессионизма - это, в сущности, конец света. Экспрессионисты настойчиво утверждают, что художник должен быть пророком этого, что художник есть человек глубокого содержания и его картина есть проповедь, но проповедь особая, непосредственно потрясающая чувство.
Но что же, собственно, проповедовать? Куда же, собственно, звать?
В том-то и дело, что немецкий экспрессионист не знает того, куда звать, и не знает, что проповедовать. Он больше кричит, чем говорит...
Если вы взойдете на трибуну и станете кричать от боли, вы произведете, конечно, тяжелое, может быть, и потрясающее впечатление, но никому не ясно будет, что к чему. Оратор-художник не таков. Он сумеет передать и в словах, и в темпераменте, в страстной окраске все страдание, о котором он говорит, но не только не в ущерб смыслу своей речи, но в глубочайшем синтезе с ним.
А экспрессионистское искусство продавливается в бормотание, в стон, в невразумительную исповедь страдающей души, в самокопание, в декадентство.
Это очень не похоже на картины Чюрлениса, на его философские поэмы в красках, в которых художник пастельным карандашом и кистью, через образы, вникает в детали тех или иных философий, бытующих не только в его сознании, но и в окружающей жизни, бытующих в виде теорий среди ученых, студентов и таких как он, Чюрленис, - слушателей салонных дискуссий, бытующих в виде просто житейской мудрости - среди прочих людей.
Это не похоже и на собственные слова Чюрлениса о декадентстве.
Если бы слова художника были высшей инстанцией в целостном анализе его произведений - не нужно было бы лучшей охранной грамоты от упреков в декадентстве, чем вот такая декларация:
Поразмыслив над этим заявлением можно, вообще-то, даже и эту антидекадентскую декларацию понять лишь как отчаянно-бесшабашный жест, мол, непознаваемых бесконечностей интеллигент все равно не избежит: если не минус - так плюс бесконечность, не ультрапсихологизм - так сверхличное. И не похожи ли в таком свете на Чюрлениса экспрессионисты, которые ведь тоже хотели быть “живописцами космоса”?
Но они-то оказались лишь живописцами хаоса...
Крайнее недоверие к художественной продукции того времени, а следовательно, и к произведениям Чюрлениса, естественно, ибо внутренняя опустошенность буржуазии заражает воздух культуры, и в этой атмосфере слишком многое разлагается. Конечно, и тут встречаются отдельные лица и группы в средних классах, которые находят в себе силы протестовать против тлетворного духа современной им буржуазной культуры, черпая вдохновение или из далекого прошлого, или из полетов фантазии в будущее, вообще в какое-то лучшее время. Но даже подобные героические одиночки обыкновенно подпадают общему стилю времени, если им не удается в своих полетах найти правильный путь,- тот путь, по которому движется история.
Так кем же является Чюрленис, если он все-таки чем-то похож на экспрессиониста? Кем? Тем более что, по всей видимости, появление и Чюрлениса, и экспрессионистов имеет одну первопричину - колоссальное бездорожье идейное.
К тому ж, если говорить вообще, то сказать о них можно тоже одинаково. Например: “Боже, Боже, для чего ты меня оставил!”- таким “смертным воплем” подытожил Бенуа за Чюрлениса его творчество. И похожими словами: “Люди, ищите Бога, исхода, без этого нельзя жить!”- резюмировал за экспрессионистов Луначарский. - Так что подозревать Чюрлениса в экспрессионистском декадентстве есть за что.
Но хоть общий знаменатель содержания у экспрессионистов и у Чюрлениса один и тот же, зато числители конкретного в картинах у них очень разные.
Основное спасение литовского гения в том, что он конкретен.
Слово “конкретен” имеет разный смысл в разном контексте. Чюрлениса нельзя было назвать конкретным при давешнем сравнении с Беклином, потому что там беклиновскому правдоподобию и подробности формы противопоставлялась обобщенность и размытость чюрленисовской манеры. И наоборот: более конкретным, чем Беклин, Чюрлениса можно назвать за то, что он никогда не давал отвлеченные ценности условно, а всегда лишь как пресуществление их в зрительные равноценности.
Каждый художник, один - более, другой - менее, стремится вообще-то внушить зрителю некую идею, эмоцию, создать безо
`бразное впечатление от произведения. В этом смысле все сколько-то поклоняются отвлеченности, неконкретности, а символисты, Чюрленис и немецкие экспрессионисты - больше, чем кто бы то ни было. Но на этом крайнем фланге выразительности вряд ли кто-нибудь лучше, чем Чюрленис, мог выражаться по-живописному непосредственнее (а значит, конкретнее). Никто не мог лучше его находить в природе и находить глазами начертательные образы самых отвлеченных идей.Чудовский писал, что искусство обычно занималось буднями природы и в них черпало свою правду, в то время как жизнь природы иногда, мол, справляет высочайшие свои мистерии:
А Чюрленис дерзал! Он отдавался наваждению, он звал к себе это священное безумие. Великое дерзание духа нужно, чтобы не устрашиться, когда из-под ног уходит последняя почва обычных, спокойных ощущений, и чтоб в последние мгновения не уцепиться за последнюю возможность видеть “как всегда”. Но Чюрленис дерзал, и просветленному взору его открывалось скрытое значение вещей...”
Так или иначе, но очень остро заметил Чудовский, мол, художник, правдиво изображающий свои галлюцинации, в большей мере реалист, чем художник, изображающий, как настоящую, местность, которую не видел.
Но это же как раз творческий принцип постимпрессионизма и экспрессионизма: признавать субъективный духовный мир художника единственной реальностью, достойной художественного выражения. Так спрашивается - еще раз - почему экспрессионистские галлюцинации - это невнятное “бормотание” (а если даже внятный - то слишком уж общий протест), тогда как галлюцинации Чюрлениса - и внятны, и конкретны - почему?
Если ответить социологически, так в чем-то потому, что как ни силен был в этом художнике вековой польско-литовский пессимизм, но во второй половине XIX и в начале ХХ веков Европа была подвержена закону перенесения центра революционной борьбы с Запада на Восток, а Польша с Литвой не только в географическом смысле лежали на пути этого исторического перенесения.
Западная Европа шла в социальный тупик (из которого до сих пор не выбралась) - Восточная Европа, в первую очередь Россия, находилась на перепутье. (Даже капиталистический путь дальнейшего развития России после отмены крепостного права - и тот подвергался сомнению, например, Герценом и народниками, уповавшими на самобытную русскую сельскую общину.)
А не схожи ли перепутье и бездорожье?.. - И там, и там людям не известны исторические пути родины...
Сходство есть. Немалое.
Но как велико различие!
В бездорожье некуда, не во что вглядываться - на перепутье же люди во все глаза всматриваются во множество лежащих перед ними дорог: какая верная, какая наша? И здесь не бывает ни без тех, кто уже увидел и уверен, ни без тех, кто все сомневается и сомневается. Так где ж как не в России должны были появиться в XIX веке такие прозорливые впередсмотрящие - в искусстве - как Горький, Толстой и Достоевский, выразители настроений пролетариата, крестьянства и средних классов.
Достоевский для нашего случая особенно примечателен. В своих идейных блужданиях на историческом перепутье * России он создавал живые образы идей, идей господствующих и подспудных, идей уже живущих и еще зарождающихся, идей официальных и неофициальных. Достоевский стал великим художником идеи; в его творчестве впервые в мировой литературе идеи стали почти героинями произведений, стали предметом художественного изображения.
Но то же самое можно сказать и о его двойнике в живописи, о Чюрленисе, способность которого давать зримую жизнь самым отвлеченным идеям поистине поразительна.
И дело не только в этой способности, хотя и одной ее - при великом множестве “овеществленных” Чюрленисом философских “измов” - уже было бы достаточно, чтобы соотносить эти два имени.
Главное заключается в том, что Чюрленис открыл для живописи, увидел и показал глазу зрителя истинную сферу жизни отвлеченных идей - их диалогическую природу, то есть то, что незадолго до него в области литературы и шире - во всеевропейской эстетике - удалось сделать Достоевскому.
Что ж такое - диалогическая природа идей?
Здесь, на примере литературном, более доступном широкой публике, чем живопись, следует, наверно, подробнее остановиться.
Возьмем идею Раскольникова в “Преступлении и наказании”.
Та же идея Раскольникова снова появляется перед нами в не менее напряженных диалогах с Соней. Затем мы слышим ее в диалогизированном изложении Свидригайлова. Наконец, на протяжении всего романа идея Раскольникова вступает в соприкосновение с различными явлениями жизни, испытывается, проверяется, подтверждается или опровергается ими. Но нигде не утверждается Достоевским от имени автора как истина в последней инстанции романного мира - таких вообще Достоевский не вывел в своем художественном творчестве. Везде у него диалог идей, и ни одна из них не побеждает окончательно, даже та, которой симпатизирует сам автор.
Утрачивая свою завершенность, довлеющую одному сознанию, идея приобретает таким образом противоречивую сложность и живую многогранность идеи-силы, действующей в большом диалоге эпохи и перекликающейся с родственными идеями других эпох. Перед нами образ идеи в открытом Достоевским так называемом полифоническом романе.
*
- Перепутье вы связали с сомнением для Чюрлёниса, оттолкнувшись от полифонического романа Достоевского, в котором “диалог идей, и ни одна из них не побеждает окончательно, даже та, которой симпатизирует сам автор”. А в более поздних ваших сочинениях никакие сомнения Достоевского не упоминаются. Наоборот, он дан как очень знающий, что хочет – христианский социализм. Это ж противоречие: сомнение и решительный экстремизм.- Нет.
Просто Достоевский считал, что русский народ – особый: может быть с Христом в душе и тем – спастись сам и всех спасти своим примером. Остаётся только ему напомнить про Христа. Но ненавязчиво. А – отдавая всю силу аргументов каким угодно другим идеям. Для их-то, других, усиления он и создал полифонический роман. Пусть русский человек осознанно, сам, выберет себе в руководители Христа, без никакой игры в поддавки со стороны олицетвориителей других идей.
И так же у Чюрлениса в его самых примечательных - тоже полифонических картинах, таких как “Рай”, “Истина” и других. Ни одна из противоборствующих идей не дана там с полной поддержкой авторского всемогущества (это только в НЕ-полифоническом произведении автор выглядит абсолютным владыкой). В чюрленисовских полифониях ни одна идея не отрицается художником категорически.
С мировоззрением “детских душ”, обитателей “Рая”, например, точка зрения автора не сливается. Об этом уже говорилось при разборе примитивного приема в перспективе лестницы. В примитивной детальности изображения райских цветочков и травки, бабочек и стрекозок можно усмотреть даже иронию, насмешку неутомимого борца над сантиментами. Но возобладать иронии художник не дает: очень уж много пространства он отвел морю, гладким волнам, ластящимся к райскому берегу. Этим волнам он придал и реалистически правильные перспективные сокращения. С такой, новой точки зрения как бы понятна, по крайней мере, желанность покоя, пока тот не обретен. Разве не резонно такое желание? Но море отражает (“понимает”) и вечную изменчивость облаков... А понимают ли ее ангелы? - Похоже, что да, способны понять, во всяком случае, так как томятся и скучают от безделья. Ну, а облака: не слишком ли они неосновательны, нематериальны и растрепаны, чтобы вызвать к себе безусловную симпатию? - Похоже, что слишком: все-таки никто не летит за ними из рая обратно и очень уж небрежна здесь рука изображающего их художника, с чьей точки зрения изображено море...
В общем, нет совершенно авторитетной идеи, могущей подчинить себе все. Правда - где-то между ними. И они все сосуществуют, а не перетекают одна в другую. Чюрленис имел в своем арсенале достаточно средств для развертывания судьбы идеи во времени: сюжетность, музыкальную композицию, многосерийность, но он не применил их в “Рае”.
С другой стороны, остановки времени в этой картине тоже нет. Есть надвременность, неизбывность, вечность. В вечности все одновременно, все сосуществует, и ничто не возобладало окончательно.
От вечной незавершенности у Чюрлениса иногда даже в многосерийных работах встречаются такие развертывания, которые не вытягивают мысли в ряд, а сопоставляют их рядом, ставят друг против друга. И, порою, разбивка произведения на части у него разграничивает не планы, не этапы становления некой окончательной идеи. Отдельные рамы тут как нельзя лучше обозначают сосуществование идей. Противоположные идеи - части диптихов, триптихов и циклов - жестко сталкиваются тут друг с другом, и всегда ли авторское предпочтение нужно усматривать в той, которую художник дал последней справа.
Такова сшибка в цикле “Похоронная симфония” и в диптихе “Печаль”. Вспомните: “Горе - объединяет”,- как бы возглашается в начале этих произведений. В конце же - наоборот: “Горе - выявляет одиночество”.
А у Чюрлениса и явно последовательные изображения не дают ни сюжетного, ни живописного торжества той картине, что висит крайней справа. Например, “Сотворение мира”. Разве появление Разума-ужа не выглядит обыкновенным рядовым явлением, таким же, как рождение света, земли, воды, жизни, красоты?..
Попутный нюанс: временно
`е развитие в этом цикле - катастрофически быстрое (библейские семь дней творения). А что такое быстрота, как не единственный способ преодолеть время во времени. Так что и с такой точки зрения последняя картина - рождение самопознания - не апофеоз цикла, не завершение, а обрыв в случайном месте. Недаром Чюрленис написал как-то, что собирается писать этот цикл в течение всей жизни. Действительно, с появлением Познания прямо-таки неисчерпаемые возможности открылись для игры противоречий...По этой же причине - от желания столкнуть в споре все и вся: то, что было - с тем, что есть, то, что есть - с тем, что будет - по этой самой причине довольно частым гостем в картинах Чюрлениса был эсхатологизм - тенденция приближать “концы”.
И потому же даже исконно временн
ая - музыкальная композиция - не дает торжества финала, когда не закончен в произведении спор идей. Ведь и в музыке так: в ней же не только гомофония есть - главенство одного голоса среди многих, но и равноправие голосов - полифония. Последняя в музыке даже раньше появилась, чем в других искусствах...Не нужно только путать полифонию с многозначностью, искони присущую изобразительному искусству. В той мере, в какой смысл произведения коренится в самом изображении, он будет воспринят именно так, как должно. Смысл будет воспринят с должной определенностью. Не прав был, например, Грин, когда об одном из своих героев написал: “Он любил картины без объяснения и надписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее, ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли”. Такое заявление верно лишь для редких художников, для таких, как Чюрленис, у которых равноправие планов приводит к обоснованному разночтению.
И вот такое разночтение планов плюс принципиальное свойство живописи показывать все планы одновременно, в сосуществовании, приводит к тому, что даже неполифонические картины Чюрлениса отдают разноголосием. В диалектической судьбе идеи ее превращения так разительны, что, не будучи прослежены во всех тонкостях (чего живопись уж никак не может сделать), они - промежуточные идеи - выглядят сопоставленными, а не выведенными друг из друга.
Например, так много жизненного материала пропущено между первым, вторым и третьим изображением в триптихах “Соната моря” и “Мой путь”, и так не похожи их части друг на друга, что они кажутся не родственниками, а кровными врагами. А в триптихе “Мой путь” к тому же размером формата выделен вовсе не финал, не синтез, не итог судьбы, а средняя часть...
Вообще, Чюрленис неоднократно и мастерски справлялся с противоречивой задачей: не давая перевеса какой-нибудь из противоборствующих идей предельно усиливать каждую из них. Так, в “Похоронной симфонии” за гробом идет бесподобно длинная процессия. Сохранился такой набросок этой темы, что, глядя на него, представляется, будто все человечество идет за гробом. Солидарность... И тем более страшен и убедителен в своей контрастности сюжетный и живописный итог - бесцветное одиночество вдовы...
В “Истине” такого предельного усиления художник достиг мотивом святости. Это же страшнее нет - гибель святых от руки Бога. И нет ничего возвышеннее сознательной гибели во имя веры...
Приемом гиперболы, доведения до почти невообразимой крайности Чюрленис достигал того же, что и Достоевский, когда ставил героев своих романов в исключительные, раскрывающие, провоцирующие, фантастически необычные и неожиданные положения. Достоевский сочинял так, чтобы испытать твердость последнего слова своих героев о мире.
Вот и Чюрленис - изображает предметы и явления, чрезвычайно превосходящие обычные. Это величественные вершины и бескрайние моря, это возносящиеся над окружающими гордые замки и переживающие века пирамиды. Обычные человеческие лица и фигуры не годятся для изображения превосходной степени. Поэтому если художник изредка их и изображает, то или с атрибутами высшей власти - абсолютизма (это короли, королевы, жрецы и другие князья церкви), или в виде гигантских по масштабу антропоморфных облаков, или же в виде монументов, переживающих все живое и смертное. Пейзаж родной страны давал мало пищи фантазии Чюрлениса, и он уносился ввысь и смотрел вниз на землю с высочайших замков и храмов, гор и облаков или еще выше - из космического пространства. А с поверхности земли он глядел в огромное небо, в бесконечные звездные просторы. И даже сквозь обычные предметы и явления под его рукой начинали проглядывать абсолюты. Его солнце - почти на полнеба, его сосны - увенчаны коронами, его гроза - со множеством одновременных молний. Его ветер так силен, что раскачивает тяжелые колокола. И только тусклым краскам родимой северной природы при всей смелости своей фантазии Чюрленис не изменил. Случайно ли?
Не случайно. Потому что ему не только усиливать, но и глушить надо было в конечном счете непринимаемые им мировоззрения.
Все гармонично в его бледнописи: это и нематериальность последних итогов самосознания людей, и авторское неверие в их сопричастность истине, и их собственная неустойчивость и неуверенность.
А чтобы не скатиться до безэмоциональности и безразличия ко всему этому чужому и зыбкому, чтобы не дойти до холодного философского равнодушия, Чюрленис приемом композиционного доведения до абсолюта добивался исповедальной страстности звучания взаимоборющихся мировоззрений.
И разве трудно тогда представить зрителя, “услышавшего” лишь часть исповеди и проповеди? Если это часть, соответствующая самому художнику, многие личные качества которого достойны всяческого уважения, тогда еще ничего. Но не все ведь знакомы с ним как с личностью. Да и полифоническое равноправие авторского голоса с чужими голосами не дает ориентира. И тогда за душу зрителя надо бороться, и в частности - раскрыванием полифонического уклона чюрленисовской живописи.
Но если даже не полифония... Пусть, например, в бессюжетных музыкально скомпонованных пейзажах Чюрлениса спорно: одновременность там или разновременность, контрасты - диалектически-сонатные или полифонически-диалоговые. Все-таки бесспорным остается одно: авторский синтез в последнем звене у художника нередко отсутствует, тот авторский синтез, что снимает предшествующие звенья как вполне преодоленные. Так, в последнем “Рексе”
(214) черный король больше белого и выше вздымается над мирами, чем белый, но и он тоже прозрачен и призрачен, как и белый, и вряд ли идеологически полноценно венчает произведение.А в чисто полифоническом произведении и подавно нет идейного апофеоза. Можно ли сказать об “Истине”, что раз крылья за спиной человека со свечой находятся выше всего, то художник настаивает на все-таки всепобеждающей ценности веры, можно ли сказать, что он проповедует, мол, истина все же не относительна, а абсолютна и едина, и стоит того, чтоб за нее убивались? - Можно так подумать. Но сказать, что художник утвердил это своей властью автора произведения - нельзя. Наоборот. Он сложил крылья надежды и вообще сделал их едва заметными. Противоположная идея, идея недостижимости, непознаваемости истины не слабее звучит в картине, чем идея святости и порыва.
И такое самообессиливание автора - если выражаться “полифонически” - такое усиление неприемлемого лично для него акцента не приводит к дурной противоречивости, к гетерофонии, разноголосице в худшем смысле - если выразиться по-музыковедчески. Он ведь полумрак написал в “Истине”. Неверный свет. А в других картинах - миражи, сны, галлюцинации, кажимости... Все, что угодно, показаться тут может... Психологически же - это умонастроение раздвоенной души отражено: художник не только привержен некоему принципу, но и отдает должное убедительности точки зрения своего, так сказать, противника-двойника. А социальная причина обеих правд: и изобразительной, и психологической - есть идейное многоголосие эпохи - в 1905 году еще было достаточно далеко до убедительной массовой победы какого-нибудь одного мироотношения над другими.
И все же революционный подъем 1905 года не сравнить с первой в России революционной волной, породившей между прочим и полифонизм Достоевского. Современникам этого великого художника наиболее светлое будущее России рисовали утописты - идеологи достаточно подозрительные в своей неосновательности, чтобы Достоевский в своих романах стал “испытывать” социалистическое начало наиболее жестоко.
А к 1905 году сила наиболее прогрессивной идеологии (диалектического и исторического материализма) была в России уже посущественнее - не чета давешнему утопизму. Это уменьшало необходимость в полифонии. Ее девятый вал переместился в живопись, в принципе не способную дать такое же качество диалога идей, как литература.
Более того: не иначе как провидя силу марксизма и не желая все-таки ничему поверить, Чюрленис принужден был о марксизме вообще молчать в своем творчестве, а все другие мирообъемлющие идеи - отрицать. Гораздо же больший, чем у Достоевского, пафос отрицания чужих идей подрывал их равноправие, губил полифонию и сказался на малочисленности полифонических картин - этих самых характерных воплощений чюрленисовского Сомнения.
Так или иначе: отрицая какой-нибудь очередной философский “изм”, или живописуя, как тот сам себя изживает, или оставляя его в незавершенной борьбе с другими мировоззрениями - в любом случае Чюрленис далек был от утверждения какого-нибудь выхода из идейного кризиса. И тем он, как день от ночи, отличался ото всех модернистов, как ни “ломавших рамы”, а все же находивших какой-нибудь надуманный выход: кто - в эстетизме, кто - в эротике, кто - в морали сверхчеловеков или в этике туманных бунтовщиков против компромиссов и пошлости, а кто - даже в социализме, но по большей части с анархической примесью. Чюрленис отличался ото всех, ибо не знал, куда звать. Причем он отличался тем, что отдавал себе трезвый отчет в своем незнании, а еще - неустанными своими поисками дороги в лучшее будущее. Все это было честнее модернизма, но, наверное, и намного тяжелее... и для души, и для тела. Потому, может, и окончился творческий путь Чюрлениса так скоро и так печально.
Конечно, и прежде в истории культуры не раз бывали идейные кризисы. Это объясняет, почему такие грустные художники, не нашедшие себе выхода, иногда живут в веках. Не понятно, правда, почему полифония не возникла в искусстве при первой же смуте. Но, с другой стороны, ничто не появляется на свет без своей предыстории. Следы полифонии в литературе, например, уже прослежены наукой до достаточно ранних времен. У Бальзака, Шекспира, Рабле, Сервантеса, у Данте и еще раньше - у Мениппа и Сократа - находят ее предвосхищения и зародыши. Может, и в живописи - если искусствоведение займется этим - найдутся столь же глубокие корни полифонии. Это и была бы настоящая предыстория ядра чюрленисовского феномена. Но писать ее должны другие, ибо нельзя популяризировать то, что еще не открыто.
А пока - да будет позволено применить здесь образ из чюрленисовской “Сказки замка”
(174) - пока пусть до поры, до времени останется в тени та тропинка, что хоть и привела Чюрлениса к... пропасти, зато сделала это на самой вершине горы.Да. Чюрленис подошел к пропасти, взойдя на свою вершину, и кто знает, не скатился б ли он в нее, проживи еще немного.
Это “Рай”-то плох!.. Конечно, из пяти названных картин только в “Прелюде ангела” можно найти намеки на музыкальность. А именно музыкальность в конце своей жизни ценил Чюрленис превыше всего. Он ведь своей невесте даже литературные ее произведения рекомендовал компоновать по сонатному принципу. На холсте же эта тенденция превратилась в противоречия чуть не в каждом штрихе... Если нарисовал “непротиворечивую” елку, то пусть хоть отражается в воде не она, а... две таких, как она.
Ясно, что чем реальнее (понятнее) был пейзаж, тем менее вязались с ним “сонатные” контрасты. Чуть перегни с музыкальностью - и начнется заумь и формалистская рассудочность. Именно туда, подальше от земли, в “непонятное”, собирался залететь Чюрленис, провоцируемый шутками Сомова. Но это был бы полет в пропасть.
Владычество музыки над искусствами отживало свой век, а полифония... Кто знает, может, когда наступит новая гармоническая эпоха - коммунизм - трагическое и полифоническое искусство Чюрлениса не так уж будет нужно людям. И тогда лишь ученые, эти до глубины души погруженные в противоречия познания творцы, будут подолгу смотреть на бледнопись литовского гения и задумчиво наслаждаться его Сомнением. Кто знает...
Каунас, 1972 - 1985
Список использованной литературы
1. Аполлон. 1911, №5.
2. Аполлон. 1914, №3.
3.
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.4.
Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.5.
Асафьев Б. В. Русская живопись. Мысли и думы. Л.-М., 1966.6.
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.7.
Бенуа А. Художественные письма. Чурлянисъ.- Речь. 1912, №39.8. БСЭ, 3-е изд., 1975. Т. 22.
9.
Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971.10. В защиту искусства: Классическая марксистская традиция критики натурализма, декадентства и модернизма/ Сост. и предисл. Л.Я. Рейнгард.- М., 1979.
11. Всеобщая история искусств: В 6-ти т. М., 1964. Т. 5.
12.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968.13.
Гинзбург С. Очерки теории кино. М., 1974.14.
Гончаров И. А. Собрание сочинений: В 8-ми т. М., 1980. Т. 815.
Готт В. С. Удивительный неисчерпаемый познаваемый мир. М., 1974.16.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л., 1966.17.
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.18.
Давыдов Ю. Искусство и элита. М., 1966.19.
Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962.20.
Днепров В. Д. Литература и нравственный опыт человека. Л., 1970.21.
Ефремов А. Ф. Происхождение искусства. М., 1970.22. Западно-европейское искусство второй половины XIX века: Сборник статей / Под общ ред. Б. Р. Виппера, И. Е. Даниловой.- М., 1975.
23. Изобразительное искусство: Науч.-реферат. сборник.- Вып.1 - М., 1979.
24. Искусство нравственное и безнравственное/ Сост. и общ. ред. В Толстых.- М., 1969.
25. Искусство стран и народов мира. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: Краткая худож. энциклопедия / Ред. коллегия: Б. В. Иогансон и др.- М., 1962. Т. 1.
26. История диалектики / Рук. авт. коллектива Т. И. Ойзерман.- М., 1974.
27. История и теория атеизма: Учеб. пособие. М., 1974.
28. История русского искусства / Под общ. ред. акад. И. Э. Грабаря и др.- М., 1968. Т. 10, Кн. 1.
29. История философии: В 6-ти т.- М., 1959. Т. 3.
30.
Кедров Б. М. Ленин и научные революции. М., 1980.31.
Кеменов В. Джоконда: О философском содержании картины Леонардо да Винчи “Джоконда”.- Лит. газ., 1974, 19 июня.32.
Кешелава В. В. Гуманизм действительный и мнимый. М., 1973.33.
Киплик Д. И. Техника живописи. М.-Л., 1950.34.
Кожинов В. Происхождение романа. М., 1963.35.
Кон И. С. Социология личности. М., 1967.36.
Костин В. И., Юматов В. А. Язык изобразительного искусства. М., 1978.37.
Кузнецов Б. Г. Философия оптимизма. М., 1972.38.
Кузнецов Б. Г. Эйнштейн. М., 1963.39.
Ландесман П., Согомонов Ю. Спор с пессимизмом. М., 1971.40.
Ландсбергис В. Творчество Чюрлениса. Л., 1975.41.
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.42.
Луначарский А. В. В мире музыки. М., 1971.43.
Луначарский А. В. Об изобразительном искусстве. М., 1967. Т. 1.44.
Луначарский А. В. Об изобразительном искусстве. М., 1967. Т. 2.45.
Луначарский А. В. Собрание сочинений: Литература. Критика. Эстетика: В 8-ми т. М., 1964. Т. 4.46.
Льюис, Джон. Наука, вера, скептицизм. М., 1966.47. “Массовая культура” - иллюзии и действительность: Сборник статей / Сост. и авт. предисл. Э. Ю. Соловьев.- М., 1975.
48. Модернизм: Анализ и критика основных направлений: Сб. статей / Под ред. В. В. Ванслова и Ю. Д. Колпинского.- М., 1973.
49. Молодая гвардия. 1967, № 8.
50.
Молчанова А. С. На вкус, на цвет... М., 1966.51.
Натев, Атанас. Искусство и общество. М., 1966.52.
Недошивин Г. А. Беседы о живописи. М., 1964.53.
Пиралишвили, Отар. Теоретические проблемы изобразительного искусства. Проблемы “NON FINITO”. Тбилиси, 1973.54.
Плеханов Г. В. Литература и эстетика / Теория искусства и история эстетической мысли. М., 1958. Т. 1.55.
Плеханов Г. В. Литература и эстетика / История литературы и литературная критика. М., 1958. Т. 2.56.
Португалов К. П. Серьезная музыка в школе. М., 1974.57. Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки: Сборник статей / Отв. ред. И. Ф. Муриан.- М., 1973.
58.
Реньи А. Трилогия о математике. М., 1980.59.
Рузавин Г. И. О природе математического знания. М., 1968.60.
Румянцева Т. М. Интервью с будущим. Л., 1971.61. Советское искусствознание ’74: Сборник статей.- М., 1975.
62. Современное искусствознание за рубежом: Очерки / Отв. ред. Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова.- М., 1964.
63.
Узнадзе Д. П. Психологические исследования. М., 1966.64. Философские проблемы астрономии ХХ века: Сборник статей.- М., 1976.
65. Философская энциклопедия / Глав. ред. Ф. В. Константинов.- М., 1960. Т. 1.
66.
Фромантен, Эжен. Старые мастера. М., 1966.67. Художник. 1975, № 2.
68.
Чичерин Г. В. Моцарт: Исследовательский этюд.- Л., 1979.69. Чюрленис. М., 1971.
70.
Чюрлените, Ядвига. Воспоминания о М. К. Чюрленисе. Вильнюс, 1975.71.
Шагинян, Мариэтта. Из глубины глубин.- Лит. газ. 1970, 25 марта.72. Школа изобразительного искусства: Сборник. В 10-ти вып. / Ред. коллегия: ...действ. чл. Акад. художеств СССР П. М. Сысоев (Отв. ред.) и др.- М., 1969. Вып. 3.
73.
Шостакович Д. : Статьи и материалы / Сост. и ред. Г. М. Шнеерсон.- М., 1976.74. Экспрессионизм. Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство: Сборник статей / Отв. ред. Б. И. Зингерман.- М., 1966.
75.
Ярошевский М. Г. Психология в ХХ столетии. М., 1974.76.
Ciurlionis M. K. Apie muzika ir daile. Vilnius, 1960.77.
Ciurlionis M. K. Laiskai Sofijai. Vilnius, 1977.78. Ciurlioniui - 100. Vilnius, 1977.
79. Kulturos barai. 1977, № 9.
80. Menotyra. 1967, 1.
81. Mikalojus Konstantinas
Ciurlionis: Albumas.- Vilnius, 1977.
Оглавление
Предисловие к данному изданию...................................... 3
От автора....................................................................... 5
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА.
1. У перепутья
1.1. Верить в Бога - не значит верить Богу
(“Истина”, “Рай”, “Мотыльки”)
........................141.2. Религия нашего времени
(“Потоп”, “Флаги”, “Сумерки”,
“Спокойствие”, “Знаки Зодиака”
.......................... 232. В голой степи одиночества
2.1. Ростки
(“Похоронная симфония”)
................................. 332.2. Буйная поросль
(“Печаль”, “Лодка”,
“Прелюд и фуга”)
.............................................. 372.3. Цветы зла
(“Мосты”, триптих “Рекс”)
............................ 442.4. Горькие плоды
(“Лица”, “Дружба”, “Жертвенник”)
................. 522.5. Лотос растет из грязи незапятнанным
(“Соната моря”, “Жемайтийское
кладбище”)
....................................................... 573. Связь времен
3.1. В Метагалактике
(“Весть”, “Закат”, “Видение”,
“Приветствие солнцу”, “Соната
солнца”)
.......................................................... 613.2. Во Вселенной
(“Тишина”, “Гимн”, “Рекс
зеленый”)
........................................................ 683.3. На земле
(“Лес”)
........................................................... 744. Судьба абстрактных идеалов
(“Мой путь”, “Ангел”,
“Путь королевича”, “Гимн”)
........................... 775. Смотри в корень
5.1. Новая (рубежа XIX и ХХ) и новейшая
(в ХХ веке) научные революции и
Чюрленис
(“Зима”, “Мысль”)
......................................... 815.2. Чюрленис и научные революции прошлого
(“Дева”)
........................................................ 945.3. Будущая научная революция - абсолютная
истина - Чюрленис
(“Ангел. Прелюд”, “Сотворение
мира”, “Гора”)
.............................................. 98ПИСЬМА И ЗАПИСИ
6. К истокам
6.1. Лейпцигский “дневник”................................ 107
6.2. О Личной жизни............................................ 115
6.3. Литературные пробы..........
........................... 1216.4. О литовском Возрождении: слова и дела......... 130
7. Предопределение
7.1. По отзывам Чюрлениса о декоративно-
прикладном и станковом искусстве................. 141
7.2. По поводу оценок живописи Беклина
и французских новаторов............................... 153
8. Вершина над пропастью
8.1. К замечаниям Чюрлениса
о языке и технике живописи........................... 172
8.2. К замечаниям о наиболее общих
художественных принципах......................... 196
Список использованной литературы......................... 217
Сведения о заимствованиях и цитатах ...................... 220
Научно-популярное издание
Соломон Исаакович Воложин
СО-МНЕНИЕ
Попытка приобщится
к художественному миру Чюрлениса
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
Ведущий редактор
Паевский А. С.
Н/К
Сдано в набор 01.06.99 г. Подписано в печать 08.07.99 г.,
формат 148х210. Бумага офсетная. Тираж 30 экз.
Издательский центр ООО “Студия “Негоциант”
270014, Украина, г. Одесса-14, а/я 90
.Несоответствия названий в изданиях разного времени
|
“Mikalojus Konstantinas Ciurlionis”. Vilnius, Vaga, 1977 |
“Mikalojus Konstantinas Ciurlionis.Painting. Sketches. Thoughts”. Roma, Fodio, 1997 | |
|
Номер |
Название произведения |
Название произведения |
|
25 |
Вечер |
Ночь |
|
29 |
Мосты |
Мосты. Из цикла “Фантазия” |
|
46 |
Лица |
Лица. Из цикла “Фантазия” |
|
54 |
Кораблики |
Плавание кораблей |
|
55 |
Видение |
Видение. Из цикла “Фантазия” |
|
76 |
Приветствие солнцу |
Поклонение солнцу. 2-я в цикле их 3-х картин |
|
80 |
Лодка |
Мысли |
|
86 |
Рекс Зеленый |
Вечность |
|
89 |
Флаги |
Утро (Флаги) |
|
138 |
Башни |
Город |
|
145 |
Афиша 1-й выставки литовских художников |
Солнце |
|
165-167 |
Путь королевича |
Путешествие королевича |
|
173 |
Жемайтийское кладбище |
Литовское кладбище |
|
177 |
Рай |
Ангелы (Рай) |
|
178-181 |
Соната солнца |
Соната №1 |
|
187 |
Весенняя соната. Финал |
Соната №2 (Соната Весны). Финал |
|
189 |
Ангел |
Ангел (Прелюд Ангела) |
|
197-199 |
Соната моря |
Соната №5 (Соната моря) |
|
201,203 |
Летняя соната |
Соната №4 (Летняя соната) |
|
212,213 |
Звездная соната |
Соната №6 (Звездная соната) |
Другие интернет-части книги
1
2
3
4
5
6
7
На главную страницу сайта
Откликнуться
(art-otkrytie@yandex.ru)
Отклики в интернете