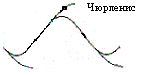
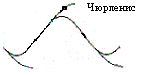
С. Воложин
Чюрленис. Художественный смысл произведений живописи и литературы
Вторая интернет-часть книги
Разрешение Каунасского музея Чюрлёниса на публикацию в интернете репродукций произведений Чюрлёниса:
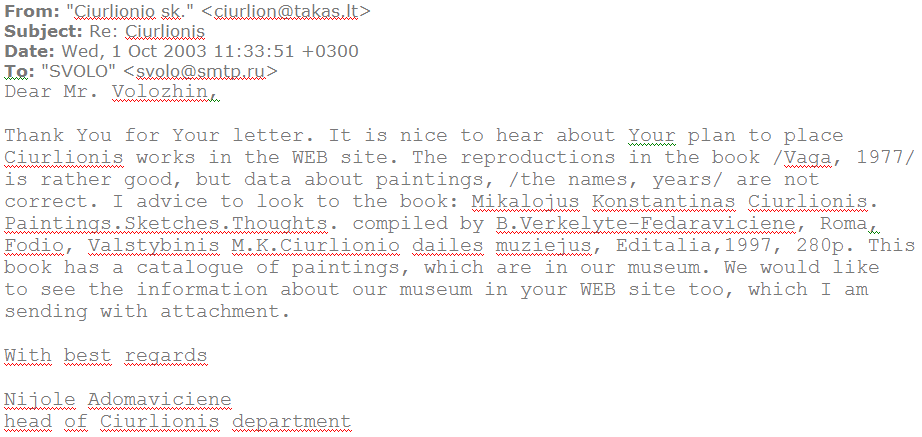
2
В голой степи одиночества
Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней верно нет его.
А. С. Пушкин
2.1
Ростки
“Похоронная симфония” (8 - 14)
Цикл “Похоронная симфония” начинается с солидарности. Огромная плотная масса народа, видимо, все жители города собрались ко гробу на площади у городских ворот.
Солидарность в горе...
Кажется - неодушевленные башни, строения, колокол, каждый камень обрел душу и встрепенулся от несчастья. Расширенными от ужаса глазами-бойницами, искаженно разинутым в крике ртом-колокольней, самим вдруг померкшим зеленым цветом своим город соболезнует горю.
Гроб, иссиня-черный, мгновенно приближенный во второй картине из глубины пространства на первый план, как трагический аккорд страшной силы, взывает за сочувствием к самой природе, к великому солнцу. И оно откликается на скорбный призыв. Вокруг постепенно наступает ночь.


Люди, бесконечная колонна людей, все до единого одетые в одинаковые траурные одежды, не во исполнение светского долга, а из искреннего сострадания все, как один, потупили головы,- они отправились в долгий путь, чтобы в достойном месте похоронить умершего.
Эффектные похороны... И краски им соответствуют.
Пожалуй, во всем творчестве Чюрлениса мало произведений с таким интенсивным цветом. Конечно, это потому, что художник еще не выработал свой неподражаемый блеклый колорит (“Похоронная симфония” - одно из самых первых его произведений). Но и здесь этот колорит пробивается в образной системе цикла. Не ради него ли вся полнота цвета первых пяти картин? не для того ли, чтобы резче, контрастнее оттенить финальные “аккорды” “Симфонии похорон”, чтобы до глубины души пронзила неожиданная и бесцветная истина: царствует в жизни - смерть.
А ее подданные, рабски бредущие сейчас за нею на кладбище, волею художника на фоне света солнца и своих свечей предстают лишь темными силуэтами. Они внутренне потухли: это же путь не только усопшего, но и собственный их путь, их судьба.
И вот именно в этом глубочайшем сочувствии прорастает и становится видимым спрятанное в тайниках души зерно разобщения, посеянное эпохой.
Так ли сникал перед лицом смерти воинственный феодал, рыцарь, гордый аристократ или не забывший о чести дворянин? А смиренный крестьянский принцип: Бог дал - Бог и взял?..
Нужно крайнее сосредоточение каждого на себе, чтобы смерть одного так всколыхнула всех. Лишь наступление последнего периода капитализма с его столь остро развернувшейся индивидуальностью может заставить перед естественной смертью - чужой, а главное, своей - остановиться с таким ужасом. И действительно: как быть? - Со старыми формами религиозных утешений порвано; но чем ценнее сама личность в своих глазах, чем утонченнее, глубже ее жизнь, тем страшнее конец этой жизни!
По контрасту с потрясающей траурной процессией чюрленисовской “Симфонии” ассоциируются похороны его великого современника, гениального ученого - Альберта Эйнштейна. Это была такая ценная личность для человечества, что трудно сыскать десяток подобных во всей истории. Как же должны были хоронить его?
По его завещанию время и место его похорон не сообщили никому, кроме нескольких ближайших друзей, которые проводили его тело в крематорий. А еще при жизни Эйнштейн говорил, причем без тени рисовки и фразерства, что если бы он узнал, что ему суждено скончаться через три часа,- он бы сперва подумал, как ему лучше распорядиться ими, затем бы привел в порядок свои бумаги и лег бы, чтобы умереть.
Значит, не нужно искать идеалов рыцарства и крестьянства, вообще идеалов прошлого, чтобы поддержать свой дух во встрече со смертью. Есть такие идеалы в настоящем, предвестии будущего. Сосредоточив все силы души и ума на одном, живя почти исключительно удовлетворением беспредельного интереса к внешнему надличному объективному миру, вот такой человек, как Эйнштейн, искренне не боялся смерти, ибо преданный не себе - как бы неуязвим для нее.
Никто не усомнится в ценности жизни Эйнштейна, а вот сам он полагал, что рано или поздно не он, так другие открыли бы то, что открыл людям он. Поэтому он не считал свою жизнь особенно драгоценной, а смерть достойной выдающихся церемоний
.Не то в “Похоронной симфонии”. Здесь явно не было завещания, подобного эйнштейновскому, здесь уважены чувства людей, безмерно ценящих жизнь, здесь смерть любого, даже безвестного человека, непроизвольно вызывает грандиозный обряд.
А “речь” тут идет об отношении к смерти именно любого жителя этого странного города.
Гроб не случайно так прост. Умер не царь, герой, вождь или кто-нибудь в этом роде, на чьих похоронах не обходится без вещественных знаков их прижизненного величия.
Можно подумать, что хоронят какого-то великого праведника. Длиннополые одежды людей и нарочитая скромность гроба, как символ аскетической жизни усопшего, казалось бы, за то говорит. Но не менее символична и комната - знамение домашнего очага - в последней картине серии.
Опустевшая комната... Опустевший стол своею чернотой напоминает о гробе, наверно, здесь еще недавно покоившемся. Нет. Вряд ли это монашеская келья. А фигура в длинном платье, оцепеневшая перед пустым столом, вероятнее всего - вдова. Во всяком случае, вся седьмая картина - скорее символ обломка семейной жизни, чем чего-то внесемейного.
Недостойным обобщенного стиля всего цикла было бы и натуралистическое толкование, мол, вдове покойного не по средствам было украсить гроб.
А, может, любимца народного, выразителя национального духа тут хоронят, о демократических пристрастиях которого могла бы свидетельствовать простота гроба? Но художник не показал этого внятно. Почему?
Почему на протяжении семи картин нигде-нигде не конкретизировано, кто умер? - Потому, что для движения идеи этого цикла безразлично, кого хоронят. Любая, мол, жизнь - и это соответствует обобщенности произведения - любая жизнь достойна народного траура, когда она гаснет в этом царстве тлена; только так живые привыкнут к неизбежности своей кончины.
Есть философия, одна из истин которой выражена афоризмом: “первый шаг ребенка - шаг к смерти”... Нечто подобное чувствуешь, глядя на предпоследнюю картину цикла. Эта исчезающая материальность, бестелесность - как бы сама абстракция, сама суть, сам закон, парадоксальный закон: смерть - царица жизни.
Но и в этой картине еще есть сияние, пусть фосфорическое, смертное, пусть туманное и фантастическое. В ней еще есть пафос, парение - это апофеоз смерти. Это еще одна, последняя, разновидность эффектности цикла - торжество смерти.
И только в завершающей картине открывается окончательная суть всего - пустота. Осталось - изначальное: одиночество. Его не выкричишь, не выплачешь, не переживешь. Оно навсегда. Неизбывно.
Всесторонний контраст последней картины всему циклу настолько велик, что создается впечатление, будто переданное ею настроение не может - даже медленно - исчезнуть. Не может не только у женщины, в финале цикла покинутой всеми, но и у нас, зрителей. Эта мерная и длительная подготовка, пока мы переходим от одной картины к другой, не проходит даром. Вживаешься. Течет время... Идешь вместе с людьми... Становишься участником... И не так легко перевести дух после всего этого. И надолго у зрителей остается тяжелое чувство. Картина же - его абсолютизирует.
- А ходячая мысль, что время все лечит?..
- Выходит, не все. Если каждая душа неповторима, и если отошла в мир иной та единственная на свете, которую ты мог назвать близкой себе, то одиночество непреоборимо.
2.2
Буйная поросль
“Печаль” (83, 84), “Лодка” (80), “Прелюд и фуга” (182, 183)
Обычное озеро. Однообразный берег, поросший осокой. Вечернее небо в зеркале воды. Закат. Тихо.
И бесподобный, в каждой картине другой, но в чем-то всегда одинаковый - блеклый колорит переполняет душу чем-то невыразимым.
“Печаль”... Подчеркнуто черны огромные листья осоки. Она остра, как нож. И об нее так просто порезаться... Боль. Острая боль. Но с такой болью всегда - крик, резкое движение. А в картине наоборот: как бы тихо и недвижимо.
Это прошлое? Воспоминания? Нет числа листьям, нет конца берегу. Всюду одно и то же - и не узнаешь места, откуда стал бы обходить озеро. Нет конца... Неизбывно тягостное чувство, монотонны в своей повторяемости аккорды немого отчаяния в непрерывном пианиссимо печали.
Это не прошлое, это - всегда. Как песня без конца. Это не закат, итог дня, а принцип жизни. Это не случайная судьба - она для всех. Жизнь - страдание. Все привыкли. Всюду тихо.
Но своя боль заслоняет все.
Как черно-зеленый диссонанс, переходящий в пронзительно высокую ноту, врезается во вторую часть диптиха огромный лист, снизу вверх по диагонали перечеркивая картину и заканчиваясь предельно острой кромкой. Боль, как игла, пронзает сердце. Все внимание на ней, другое - тонет в мареве. Контраст подчеркнут всем образным строем изображения: еле заметный осенний клин журавлей - и режущий глаз кончик листа; бледный, мерцающий, ирреальный фон - и тяжелый, интенсивный передний план, спускающиеся линии руин - и взметнувшийся контур осоки.
Однако - парадокс! - чем дольше стоишь перед второй картиной диптиха (именно перед картиной, а не репродукцией, ибо влияет величина), тем чаще внимание уплывает с этого монотонно заштрихованного огромного листа на гораздо детальнее проработанные дали. Глаз невольно высматривает - и находит - какая кладка стен на пожарище, как неповторимо причудливы контуры руин, как они, постепенно истаивая в воздушной дымке, спускаются все ниже, ниже, ниже - к морю. Да. Озеро вдруг обернулось бескрайним морем. А точка зрения наблюдателя (она всегда лежит на уровне горизонта) оказалась помещенной надо всеми домами, то есть, получается,- с макушки одной из развалин взираем мы на расстилающуюся картину, а то, что слева, выходит, не осока и, пожалуй, вообще не трава, пусть даже и выросшая на развалинах, а... флаг.
И... перечеркивая (!) этот траурный символ, за море и от пожарища, в каком-то желтоватого теплого оттенка мерцающем небе тянется журавлиная стая. И как же манит ее и нас светлая полоска морского горизонта (увы, это можно прочувствовать вполне лишь перед подлинником).
По контурам птиц нельзя, вообще-то, понять, улетают они или прилетают. Но эта морская даль, эта полоска... Не может быть, чтоб тут была весна с возвращением птиц. Нет, здесь осень и улетание: ввысь, вдаль, к теплу, к иному...
И еще нюанс: взлет, закручивающаяся вверх траектория полета.
Обычно как мы видим улетающих птиц? - Уже набравшими высоту, снизу. И по закону перспективы линия их полета направлена вниз, к горизонту. Редко кто бывает свидетелем взлета осенней стаи. А здесь она взлетает. И откуда - с руин...
Мы уже знаем, как значим в произведении искусства каждый элемент. Все не случайно и здесь: контурное и цветовое разнообразие далей, теплый оттенок неба и вот этот взмывающий живой пунктир. И правда: направленная вниз, к горизонту, цепочка улетающих птиц - как бы прощается с нами, прикованными к земле, остающимися на зиму, и вызывает грусть. А направленная вверх, она словно увлекает душу с собою. Мечта и порыв...
Есть похожая, взвивающаяся, прямо-таки мажорная линия в другой чюрленисовской картине - в “Финале” “Весенней сонаты”
(187).Там, мимо земного шара, по теплому ласковому небу проносится, развеваясь, куда-то в невообразимую высь и даль... вереница разноцветных радостных флагов... Не порыв уже там, а большее - вольный полет мечты.
Черно-зеленый же флаг-лист “Печали II” тяжко повис. Ему суждено быть лишь на фоне неба, но не в небе. Да, осенью летают листья, но не этот, вросший в почву, как приозерная трава. И как бы он ни рвался туда же, куда свободно летят журавли, он останется.
Нет. Не перечеркнуть бледному пунктиру плотную черную массу листа-флага.
Но, может, он, этот чуткий к теплу росток, указал стае направление полета?! Может - трижды интуитивно т неосознанно - все же не зря художник сделал параллельными голову журавлиного строя и древко флага?
И тут нет-нет, да подумаешь: а что, если этот гигантский острый лист, этот траурный флаг - это символ не просто своей боли, а такой своей, что впитала в себя многие боли людские,- как и бывает с сердцем большого поэта, художника, артиста. Что если это есть обобщение всех тех упрямо отдельных, даже вдали не сливающихся, черных траурных листов из первой части диптиха.
В эскизах
(348) эта трава была знаменем.В левой части был цветущий город на берегу моря, стройные башни, листва деревьев, порхающие птицы, солнце в зените, и на первом плане - собирательный символ всего этого торжества: гордо реющее знамя. В правой части - почти то же, что на картине: город разрушен, деревья обгорели, птиц нет, солнце закатывается за море, и надо всем - склоненный флаг. Стань диптих таким же, как этот эскиз, - было бы банально и неуклюже однозначно.
Правый край правой части эскиза отдаленно напоминает картину “Прошлое”, признанная тема которой - былое могущество Литвы, когда-то простиравшейся от Балтийского моря до Черного... Можно сказать, что, замышляя диптих, Чюрленис, взяв за символ флаг, собирался воспеть “соборность”, чувства масс, например, национальные чувства, объединяющие людей “во дни торжеств и бед народных”... Но идейно-пластическая неудовлетворенность первой попытки оттолкнула художника от чересчур прямолинейного подхода к “соборности” и знамени.
Есть еще один эскиз “Печали”
(349).Во второй попытке символ объединения расщепился на четыре флага. Появилась тональная проработка рисунка, воздушная дымка. Она приблизила одно из знамен, оставив позади остальные. Произошло разделение единого и выделение одного из нескольких. Флаги утратили древка, лишились определенности, а уже в самом диптихе приобрели зеленый оттенок и разрослись травой на берегу озера, почти ничем не выдавая свое “происхождение из объединяющего” знамени.
Но такая маскировка - в законченном произведении. А в эскизе эти острые фигуры - еще все-таки знамена, и самое первое, самое большое и весомое из них - явно как бы представительствует, “действует” от их общего имени. И что же оно “делает”? - “Пытается” закрыть солнце. - А солнце?.. - Да его ж лучи - это фрагменты паутины! (В иных вещах у Чюрлениса бывает даже черное солнце...) В общем, оцепеневший мир развалин коллективной жизни порывается затмить ходатай разъединенных знамен.
И если этот тональный рисунок является ближайшим прообразом двух картин сразу, то почему бы не счесть, что замкнутая неизменность разобщенного мира “Печали I” произошла из паутины над бывшим городом, а восстание общественного - в “Печали II” - из антагонизма объединяющего знамени со средоточием паутины.
Что ж это за боли - отдельные у каждого, застарелые и привычные? От чего и к чему рванулась мечта того, кто принял их всех в свое сердце?
Не нужно только думать, что руины, кажущиеся нам, сегодня, из второй половины ХХ века, следами чуть ли не атомной бомбардировки,- это образ всенародного горя войны. Никакое современное Чюрленису событие не могло быть прототипом разрушений такого масштаба. Художник просто изобразил зрительный эквивалент развалин души человека, существа общественного по сути и страдающего от ущемления этой сути.
Не надо в данном случае вообще никакого конкретного толкования того, что именно символизируют острые черно-зеленые силуэты. Чюрленис, как видим по истории создания диптиха, уходил от их узнаваемости, сделал неопределенными и непонятными эти странные шипы.
Но если верна довольно отвлеченная ассоциация, что шип это боль, если верно, что слева в диптихе - боли отдельные, а справа
приближенная и совмещенная, то ясно, что художника интересовало соотношение болей, неважно, о чем они,- соотношение: болей чужих и своей, своей и всеобщей. И тогда не в том ли печаль “Печали”, что коллективное, мол, может-таки прорвать устоявшееся разобщение, может подвигнуть к мечте, но - не к ее свершению.Ну, а как все-таки стать не одиноким?!.
“Лодка”.
Опять немудреный пейзаж. Море. Вдали челн без паруса и весел с человеком на борту. Облака. И все.
Все ли? Облака-то какие странные: тоже лодки, целая семья. Это же огромная, как эти облака, мечта: семья, друзья, соседи... В одной из них вроде бы люди - двое или трое; есть парус, ветер, общий путь.
Но нет пути у человека в море. Ни ветерка, ни течения. Со всех сторон одинаковый серый горизонт. Куда ему плыть, чтобы осуществить свою даже такую простую, казалось бы, мечту?
И она возносится ввысь, не вперед. И ее не достичь, как не достичь реальной лодке облаков.
Смолоду еще покажется, может, что доплывешь до горизонта, но здесь нет даже этого. Здесь уже не мечта или иллюзия, а золотой недосягаемый высокий идеал, саднящей болью контрастирующий с фактической жизнью.
Картина так велика (сравнительно с другими), так монументальна, что не заподозришь, будто она - об исключении. Нет, она пространна, как сам закон: замкнутость не преодолеть никому. И все смирились - тишина во всей природе.
И согбенный человек уперся взглядом в днище: “Зачем витать в заоблачных мечтах! Мой духовный мир отграничен ото всего остального мира, как моя лодка отгораживает меня от безбрежного моря. И для меня за моей лодкой нет в море ничего достойного. Море - чуждая стихия, оно поглотит, растворит меня в своей толще, если я не отгорожусь от него ценой одиночества стеной индивидуализма.
Но разве мои грезы о друге и семье - исключение? Разве не целое море людское воспарило мечтами вверх и сотворило эти облака? Как же случилось, что я - одинок?”
К любопытному ответу приводит рассматривание серии эскизов к диптиху “Прелюд и фуга”
(363-366).Оказывается, “Лодка” с диптихом связана “происхождением”. Если за первый эскиз к диптиху принять наиболее непохожий на “Прелюд и фугу” и наиболее напоминающий “Лодку”, и если дальнейшую очередность эскизов считать по признаку “приближения” к диптиху и “удаления” от “Лодки”, то вот какое получится развитие темы.
Сначала лодка без паруса и весел обретает их. На носу ее усаживается какая-то, может, вещая птица. И лодка здесь уже не затеряна одиноко в морских просторах. Вокруг нее кишит множество парусников. Но... ни один из них ей не пара. Они все, каждый, в десять раз меньше ее. И ее рулевой чувствует себя не просто смертным, а неким королем (даже корона есть на голове).
Но Чюрленис не хочет наделять выдающуюся личность только положительными авторскими эмоциями. В следующем эскизе он заставляет своего странника понуриться, бросить рулевое весло, а оставшаяся крылатой его лодка сама плывет мимо каких-то чахлых одуванчиков на берегу. Но она хоть уже и крылатая - плывет-то еще по воде.
В следующем эскизе наибольшее внимание уже небу. Там в нарочитом соответствии чахлым одуванчикам, что растут на земле, выстроились призрачные антропоморфные облака в виде коленопреклоненных и кланяющихся фигур. Остается только исключительную личность превратить в такой же облачный призрак, что художник и делает в последнем эскизе.
А в самой картине (в “Фуге”) он там, в небе, обнаруживает еще и то, к чему стремятся на земле - пусть даже ценой одиночества - все воинствующие индивидуалисты: к безусловной свободе... и к давящей силе - к этому материальному условию исполнения столь одухотворяющей идеи.

Одинокая в своей неограниченной воле сила, пригибающая свободу, волю, индивидуальность других... Это она попирает земной шар, это ей поклоняются, перед ней, как твари, пресмыкаются индивидуалисты послабее. Не понятно, как в конце концов достичь такого могущества. Сила загадочна. Не потому ли только часть ноги предстает взгляду. Непостигаемая в целом - она вне рамы.
Но эта же тупая сила, не считающаяся с индивидуальностью, высекает протест у самых сильных. Лишь жаль, что сам протест - бессилен: натянут лук, но выстрелить-то нечем. Они одной природы - бунтарь и покоритель. Они стоят (буквально) на одной и той же почве, витают в тех же облаках. Вырвавшись из вулканических недр попранной земли, бунтарь тут же оторвался и от ее силы, устремившись за химерой неземной свободы. Поэтому темнокрылому Отрицанию не победить. Но одинокий и бессильный, он не обратится к идее коллективности. Нет. А удовлетворится тем, что он = сверхчеловек, что он отличается от толпы.
И вот стоит кентавр, даже внешним своим обликом не похожий на обыкновенных людей, в красивой позе, отверженный и выше этих всех. Один...
Но можно ли успокоиться на этом?
Думается, не зря вся эта сцена почти что бестелесна: раз безусловная свобода одного требует безусловной несвободы остальных, значит, это неплодотворная, невозможная идея. И потому ей соответствует бледность, а не полнота звучания красок. Сверхчеловеки не решат ни проблему свободы, ни проблему одиночества.
2.3
Цветы зла
“Мосты” (29), триптих “Рекс” (47-49)
“Как-то один инженер сказал... над раненым, что лежал возле строящегося моста: “Стоил ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?” Ни один из крестьян, для которых предназначалась дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чье-то лицо. И все же мосты строятся... Инженер тогда же добавил: “Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чем другом основана быть не может”. - “И все же... хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь...”
Казалось бы, что общего между этим отрывком из “Ночного полета” де Сент-Экзюпери и “Мостами” Чюрлениса?
Говоря, что у Чюрлениса преобладающий колорит картин бледен, нельзя сказать, что он при этом еще и холоден. Однако даже преобладание теплых оттенков почти всюду у него отдает чем-то недобрым: ослепляющим блеском, иссушающим зноем, истаивающей жизнью.
Не так в картине “Мосты”. Теплые краски здесь, кажется, выражают только благость летнего дня.
Густо поросшие растительностью пологие проходимые горы соединены, тем не менее, мостами. Да не одним! Каждый холм в пределах видимости спаян с другими гигантскими каменными кладками. Растут тополя вдоль обочин - такие мосты широкие и массивные. И хотя мосты параллельны и близки друг другу, они полны народа.
Но вот странность: почему люди идут по ним в одном направлении и все - поодиночке?
Мосты - связь... И их избыточность означает, что построившие их предки завещали совершенно исключительное отношение к ценности взаимного общения. Но взаимности не получилось. Мосты стали служить бесконечному исходу в известном направлении и с известной целью, никогда, впрочем, не достигаемой. Не потому ли так тонет все в туманной дымке?
В эскизе к этой картине есть более наглядные свидетельства того неясного томления, что зародилось у художника еще при замысле картины и которое охватывает вас при рассматривании ее самой. Там, в наброске, каждому путнику “на роду написано” (а буквально - в небе): стремиться каждому к своей звезде. А из-за гор, там, горестно подпершись, замкнувшись в себе, взирает на бесконечное шествие... Некто.
Но в картине Чюрленис не захотел делать столь явной идею бесплодности объединяющих мостов. Экзюпери - наоборот: он не стесняется поставить своего инженера на крайнюю точку зрения. Но разве сам писатель верит, что только преследуя индивидуальную пользу, люди, каждый из людей, арифметически дадут пользу общественную? - Нет.
Труд в принципе “сверхсубъектен”. Мост действительно удовлетворяет индивидуальную потребность. Но он будет удовлетворять и внуков тех крестьян. Его значение - “сверхвременное”. И иного намерения у трудящегося не может быть. Он реализует идею. Он работает для близкого и далекого будущего. Это как раз и вывело его когда-то из мира животных; этим и сегодня отличается он от животного. Так, деятельность Робинзона Крузо на необитаемом острове лишь с натяжкой можно назвать трудом. Трудящийся в принципе живет не только для себя, “поступая так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь”.
И Сент-Экзюпери и Чюрленис в большей или меньшей степени осознавали нечто подобное. Вот один устами своего главного героя тут же и переспорил инженера, а другой окутал свои мосты теплыми оттенками зеленых и коричневых тонов. Только Экзюпери был уверен в неправоте инженера. Поэтому он дал тому высказаться до конца и бесповоротно - тем убедительнее по сюжету оказалась победа коллективистского пафоса его “романа солидарности”. Чюрленис же не доверял объединяющей силе труда (он вообще ничему не доверял до конца) и поэтому только в красках - без поддержки сюжетом - дал почувствовать силу этой идеи. Такое недоверие делало его беспощадным - в первую очередь к себе,- но зато оно обогащало его диалектикой: он во всем замечал возможность противоположного.
И Действительно, Экзюпери из социальной связи людей выводит добро и любовь, но ведь из этой же социальной связи вырастает зло и вражда. Так разве не замечательно, что Чюрленис ввел художественный противовес теплым тонам и рассосал все контуры в тумане?
Но в тумане его идейной неуверенности скрылся резкий индивидуализм его путников из эскиза, и уж совсем нигде никогда не проступали в бледности и размытости его картин сами питающие индивидуализм частнособственнические отношения. Поэтому при всей своей взыскательной симпатии к объединяющему людей труду Чюрленис в близких труду темах находил едва ли не максимум разобщенности.
Есть у него такой эскиз
(337): великое оледенение Земли.Глубокие отвесные трещины делают планету непроходимой. Но люди нарастили-таки мосты через ледяные пропасти: ледовые мосты. И что же? Это не более чем поверхностные связи. Взойдет солнце, изменится климат - и перекроешь ли еще более чудовищные разломы самой земли, уже не скрытые подо льдами?
Некоторыми значениями своих образов триптих “Рекс” может довести эту тему до апогея.
Парусная лодка у причала. По-видимому, она пуста, хотя корма ее за рамой. И, кажется, ей предстоит отчалить. Перед нею свободное пространство.
Картина вторая: причал оказывается основанием диковинного сооружения, возможно, храма, под потолком которого - символ некой веры.
Огромные иероглифы святятся прямо в воздухе, в миазмах какого-то зловещего цвета, а открывающаяся в проемах храма перспектива - ужасна: ночная пустыня, до горизонта гладкая и безжизненная.
Одинокий лодочник, покидая храм, спускаясь к паруснику по ступеням, обернулся назад и вскинув руки к небу, к кабалистическому знаку, проклинает его, зловещего.
Ему еще не видно с того места, где он сейчас стоит, что потолок храма - это подножие, в буквальном смысле, подножие Кому-то, в тысячу раз большему, чем он сам.
Какая тяжесть давит на потолок храма! Кажется, витые колонны это винты чудовищного пресса, сжимающего весь кругозор человечка. Змеящиеся испарения душной атмосферы - как бы под огромным давлением. Как же будет потрясен несчастный искатель лучшего, когда он увидит, что даже в другом, вольном и просторном мире, царит скованность холодного камня и тяжелая безбрежность пустоты. Какой вопль издаст этот одинокий в той пустыне?!
У Болеслава Пруса есть мысль, что египетские пирамиды строились не только как царские усыпальницы, вечно хранящие покой погребенных в них правителей, но строились они и как символ того открытия, которое было сделано человечеством в Древнем Египте шесть тысячелетий тому назад. Открытие это - организация. Нижние ряды камней пирамиды символизируют крестьян, средние - управляющих, верхние - жрецов и, наконец, вершина - фараон.
Таким образом, пирамида оказывается памятником и фараону, и народу. (Народ неизменно возводит памятник самому себе, создавая произведения огромных масштабов.)
И в наше время не забыта подобная традиция. Мы даже закладываем под монументы памятные капсулы со сведениями о нас для далеких потомков.
Чудовищны, а порой и немыслимы усилия древних, казалось бы, жизнь целых народов во многих поколениях посвятивших фундаментальному увековечиванию в мире своей идеи. Не хлебом единым жив человек... И мы со священным трепетом ловим догадки о тех возвышенных целях, которые побудили майя и ацтеков, перуанских инков и островитян с Пасхи высекать колоссов из скал, ставить неисчислимое количество гигантских идолов, строить каменные гладкие, как аэродром, плато или неподвластные времени пирамиды.
Нечто подобное чувствуешь при взгляде на третью часть “Рекса”.
Посреди необъятного, пустого, безжизненного океана стоит сверхъестественной величины статуя. Сравнив все части триптиха, где каждая предыдущая изображает такую малую часть последующей, можно, пожалуй, содрогнуться. Какой величины должна быть статуя, если у ее основания плавает такой крошечный челн? Что за мощный и фанатичный народ (а может, все человечество?) в силах совершить такое? Почтительный ужас охватывает даже при мысли о такой способности. Какое же качество свое увековечил народ в этом колоссальном памятнике самому себе, какое откровение передал потомкам?
Похоже, что здесь монументально воплощена мысль того инженера-мостостроителя: общественная польза равна арифметической сумме индивидуальных польз.
Здесь не мост - результат труда, уже по замыслу призванный удовлетворять потребность других. Здесь произведение искусства, скульптура, результат художественного творчества, психологическая основа которого - реализовывать интимные установки творца.
Если выразить сокровенное в себе - радость, если это сокровенное состоит в понимании общественной пользы как содержащей что-то лично для тебя, то очень легко представить, как от души работали строители колосса и труднее, но все же можно понять, как вообще они осилили такую работу.
Надо, впрочем, заметить, что во второй части триптиха стопы гиганта имеют нескульптурный телесный цвет. Но, с другой стороны, “история” создания триптиха свидетельствует о последовательном обездвиживании Рекса художником. ( Последовательность эту можно опять составить уже знакомым приемом расположения эскизов по принципу все большего их приближения к картине.)
Поначалу
(354) Рекс был не статуя, а некое высшее дееспособное существо, удобно восседающее над земным шаром с мечом в руке. Потом властелин космоса, распростертого в вышине, над церковными крестами и солнцами, сменил меч на крест, удобное сидение - на жесткий прямоугольный трон, а вольную позу - на строгую и прямую, будто он аршин проглотил.Далее
(353) художник усадил его еще более неудобно, на довольно высокий и тесный пьедестал в лесу (?!), и заставил склониться, пригорюнившись, несмотря на ублажающую его какую-то жертву, тлеющую в чаше у его ног.В следующем эскизе
(352) постамент вдруг резко расширен: так и кажется, что он так же ровно простирается влево и вправо за рамками формата, как и в его пределах. Но тут же художник окончательно лишил Рекса подвижности (пока, правда, только изобразительными средствами).Во всех предыдущих пробах фигуры до предела смещены к краям эскизов. И хотя они сидят неподвижно, но чувствуется, что они свободны: вот встанет и пойдет по небесной тверди. Перед каждой фигурой свободное пространство. А здесь, в четвертом эскизе, Рекс установлен строго по центру листа. Строго под ним полукруглая арка широкого постамента, смыкающаяся со своим отражением в замкнутый круг. В центре, строго за Рексом, восходит (или заходит) солнце, повторяя своим контуром полукруглую арку. Вокруг него, не давая ему пошевелиться, столпились коленопреклоненные молельщики, а сам он стоит по стойке смирно, словно ему кто-то скомандовал. И никакой собственной воли или настроения уже не увидишь на его лице, потому что и лица-то он уже лишен: оно за пределами формата. Слышит ли, видит ли он поклоняющихся ему - уже не ясно. Это уже больше идол, чем бог, больше статуя, чем владыка.
И, наконец, самый близкий к триптиху вариант
(351): к достигнутой изобразительной неподвижности добавляется смысловая - тесный постамент среди чуждой стихии. Правда, появилась голова, но без лица. А срезанная голова предыдущего эскиза подсказала форму триптиха: открывать постепенно тело бога. И неконтактность с молящим (или уже проклинающим?) лодочником достигается теперь несоотнесенностью размеров бога и человека.Действительно, когда бог был космичен, сверхчувственно огромен (как в первых эскизах), он был как бы вездесущ и... близок. Здесь же, в последнем эскизе и в картине, уменьшенный до чувственно воспринимаемых размеров, он (парадокс!) отдалился от человека.
И вот теперь, обогатившись впечатлением невольной неподвижности Рекса, если вспомнить телесный цвет его ступней, то представив потенциально активное существо навеки обреченным на неподвижность и одиночество, можно ужаснуться не меньше, чем вообразив его километровым монументом.
Итак, бог - раб собственного закона. Жестокости и фанатизма? - Но меч и крест не попали в картину. Да и как он - всесильный - мог бы пострадать от таких законов? Впрочем, мог бы: через сострадание у жертвенника (второй эскиз). Но Чюрленис найдя столь любезный его сердцу диссонанс: бог - страдатель,- не успокаивается, пока не нащупывает не только смысловое, но и чисто пластическое внутреннее противоречие. В скорбящем над жертвой - есть смысловое, но нет пластического. В последнем варианте - есть оба. Бог бессилен. Его закон, установленный для мира, оказался таким, что он сам подпал под его действие. Он не равен людям и остался один. Он не может (таково уж впечатление от изображения) сойти в море.
Ну, а человеку незачем уплывать в безбрежность: всюду то же самое - пустыня. Различие тут между ним и богом лишь в том, что первый может попытаться двинуться на поиски живой души, может еще заблуждаться, а богу это не дано - и он устойчив, как монумент.
И вот в скульптурном молчании, в этом каменно-безнадежном холоде и безмерной тяжести, в пьедестально тесной скованности и монументальном отчуждении Рекс стал действительно богом некоммуникабельности. Это - бог одиночества (или по своему образу и подобию сотворивший людей, или ими изображенный по их образу и подобию - безразлично). Важно - одиночество. Абсолютное одиночество.
О нем кричит перспектива и точка зрения, размер и соотношение масштабов. Абсолют даже в названии: это и вечный, надмирный латинский язык, и смысл самого слова “Rex” - абсолютный высший ранг власти. Одиночество изначальное и вечное, непреодолимое не только между чужими, но даже между самыми близкими друг другу людьми - вот откровение, завещанное строителями Рекса. Завещанное для того, чтобы мы были мудры и мужественны.
В чем мужество: найти в себе силы отнестись философски спокойно к великой истине абсолютного одиночества? В чем мудрость: в бездействии перед лицом непобедимой разобщенности? Или мужество в том, чтобы покинуть ночь заблуждений ради дня прозрения, каким бы страшным ни оказался этот день?
Так или иначе, выведя в триптихе абсолютное одиночество, Чюрленис оказался как бы пророком. Современные большие города разрушают психологическую близость, дружеские связи, ослабляют большие семьи. Во все возрастающей погоне за вещами, комфортом и успехом человек неминуемо становится в конце концов бездуховным и не способным к интимному общению. Это цветы зла. Но корень его - в труде, в том характере ежедневной работы, который ведет к анонимности существования, к невозможности выразить себя во всей полноте в условиях, требующих лишь повторяться и подчиняться.
Это трагедия Чюрлениса, что своим произведением на тему, подразумевающую воодушевление и единство народа в построении огромного Рекса, он выразил апогей одиночества. Но он и не мог сделать иначе. Капиталистическое обесчеловечивание охватывало уже почти все формы человеческой деятельности, даже творческие. Новаторское искусство погрязло в конкуренции. Движение в области искусства на самом деле все больше становилось движением на бирже картин. Произведения живописи и скульптуры, требующие от зрителей и покупателей, в идеале, неповторимо личного контакта, на практике стали играть роль чуть ли не резервной валюты. Таким бездуховным становилось время, и Чюрленис не мог его не выразить.
Не прорываясь к идеям грядущего коммунистического труда художники лишь в исключительном случае могли, не сфальшивив, оставаться оптимистами в своем творчестве. Экзюпери - один из них. Поэтому им, как контрастным реактивом, можно проявить и разделить светлые и темные пятна чюрленисовской темы одиночества. Причем интересно, что сама эта возможность уходит корнями опять же в труд.
нашел для себя такую клеточку в огромном трудовом организме общества, которою в его время еще не завладел капитал. В авиации, какой ее изображает Экзюпери, условия выгоды еще не сложились: слишком велик риск, слишком часты аварии и связанные с ними потери, слишком велика зависимость от нравственных качеств работников, от верного выбора призвания, от внутренней сплоченности летающего и обслуживающего персонала. Авиация была одним из последних могикан некапиталистических трудовых отношений. И Чюрленис не нашел таковых в своей жизни.А Экзюпери... Опираясь на свой маленький социальный мирок, Экзюпери дает социальный полюс общности и тем самым сразу же обозначает и противоположный полюс - абсолютное одиночество - и тех, кто пророчит этому одиночеству будущее и предлагает смело, в духе Ницше, идти ему навстречу.
И вот тут стоит задуматься, от чьего имени дает Чюрленис в “Рексе” пессимистический, если можно так выразиться, идеал абсолютного одиночества: от своего имени или же от имени подразумеваемых предков, создателей памятника.
Вжившись в образы триптиха не скажешь, что океан и небо созданы строителями. Уж краски этого переменчивого окружения монумента не ими выбраны. Уж здесь-то чюрленисовский колорит, это серое небо, этот мертвенно-желтый цвет пустыни-моря, говорят от имени художника и говорят во весь голос: нет. Нет - одиночеству.
Чюрленис не противостоит, как полюс - полюсу, Экзюпери. Имея мужество представить себе антиидеал во всем его ужасе, можно так же отвергать бесчеловечное целое, утопая в нем, как и стоя на островке товарищества среди ревущего моря индивидуализма.
2.4
Горькие плоды
“Лица” (46), “Дружба” (3), “Жертвенник” (211)
Что бывает за вершиной? - Спуск.
Так и с темой одиночества. Достигнув апогея, примерившись к привлекательным человеческим ценностям: силе, смелости, мужеству, героизму - пора ей скатываться в маразм. Правда, логика развития темы не подтверждается хронологией создания произведений, но, с другой стороны, не ждать же рассудочной последовательности ученого или дельца - от художника, пусть даже от такого думающего художника, как Чюрленис.
Живопись не литература, и дать такое же многостороннее и сюжетно увязанное освещение темы, как в романе, картина не может. Но большая группа картин, да еще тематически подобранных,
может выстроиться вдоль какой-нибудь фабулы, особенно, если это картины Чюрлениса, на редкость содержательные, разнообразные идейно и в то же время объединенные пафосом неутомимого искания истины. Еще Бенуа заметил, что Чюрленис производит “какое-то “литературное” впечатление. Нужно начать ЧИТАТЬ его, перелистывать одну страницу за другой, помнить все, но не видеть все зараз, и тогда лишь получится от его искусства то, что оно должно, что оно призвано дать...”Трудно разглядеть что-либо в картине “Лица”.
Женский профиль склонился лбом к чему-то темному. По-видимому, это потупленная мужская голова. Лица очень темны, но не от окружающей тьмы. Глубокая темнота на портретах бывает в фоне, а здесь - наоборот. Это тьма в квадрате: и души, и тела. Материальный интерес, жизнь тела, красота - не ст
оят высвечивания, хватает силуэта. Мирская жизнь для них не существует - они замкнулись друг на друга, как линия их контуров. Их двое - и не больше. Объединяет тьма... интим...Но и он не согреет их души - ни доли теплых красок нет во тьме и в лицах. А любовь? - Но в любви мало одной любви. И потому крайности переходят друг в друга. Одиночество вдвоем... Задумались. Каждый смотрит в другую сторону, каждый погружен в свои мысли. Не эта ли прямо-таки буквальная погруженность скрыла их головы ото лба и выше? Мысли - и своя у каждого, и одинаковые у обоих: жизнь духовная - вот спасение одиноких, для которых ни мир, ни близкие, ни собственное я - не интерес. Но чем тогда заполнить пустую душу?
Это не исповедь. Вообще, толковать Чюрлениса чисто биографически было бы довольно мелко. Его судьба сложилась не так, чтоб у него вообще не было близких, и чтоб отчаянное одиночество ожесточило его до безразличия ко всему. Жизнь позаботилась дать ему большую и дружную родительскую семью, чистую и возвышенную любовь к женщине, преданного товарища-коллегу, хороших друзей. И если та же жизнь постоянно отнимала даваемое и обрекала художника на частые, долгие и очень тяжело им переносимые разлуки, то это лишь повод, но не причина, чтобы побудить его так всесторонне разрабатывать тему одиночества.
Отчуждение людей друг от друга волновало его как общественное, а не личное явление. И так как он не щадил себя и ради художественного поиска выхода проводил через свое сердце мучительные людские метания, то и малейшие огрехи добра не избегали его беспощадного анализа. И в них он замечал или - по закону противоречия - надеялся обнаружить симптом общей нравственной болезни.
Из его письма:
Итак, печать, то есть что-то внешнее, расшевелило людей. И это - о меценатке, с энтузиазмом ему благодетельствующей, и которой он посвятил “Дружбу”.
А что за свет в руках женщины из самой “Дружбы” и почему она так призрачно темна? Красавица, с чертами Нефертити, этого вечного, воплощенного в камне образа женской нежности и обаяния,- неужели она сама по себе не может осветить и согреть своей дружбой? Но нет... Нужно нечто бестелесное и отделенное от человека, чтобы хоть чуть осветились и ожили ее черты. Путь к счастью дружбы, путь из тьмы одиночества - вне человека. Где же он?
Так иной атеист в стремлении спастись от одиночества и пустоты жизни доходит до богостроительства:
“Виноваты ли мы, что каждое “я” теперь сделалось особенным, одиноким, оторванным от другого “я”, и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение - отражение мгновенной полноты нашего сердца. Но другому, у которого свое заветное “свое” - другое, непонятна и чужая молитва. Сознание одиночества еще более отрывает людей друг от друга. Мы стыдимся своих молитв и, зная, что все равно не сольемся в них ни с кем,- говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя... Явись теперь в наше трудное, острое время стихотворец, по существу подобный нам, но гениальный,- и он очутился бы один на своей узкой вершине; только зубец его скалы был бы выше, - ближе к небу, - и еще менее внятным казалось бы его молитвенное пение. Пока мы не найдем общего бога или хоть не поймем, что стремимся все к нему, единственному, - до тех пор наши молитвы, - наши стихи, - живые для каждого из нас, - будут не понятны ни для кого”.
У Чюрлениса, казалось бы, есть живописный аналог этого стона.
С огромной высоты взираем мы на землю, когда перенесемся воображением в ту точку зрения, что выбрал Чюрленис для “Жертвенника”. Опять, как в “Рексе”, строение немыслимых размеров, опять пустое море и безлюдье. И тишина. Но это ожидающая тишина. И взгляд вниз - не отчужденный из-за высоты, а ищущий, внимательный. Видно много подробностей: изгибы рек и острова в их устьях, крошечные кораблики и дымки над ними, песчаные плесы и мерцанье волн. Эта высокая точка - для того, чтобы больше видеть. Да и сам жертвенник - как маяк, и дым над ним - тоже: чтобы видели его издали. Это зов.
Полнеба уж закрыл призывный дым из медленно курящегося жара. Но только три-четыре корабля пришли. Да ведь и это, может быть, случайность. А дым такой, чтобы созвать полмира, а жертвенник своей величиной способен привлечь паломников со всего света. Причем не век, не два - тысячелетия...
Но пусты и безлюдны море и земля. Да и кому поклоняться паломникам? Кому принесена жертва? Кто тот бог, который по желанию создателей жертвенника,- этих измученных одиночеством богостроителей, - способен объединить далеких друг от друга людей?
А они далеки даже буквально. Так много видно с высоты огромного строения, как на карте крупного масштаба. Но не видать никаких следов человеческой деятельности: ни дорог, ни городов, ни сел. Это символ духовного одиночества крайних индивидуалистов. Их бог - они сами. Он их не объединит. Они не способны на жертву, и не потому ли в картине не видно, кого же, собственно, жгут, как и не видно, во имя кого.
Бледен колорит картины. Но он бледен не только из-за марева, окутывающего землю и море и так заметного при взгляде с высоты. Он бледен даже несмотря на, казалось бы, всепроникающий красно-фиолетовый цвет этого небывалого маяка для заблудившихся в море жизни. Он бледен от неуверенности. Художник скомпоновал изображение так, что зритель словно парит надо всем. И над жертвенником. А мягкий колорит, получается, отделяет нас ото всего этого богостроительства легким флером.
Отделяет...
Нет, не чувствуется здесь полного слияния с такой вот, с новой надеждой единения.
2.5
Лотос растет из грязи незапятнанным
“Соната моря” (197-199), “Жемайтийское кладбище” (173)
У, как свистит ветер, как швыряет волны на балтийский берег. Кажется, даже дюны обратил он в зыбкое песчаное море, кажется, все устойчивое, всю землю, до горизонта, готов он сдвинуть с места.
Всеобщее отрицание неподвижности...
Не революционный ли буревестник скользит вдоль фронта борьбы воды с землею? Но почему он так бестелесен, как немощная тень?
Конечно: эта картина написана Чюрленисом в 1908 году, после поражения революции в России... Но не на революцию откликнулся художник в первой части “Сонаты моря”. Ведь по сути-то изображены не море и не земля, а ветер - нечто бестелесное, невидимое. И даже динамизм первой части, собственно, противоречив - отдает неподвижностью: не стал бы художник так старательно вырисовывать сотни пузырьков пены, если бы не хотел как-то подчеркнуть внутреннюю статичность немощи.
Не революция здесь, а всеотрицающий бунт. Это небывало острый и резкий протест против всего мира при одновременном ощущении бессилия его изменить. Народ не невротик, впадающий в припадок от отчаяния, что невозможно искоренить страдание,- он не поднимается на революцию в таком настроении. В народном движении всегда чувствуется сила. Соответственно, революция всегда борется за что-то и с кем-то, а не против всего. И наоборот, только фатализм, ощущение, что нет никаких шансов в прошлом, нет никакой надежды на будущее и никакого прибежища в настоящем - только такой идейно-моральный кризис может породить неорганизованные порывы бунта и всеобщее отрицание.
Может ли художник, так понимая дело, дать полноту красочного звучания теме анархии? И наоборот: оценивал ли он ее - анархию, а не революцию - иначе, если живописное ее воплощение сделал таким бледным?
А мятежный фатализм изменяется и развивается под непрекращающимся гнетом. И логическим его продолжением должно стать такое отрицание, когда сомневаются в целесообразности уже какого бы то ни было активного действия, в том числе и неорганизованного: существующий порядок, мол, не заслуживает даже мысли о восстании против него. Это как у Лермонтова, в ту глухую ночь николаевской реакции после восстания декабристов:
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я хочу свободы и покоя,
Я хочу забыться и уснуть.
Но не тем, не хладным сном могилы,
Я хочу навеки так уснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь...
И вот “Анданте” погружает нас в иной, в подводный мир, который не смерть, не небытие, а какая-то потаенная жизнь, невидимая на поверхности нашей недостойной действительности. Теплым приветом святят там, в вечерне-зеленоватой глубине, окна домов. Тихо вздымается грудь парусов на затонувших кораблях. Впрочем, по их аккуратному виду нельзя судить, что они утонули. Уснули. Ласковая рука тихо опускает на дно очередного, отказавшегося что-либо ждать от жизни. А то, что от него осталось на поверхности, высвечивает лучами какой-то острый темный шип, какой-то наконечник стрелы... мировую боль (таких шипов-болей много разбросано по другим картинам и эскизам). И то, что он сделал, нырнув вниз,- не апатия, а, пожалуй, вершина экстремизма.
Весь этот подводный мир как бы мгновенно, как Атлантида, бесследно исчезнувший с лица земли, оставляет о себе на ней (над ней) лишь какое-то слабое воспоминание, еле различимое облачко-парус, а вообще-то, ничего - нивелирующую гладь моря. В темной пучине забвения тонет особенное и отличное, тонет память и творчество в расчете на потомков, тонет слава, посмертная слава, бессмертие... Что:
...может, высшая победа -
Пройти и не оставить следа...-
как написала однажды Марина Цветаева?
Но тут все существо художника неожиданно вскипает великим возмущением, страшным фортиссимо финала “Сонаты моря”.
Настало время, и изменчивые волны судьбы обернулись грозным концом небытия. Чудовищной величины волна, как смертоносная лапа неведомого чудовища, уже вознеслась над утлыми челнами. Еще мгновение - и их поглотит пучина. Бывает - переживают бурю корабли... Но от такой волны не спасешься, да и не одна она.
А вот деталь: случайная игра природы сложила из пены буквы МК
C (это инициалы художника). Может, они доплывут до берега и расскажут людям о Микалоюсе Константинасе Чюрленисе? - Вряд ли... Так неужели целая человеческая жизнь, неповторимая в своей индивидуальности, растворится, как миг в вечности, исчезнет, как это мимолетное причудливое сочетание пузырьков пены. Неужели бесследно!? Бесследно, как эта пена! Не в этом ли наибольший ужас человеческой жизни, непереносимая трагедия творческой натуры?Но если страшиться именно этого, то, всей душой стремясь к обратному, можно все-таки
суметь оставить след свой на земле. И тогда жизнь имеет смысл! - Чтоб дело твое продолжали другие; чтоб остаться в памяти людей; чтобы отблеск тебя продолжался в детях, в бесконечном ряде следующих поколений; чтоб успокоиться и раствориться в родине, в ее вечной природе - не бессмертие ли это!? И не способны ли мысли об этом всем умиротворить перед неизбежной смертью? Не в этом ли полнота свободы?И, быть может, что-то вроде положительного живописного ответа на эти вопросы можно увидеть в “Жемайтийском кладбище” Чюрлениса.
Звезды - вечность, одуванчик - миг... А между ними - человеческая жизнь. Финал ее спокоен. Торжественна медлительность хорала... Не зря друг другу симметричны сосны - это красота обнявшей нас природы, с которой после смерти сливаешься вполне. Не зря народное искусство венчает каждую могилу - похоронив в себе, знакомая земля, сама родина, любя тебя охватит. Не зря с картины так сияют звезды. Проверьте впечатление: ото всех произведений Чюрлениса, где есть обычное земное звездное небо, веет какой-то высокой грустью, задумчивым умиротворением, успокоенностью. Не так ли и здесь?
Есть один рисунок
(317), по-видимому, эскиз к “Жемайтийскому кладбищу”, написанный в том же году, очень похожий на картину и подтверждающий собою просветленность чувства, озарившего художника.Почти такое же кладбище, но на берегу озера или очень тихой реки. Вода, как зеркало. Здесь не ночь: есть и месяц, и звезды, и солнце. Очень светло. Бел
у. И кладбище до мельчайшей детали отражается в воде.Тишина и спокойствие.
А кладбищенские деревья, впитав в себя прах тех, кто был когда-то творцом искусных придорожных распятий, эти деревья своими кронами повторяют чудо-произведения народного творчества...
Так вблизи темы смерти, где в начале его художественной биографии обнаружились зерна одиночества, Чюрленису удалось подойти к органическому изживанию этого чувства.
Другие интернет-части книги
1
3
4
5
6
7
8
На главную страницу сайта
Откликнуться
(art-otkrytie@yandex.ru)
Отклики в интернете