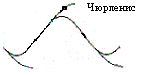
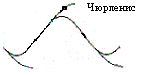
С. Воложин
Чюрленис. Художественный смысл произведений живописи и литературы
Шестая интернет-часть книги
Разрешение Каунасского музея Чюрлёниса на публикацию в интернете репродукций произведений Чюрлёниса:
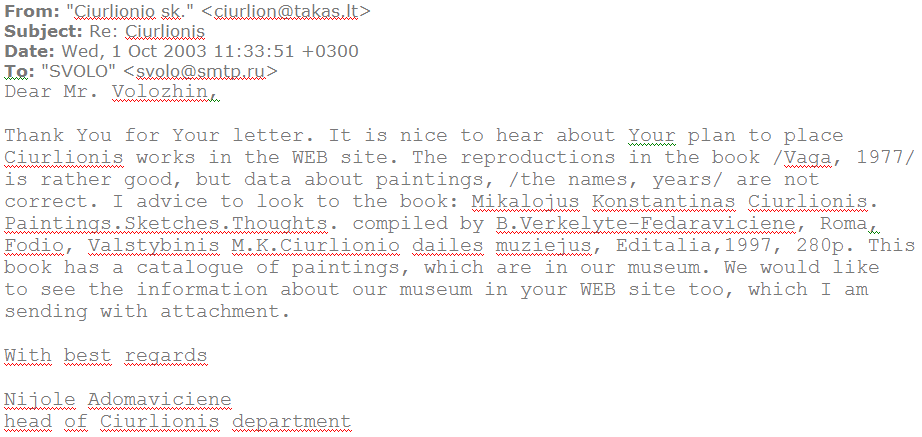
7
Предопределение
Только маленькие-великие люди таращатся выполнить свою случайную волю: воля великих людей всегда совпадает с волею Божиею, которою и сильны они, которою и удаются им дела их.
В. Г. Белинский
7.1
По отзывам Чюрлениса о декоративно-
прикладном и станковом искусстве
Однажды, в семье, делясь впечатлениями о выставке Литовского художественного общества, Чюрленис описал потрясение, испытанное каким-то зрителем перед его картинами, и закончил рассказ такой фразой: “Я вышел с выставки на улицу и ходил удивленный. Почему-то стало тревожно. Неужели мои картины доставляют такую радость?”
Ни притворную скромность нельзя заподозрить в удивлении художника, ни преувеличение - в пересказе его слов сестрою: слишком непопулярен внутренний душевный трепет перед изображением в раме.
Можно заметить слезы на глазах зрителя в кино или театре, но увидеть что-то подобное в картинной галерее!..
Картины смотрят едва ли не все, но не все видят живопись-искусство. И когда Чюрленис сетовал на тех, кто “не напрягает душу” перед его картинами,- он вполне мог жаловаться от имени всех художников земли: такова пока суть дела и нормальный ход вещей. Душевное потрясение в этом храме искусства - музее - удивительно.
Но удивляться можно еще и другому: что Чюрленис сам пришел в изумление от будто бы случайно и неожиданно открывшейся ему колдовской власти его творений. Неужели он прав? Неужели все эти именуемые зрителями “сочувствия”, а критиками - “противочувствия” - все же досужий вымысел (по крайней мере, по отношению к Чюрленису)? И что: весь пафос и трагизм его литературных опытов - все-таки к живописи не относится?
Или просто он считал свои картины декоративными изделиями?
Теперь действительно репродукциями с них украшают квартиры... Гражданин не боится, что репродукция в гостиной, как магнитом, притянет внимание гостя, и тот на весь вечер будет потерян для “спокойного разговора о текущих событиях”. А повесив ее в своей спальне, гражданин за свой сон - тревожится еще меньше. И репродукция - бледная, благородная, не выпячивающая себя, как хорошо подобранный орнамент на обоях,- висит и демонстрирует отличный вкус хозяина квартиры...
Для этого ли творил художник? Неужели в мечтах о Народном доме в Вильнюсе он свои произведения воображал там представителями декоративно-прикладного искусства?
Предположим. Как бы все предыдущие доказательства ни противились этому - все-таки предположим. Ведь кого они еще не убедили, тому встречные резоны - на вес золота. Как же не озолотить взыскательного читателя?
Итак: отношение Чюрлениса к декоративно-прикладному искусству...
Первобытные люди, к слову будь сказано, обмазывали плетеную из веток корзину тонким слоем глины - получался сосуд для воды. Поверхность неизбежно выходила бугристой, и именно с нею сознание связывало сохранность и самой воды вдали от источника, и ее священных живительных свойств. И когда гончарным изделиям люди научились придавать прочность не каркасом, а обжигом, когда поверхность сосуда могла оставаться гладкой, - они нарочно стали ее процарапывать наподобие плетенки, украшать узором: хоть не всюду, хоть пояском - лишь бы запечатлеть свое благодарное чувство к воде и к сосуду для нее.
Так с точки зрения содержательности любых искусств толкуется произведение самого малосодержательного из них - орнамента. А как отвечает Чюрленис на им самим поставленные вопросы?
Это словечко “красиво” встречается у Чюрлениса не только в отношении бедного содержанием орнамента. Он его применяет сплошь и рядом, а вот слово “содержание” - практически никогда.
А вот он благодарит одну журналистку, вместо отчета о выставке Литовского художественного общества написавшую белые стихи об одной его картине: “, Хотел поблагодарить за художественное произведение, которое пани мне посвятила... Благодарю ото всей души, ибо произведение и мысли пани красивее моей “Тоски” ”.
Не чувствуется ли в этих словах легкое подтрунивание над “конструкцией мыслей” (выражение журналистки), обнаруженных ею в картине?
Вообще, почему никогда ни в одном из своих писем Чюрленис не обсудил ни одну свою картину?.. Почему он,- сам пробовавший силы в литературе, писавший взволнованные письма о разных разностях,- становился протокольно сухим, когда описывал (и это тоже редкость) свое живописное произведение?
(229); в небе белые облака, сквозь которые пробивается солнце; песчаный берег, как в Паланге, понемногу поворачивает полукругом; на первом плане гигантский дуб; перед ним - языческий жертвенник, в котором курится огонь; белый дым переплетается с ветвями дуба. У алтаря старичок священник; за ним склонившаяся сельская толпа, состоящая в большинстве из пастушков. Вот и все”.Ну и что? - Красивый вид. Вид древней Литвы, который мог как бы воочию увидеть посетитель театра. (Чюрленис описал занавес для постоянной сцены литовского общества “Рута” в Вильнюсе.) Правда, для театрального занавеса здесь что-то многовато изображено. Но ведь и размер большой. К тому же, каждую линию рисунка можно ведь трактовать декоративно: видеть ее сначала как узор, а потом уже - как зримый в действительности предмет. Так что, может, действительно здесь не о чем было Чюрленису больше говорить, чем он сказал? И, может, всегда он не зря умалчивал о содержании своих изделий?
Варшавское художественное училище, где учился Чюрленис, готовило не только художников и скульпторов, но и специалистов прикладного искусства (по керамике, текстилю, декоративной живописи). На кого учился Чюрленис, если преподаватели в училище не имели постоянных групп или курсов, а каждую неделю менялись все друг с другом?
Известны такие студенческие работы Чюрлениса, как эскизы книжных обложек, эскизы к витражам. Покинув училище, он не раз обращался к бесспорно прикладному искусству: расписал театральный занавес, выпустил плакаты художественных выставок, сделал много книжных украшений вроде заставок, виньеток, шрифтов, орнаментов, рисовал проекты театральных афиш и декораций, мечтал о заказах на монументальные росписи. Так не являются ли и картины его не более чем украшениями интерьера?
В путешествии по Западной Европе его внимание в музеях останавливала (дословно): “итальянская майолика, греческие и римские амфоры, персидские кувшины, майоликовые камины XVI века, восточная керамика, стеклянные антики...” и т. д. и т. п. - длиннейший список в письме-отчете, перечисляющем впечатления...
Наконец, на время творческой жизни Чюрлениса (стык XIX и ХХ веков) как раз приходился расцвет так называемой “культуры вещи”, соответствующий переходу Европы - не исключая и Россию - от капитализма к империализму. В ту пору аскетический идеал “экономического человека” постепенно стал сменяться потребительским идеалом.
Это раньше занимающийся ростовщичеством скряга мог думать, что чем меньше он ест, пьет, покупает книг, чем реже ходит в театр, на балы, в кафе, чем меньше думает, любит, теоретизирует, поет, рисует и так далее, тем более он сберегает. В новых условиях, в появившихся царствах монополистических объединений, служащий - средний и мелкий буржуа по сути - мог сделать карьеру, лишь расходами демонстрируя свое соответствие тем должностям (и реальным доходам), получение которых он еще только предвкушает.
“Встречают по одежке...” - гласит старая пословица; подновив ее, можно было б сказать, что продвигают выше тоже по одежке: “...Работа... есть, только надо иметь мину победителя и новый костюм. (Sic!) Смешно! Никогда не думал, что такие вещи нужны человеку, а все-таки нужны! Знаю это уже по опыту”. Чюрленис мог в душе подшучивать над этим, но когда, в связи с женитьбой, он все же решил как-то устроиться в жизни, то пришлось принимать правила игры. Он даже визитные карточки себе заказал на предпоследние гроши...
Расходы начали становиться средством накопления в эту еще только занимавшуюся эпоху массового производства и массового потребления. И искусство почувствовало зарождающуюся перемену.
Так называемый стиль “модерн” в своем протесте против антиэстетического образа жизни мещанина старого образца, своими новыми, нетрадиционными формами и приемами украсил богатые особняки, деловые, промышленные и торговые здания, вокзалы, театры и доходные дома, мебель, книги и предметы быта. В России проводником этих веяний выступали, в первую очередь, объединения художников, к которым (позже) примкнул Чюрленис по приезде в Петербург.
* * *
И все-таки объяснять Чюрлениса декоративными, так сказать, велениями эпохи это принижать его достоинство.
В причинном мире все объясняется причинно. Но есть веление моды - и веление века, а есть еще веление целых столетий - закон развития живописи. И все они, зачастую, противоречат друг другу и как бы борются между собой за душу художника. Чюрленис был настолько далек от всякой конъюнктурщины, что его рука в конце концов подчинялась лишь самым глубоким требованиям жизни и искусства. А путь исторического прогресса живописи давным-давно уже проходит не дорогами декоративно-прикладного искусства. Наверное, потому все, что характеризует Чюрлениса как деятеля в области декоративной живописи,- по меньшей мере - двусмысленно.
“Неизгладимые воспоминания, впечатления на всю жизнь это Нюрнберг, Прага, Ван Дейк, Рембрандт, Беклин, ну, и Веласкес, Рубенс, Тициан, Гольбейн, Рафаэль, Мурильо и т. д.” - таково, по Чюрленису, его итоговое впечатление от искусства Западной Европы. Значит, всего лишь в “и т. д.” вошла итальянская майолика, стеклянные антики и тысячи подобных вещей прикладного искусства...
Описывая свой театральный занавес, он не говорит, например, о симметрии жертвенника солнцу, о ритме и подобии облаков и людей и о тому подобном, что действительно имеет декоративное значение. Он излагает сюжет. А сюжет и композиция - едва ли не главные средства выразительности у Чюрлениса.
Один раз он послал брату схему своей работы “Святилище” и словами прямо на наброске надписал то, что могло быть не узнано из-за небрежности рисунка: “облака”, “ангелы”, “ноги”, “лес”... Что это значит? Что композиция - взаимное расположение предметов - это уже сообщение на особом бессловесном языке. Окажись предметы на этом рисунке хорошо узнаваемыми - и не понадобилось бы ни одного слова, кроме названия, чтобы брат все понял, так как понимает язык композиции.
Точно так же в письмах Чюрлениса другу, композитору Моравскому, разговор о музыкальных произведениях идет в чисто техническом плане, а о том, что собой выражает тот или иной музыкальный отрывок, - ни слова. Зачем? Ведь об этом уже “сказано” вот тут же: изображением в виде нотных и других знаков на прочерченных пяти линиях нотного стана.
А как же может на расстоянии общаться художник с нехудожником о том, что выражено красками в картине? Вот это уж в обычном письме никак невозможно.
А потому Чюрленис, вообще-то, отмалчивался.
Жаль: его, так сказать, необычные письма - лейпцигский “дневник” - написаны до его профессиональных занятий живописью. И все же так и кажется, что стихи в прозе о ночной тишине-чудовище вполне могли б появиться после и по поводу “Спокойствия”.
Известны воспоминания очевидцев, что Чюрленис бывал даже разговорчив по поводу содержания своих картин и даже убеждал других сказать что-нибудь и внимательно слушал, если его партнеры не были людьми самоуверенными, которым все сразу бывает ясно. И не потому ли еще предпочитал не разговаривать Чюрленис о сути своих картин, что слишком часто, может, даже в кругу близких, испытывал он духовное одиночество.
А если какая-то “изгнанность” терзала художника при взгляде на свои будто бы “недостаточно красивые” для его красавицы-невесты картины, то не была ли это... общая для лучших художников тогдашней России (начиная с передвижников) “изгнанность” из красоты, терзающая сомнениями: как сочетать этическое и эстетическое, как оправдать в своем совестливом искусстве бытие прекрасного при великом страдании народа и за народ.
И даже самому` народному искусству, закостеневшему в традиционном формализме, всем этим узорчатым палкам и ложкам, поясам и кувшинам, можно не без ссылки на Чюрлениса приписать содержательность: “Народное искусство... - писал он,- есть первое проявление любви, первое проявление духовности...”
Так что чюрленисовское “красиво” вполне можно понимать как нечто неотрывно связанное с духовной содержательностью, и как ни удивлялся он великой впечатляющей силе своих картин - он в глубине души все же знал, в какой области искусства можно действительности потрясти человека.
Когда говорят шутки-прибаутки, каламбуры, когда рассказывают сказку “про белого бычка”, какие-нибудь присказки, то это просто игра слов, и это похоже на вышивку, на резьбу, это похоже на узор, это - литература развлекательная, литературный орнаментализм, в котором форма съедает содержание. В прямо противоположном случае содержание настолько могуче, что прорывает форму, так что она иногда даже недостаточно используется. (Именно таковы, кстати, лирические стихотворения в прозе.) Но все же именно здесь, в идеологическом уклоне такое искусство как литература, обретает самое себя, свои высшие проявления. Неслучайно поэтому, что при всех превратностях случая шутливые опусы вроде “Реконвалесцентовых записок” - наименее сохранившаяся часть литературного наследия Чюрлениса.
А в музыке? Как горько сетовал Чюрленис на вкусы современной ему литовской интеллигенции. “Музыку - люди, вроде бы, ищут и любят ее, но какую? А вот такую, которая... “доходчива””. И он боролся за исполнение “более серьезных музыкальных произведений”. И поэтому - в том числе поэтому - он ссорился с устроителями литовских музыкальных вечеров в Вильнюсе и Петербурге.
Если его душе сродни были самые глубокие законы искусства, то надо ли удивляться, что его борьба против легковесных развлекательных музыкальных вечеров, за их замену серьезными концертами,- совпадала с историческим путем самоопределения самой музыки как специфического искусства. Действительно, только принявшись отвечать идейным запросам общества, музыка смогла стать искусством самостоятельных форм и собственного языка, а не прикладным (как это было раньше) искусством: “при” церкви, “при” театральных и прочих “играх”, “при” поэзии, “при” танце, “при” дворе, “при” войске. Только в сонатном (симфоническом) аллегро (схема его: толчок - нарушение равновесия - восстановление равновесия), только в этой форме, насквозь сотканной из контрастов, влекущих из одного музыкального противоречия в другое,- развитие композиторской мысли стало чисто музыкальным, перестало подчиняться интонациям словесной речи, “немым интонациям” движений человека, включая “язык” руки, мимику лица, пантомиму тела.
Такой же исторической дорогой освобождения от прикладного искусства прошли скульптура и живопись. И Чюрленис не вспять двигался по этой дороге, как того требовала мода “модерна”, а вперед.
Если принять классификацию, мол, изобразительное искусство (современное, по крайней мере) делится на декоративно-прикладное и идеологическое, то чистым видом второго рода - в живописи - будут станковые картины или, образно говоря, философские поэмы в красках.
Это их собирают в картинные галереи, собирают, чтобы вы могли пойти туда, выбрать две-три, остановиться - и долго-долго восторженно смотреть, думать и переживать.
Декоративное панно, монументальная роспись, театральная декорация, медальонная или книжная миниатюра и т. д. и т. д. - уже не чисты, уже несут долю украшательской нагрузки. Эскизы, наброски, этюды и тому подобное, в еще большей мере не будучи философскими поэмами в красках, все же и украшениями по сути своей не являются, потому что они - подготовительные ступени к картине, то есть это еще не вполне произведения, даже если они и взяты в раму. В этом смысле “некартинами” оказываются многие натюрморты, пейзажи и даже портреты, если они были задуманы и выполнены как решение частных задач, например: передать сочность винограда, прозрачность воды, характерные черты лица модели, теплоту вечера после жаркого дня и тому подобное. У Чюрлениса таковы “Кораблики”
(54) - завороженная неподвижность природы в штиль, “Парусник” (53) - тревожная мгла в волнующемся море, “Башни” (138) - сказочность силуэтов пражских крыш вечером...

У Чюрлениса мало таких произведений.
Кроме того, не картиной, а чем-то вроде документа или раскрашенной фотографии, не поэмой в красках, а наглядным пособием или иллюстрацией, или изящной вещью, пригодной для украшения жилья и учреждений, - оказываются также большие тщательно написанные живописные изделия всех, грубо говоря, бездумных художников. У Чюрлениса таких нет ни одной. А вообще-то в живописи очень много таких работ, много оттого, что трудно преодолеть присущее ей диалектическое противоречие изображения и выражения.
Что это значит? Это значит, что не может быть живописца, не влюбленного в натуру, не платящего дань этой любви - изображением. И чтобы верно служить этой любви, нужен острый глаз и мастерская рука. Но искусство идеологическое, рождающееся из самой глубины души художника и воспринимаемое зрителем не только глазами, но и, так сказать, всей нервной системой (а только для этого оно специфически предназначено и иначе было бы вытеснено из жизни: зрелищем, развлечением, занятием, игрой, ремеслом...) - идеологическое искусство - требует от художника не только таланта глаза и руки, таланта любви к натуре, к природе, к жизни, к человеку в их видимых глазу сторонах, - идеологическое искусство требует от художника еще великого ума и души.
Конечно, произведение в этом случае окажется шедевром. А сотни других работ? Прочувствованные, мастерски выполненные, сознательно скомпонованные, более-менее смело отходящие от действительности или просто художественно организованные, но все это - ради не такой уж глубокой, единой и исчерпывающей идеи, мысли, чувства - они дают поводы построить на пьедестале почета бесчисленное множество нисходящих ступенек и разместить на них все: от шедевра до плохой картины включительно. Чюрленисовские произведения можно десятками разместить на разных ступенях такой вот пирамиды.
Но многим изделиям, взятым в раму, не дано оказаться даже на низшей ступени этой пирамиды художественной и человеческой мудрости. Вообще не многие художники способны на КАРТИНУ. Мало того, на философскую поэму в красках иногда не способны бывают целые направления и школы, представляющие в живописи социальные группы, лишенные идей и идеалов, достойных глубоко содержательного искусства.
Возможно, и вдохновят... Возможно, даже споет он, но уж, во всяком случае, не поэму - куплетик, разве что...
Наконец, природа человека устроена так, что художник не может постоянно работать на высоком пределе. Отсюда - происхождение декоративно-прикладных работ Чюрлениса. Вот очень характерный пример:
Все, что требуется для выражения глубочайшего художественного откровения, успешнее приобретается при решении легких задач. Известно, что даже в эпоху Возрождения, в эпоху исторически высшего взлета живописи, художники не отказывались от проектирования одежды и ювелирных изделий, от украшения фонтанов и оформления маскарадов. Так что даже имя гения не всегда связано с вершинами в стране искусства. И элемент декоративности, выхолащивающий суть живописного произведения, можно отыскать - уверяют специалисты - в работах даже самых выдающихся мастеров прошлого.
Да будет позволительно сказать: по тем или иным причинам повсюду так много “НЕКАРТИН”, что в совокупности с нашим - зачастую хромающим на живопись - эстетическим воспитанием, мы просто недоверчиво удивляемся, если вдруг с подробностями прочтем, мол, такое-то произведение - философская поэма в красках.
На фоне бедности целостными анализами конкретных картин Чюрлениса, на фоне обильных голословно-теоретических да, к тому же, еще и друг другу противоречащих философских рассуждений о целом творчестве его (не меньше) - не удивительно, когда даже иной искусствовед,- а не только простой зритель,- предлагает толковать его произведения не философски, а банально, и многозначительные ассоциации, коль скоро они возникнут у нас, такой критик предлагает ставить в зависимость только от нашего собственного опыта, искусности, привычек и интересов, а не от философской глубины самих картин. Здесь-то абсолютизация неопределенности и невыразимости живописи в словах, да еще со ссылкой на отказы Чюрлениса объяснять свои картины, - как нельзя кстати.
Но любая абсолютизация пагубна.
С одной стороны, верно, что не было бы никаких искусств, кроме словесного, если бы художник (в широком смысле этого слова) мог бы все выразить в словах. А с другой стороны, если “душу” данного произведения искусства нельзя выразить на языке другого искусства - в том числе и критического - это значит, что данное произведение бездушно.
Видно пана по походке. Если человек умеет выражать свои переживания словами, то достаточно прочесть две-три фразы о картине художника (но именно об отдельной картине, а не вообще: о творчестве, методе, принципе, технике, живописном языке), чтобы сразу почувствовать, искренне ли восхищен ценитель. И если все-таки мало, по сей день мало воистину вдохновенных слов о конкретных картинах Чюрлениса, то объяснить это вообще можно лишь одним: нет правил без исключения.
7.2
По поводу оценок живописи Беклина
и французских новаторов
Не правда ли, чувствуется “душа” произведения, и не правда ли, она близка “душе” таких вещей, как “Спокойствие” Чюрлениса?
Это Луначарский - о работе немецкого символиста, живописца второй половины XIX века, Арнольда Беклина. Луначарский никогда не видел ни картин, ни репродукций Чюрлениса и ни словом не упомянул о нем в своих многочисленных статьях об изобразительном искусстве. А так как среди критиков начала ХХ века он был выдающейся личностью, то стоит вдуматься, почему скучая среди сотен и сотен “некартин” Осеннего салона 1904 года в Париже, он вспомнил о картине, по описанию столь похожей на чюрленисовскую? И стоит также разобраться во мнении самого Чюрлениса о том же Беклине.
Мнение это - авторитетное, основанное на свежих непосредственных впечатлениях Чюрлениса от германских и австрийских музеев, мнение уже покидающего художественное училище сложившегося художника, нашедшего первое признание в своей самобытности:
Сейчас, из исторического далека, бывает, удивляются такому восторженному отношению Чюрлениса к целому ряду посредственных художников конца XIX века: Беклину, Штуку, Клингеру. А в свое время они были очень популярными в Европе, особенно в Германии. По свидетельству одного современника, почти не было немецкой семьи, где не висели бы репродукции с картин Беклина. Сецессионисты,- члены упомянутой Чюрленисом организации немецких художников,- противопоставив себя помпезному академическому официальному искусству (Sezession - раскол), своим идеалом в живописи считали Беклина. К “Сецессиону” примыкали и учителя Чюрлениса в Варшавском художественном училище. Но главное: его художественный вкус был уже вполне определенным еще до начала его занятий живописью. Вспомнить хотя бы его вопль-письмо о жизни: как он, еще будучи исключительно музыкантом, выделял Беклина в Лейпцигской галерее. И через четыре года, уже после художественного училища, вкус его не изменился.
По лейпцигскому “дневнику” видно, что если его мнения не совпадали с воззрениями консерваторских преподавателей, то этого было еще совершенно недостаточно, чтобы ученик перешел на эстетические позиции учителей. Можно ли сомневаться, что и в живописи, будь его учителями не символисты, а их противники,- он бы символизм все равно чтил?
Более того, поскольку дело было в Польше, большинство художников (и учителя, и ученики) почти не могли не быть символистами, не могли не равняться на главную силу европейского и мирового символизма - на немецкий символизм, хоть в самой Германии и даже в пределах “Сецессиона” существовали и другие течения. И если мы хотим убедиться, что Чюрленисом-живописцем руководили непосредственнее, чем другими художниками, не случайности, не кратковременные моды и быстро сменяющиеся тяготения, а долгосрочные законы,- то рассматривать его творчество и его вкус нужно в рамках прогресса (или регресса) живописи в таких странах, как Франция, Германия (а не Польша и, тем более, Литва). Рассматривать творчество этого гениального литовца нужно в свете истории развития искусства в великих живописных державах XIX века, подготовивших переход к живописи ХХ века, которая гордится Чюрленисом. Достаточно при этом лишь помнить об исторической судьбе Литвы и Польши, о судьбе, в чем-то похожей на судьбу одновременно и Франции, и Германии.
* * *
Влиятельное положение символизма в немецкой живописи в конце XIX столетия было не случайным.
Средневековье, феодализм и государственная раздробленность долго не оставляли немецкие страны, долго сковывали там главную движущую силу истории нового времени - буржуазию. К концу XVIII века Германия в глазах своей буржуазной интеллигенции представлялась европейским захолустьем по сравнению с Нидерландами, Англией и Францией. Среди главных национальных отрядов мировой буржуазии, к которым принадлежал и немецкий, политическое положение последнего было тогда самым беспомощным, чего нельзя, впрочем, сказать о культуре, так как германская буржуазия, начиная с городов средневековья, всегда была интеллектуально богата. Но политика, кроме тюрьмы и совершенно бесплодной затраты сил, ничего не обещала в этом глухом немецком болоте. Поэтому, когда немецкая буржуазия увлеклась надеждами, связанными с приближением и свершением Великой французской революции, она все свои интеллектуальные силы бросила в философию, эстетику, литературу, музыку и создала в этих областях вершины мировой культуры. А что могла дать для дела, для практики та революционная лихорадка, что, как сквозь сон, пробивалась к немецкому зрителю и читателю через цензурные рогатки? Огневые драмы, бурная лирика, идеальные фигуры, мечты о разбойнике, низвергающем общественный строй - вся эта буря, весь этот натиск были не более чем сотрясением воздуха перед крепостной стеной бесправия, задавившего народ.
Какой же мог быть исход? Примирение с действительностью?
Что ж, и такой идеал это еще не совсем разочарование в идее свободы и равенства. Шиллер и Гете еще были очарованы какой-то мифической демократией: древнегреческой. Их идеал еще как-то все же связан с революцией. (Гетевский Фауст в конце драмы даже создает братскую республику труда.) Но, поставив искусство выше жизни, немецкие так называемые доромантики, Шиллер и Гете, не только проповедовали активность, но и породили какое-то разочарованное очарование недействительным, неосуществимым, которое романтической традицией пронизало почти все европейское искусство XIX века и, в первую очередь, немецкое искусство.
Например, живопись. Стоит посмотреть, скажем, немецкие пейзажи от романтиков Рунге и Фридриха, писавших в начале XIX века, до символистов Беклина и Клингера, работавших в конце его,- и видишь характерный для всех их замысел: одиночество человека, заворожено созерцающего стихии природы. Не правда ли, это уже напоминает Чюрлениса?
Ночь. Кащеевский лес в горах. Причудливо изогнутые корни, ветви, дикие валуны. Темно. Сказочно. Лес на ближней горе выделяется на призрачном фоне ночного неба, залитого лунным светом. А вдали - сияющая ледником вершина.
Таинственно. Лунного диска не видно - исчез в сплошном туманном сиянии воздуха. И все-таки видно далеко-далеко.
Ясная ночь...
Чтобы усилить настроение бездеятельности, созерцательности, художник изображает стоящих людей, изображает со спины, как будто предлагает нам любоваться вместе с ними открывающимся красивым видом. Но человеческие фигурки настолько незначительны, так заброшены среди корней, а природа настолько величественна и фантастически прекрасна, что рождается чувство грусти и одиночества.
Это Фридрих. “Двое, созерцающих луну”. 1820 год. А вот Беклин. 1884 год. “Остров мертвых”.
Казалось бы, что кроме страха всех степеней и оттенков может внушать к себе смерть? Но в этой знаменитой картине - угроза, недобрые знаки, какая-то неуютность бытия чувствуется, в первую очередь, вокруг острова, а не на нем.
Затишье перед бурей... На поверхности моря мертвый штиль, а небо уже до горизонта затянуто зловещей мглой. Порывы ветра там, в вышине, разодрали тучи, и последний свет еще прорывается сверху. Но у самой воды - все тихо. Лишь тонкие всплески лижут прибрежные камни, да лишь макушки огромных кипарисов на острове слегка качнулись под первым дуновением.
Состояние моря и неба настолько противоречивы, что ждешь самого худшего.
Но ведь все-таки: весь этот надвигающийся темный ужас, предчувствие, томление - вне острова мертвых... А сам-то остров - как крепость, готовая противостоять натиску хоть бы и урагана... Значит,
смерть защитит от жизненной бури?!Кельи этой тихой обители усопших так прочны... Здесь, собственно, не стены, а могучие скалы надежно отгораживают ото всех на свете треволнений. И только душам, покидающим бренный мир, раскрывает... гостеприимные объятия остров.
Обрывистые берега размыкают кольцо своих скал и там, в глубине, угадываешь уютную бухту, богатырской кладкой из огромных камней отгороженную от предательски тихого сейчас моря жизни. Время избороздило утесы трещинами, но громады неколебимы. Зато всегда открыты строгие ворота в бухту. Они не увлекают на тот свет, как Мефистофель Фауста, - обманом. Нет. За ними - откровенная пугающая таинственная чернота... Но, во всяком случае, здесь положен предел страданиям: действительно, какие могучие деревья вытянулись под сенью мрачного умиротворения.
Быть может, в смерти успокоится душа?
И вот очередного страждущего тихо доставляет черный перевозчик (мифический Харон) на широкой ладье с богатым ковром на сиденье для смертника.
Торжественный момент: сейчас лодка вплывет в бухту забвения. Лишь лицом вперед надо встречать этот миг на пороге вечного покоя. Гребец развернул лодку кормой к воротам и тихонько перебирает веслами от себя. Тот, кто был человеком, облеченный в белый саван, встал, повернулся лицом к воротам и почтительно склонил голову...
И все...
И остается впечатление, что здесь не совсем естественная смерть. Ведь и остров - не чисто природное творение: вырублены в скалах ниши, окна, колонны, выложена из камней ограда бухты, ворота в нее украшены изваяниями...
Да. Это остров мертвых. Но только тех, кто ушел из жизни по собственной воле. Это - остров самоубийц.
Не правда ли, такие темы еще ближе напоминают Чюрлениса, чем фридриховское красивое одиночество?
Однако, что это значит - культурная реакция? - Чтобы понять ее как следует, нужно осознать суть культурного прогресса, а прогресс состоит в отказе от принципов более раннего искусства. И культурная реакция живописи нового времени оказывается чем-то сродни искусству далекого прошлого.
Были времена - средневековье, древность - когда произведение искусства должно было лишь создавать благоприятные условия, чтобы человек мог прислушаться к самому себе. Церковная фреска, например, играла роль возбудителя религиозных переживаний (кстати, переживаний очень емких, мирообъемлющих). Сказать утрированно - произведение служило как бы узелком на память об очень значительном.
Тогда, во времена канонического искусства, не требовалось почти никакой очевидной (как мы очевидность сейчас понимаем) связи между изображением и выражением. Положим, бородатый мужчина с нимбом святого над головой и с ножом в руке означал для средневековых христиан святого Варфоломея, а опирающийся на медвежьи лапы сфинкс для древних японцев был изваянием божества Кинай. И за этими персонажами стояли всем известные (по Священному Писанию, по устным мифам) огромные нравственные, мистические, религиозные и другие истины, глубоко волновавшие зрителей.
Даже порывая с небом, искусство Возрождения в титаническом устремлении к земле, к человеческому не могло сразу избавиться от сверхграндиозного. В леонардовской “Джоконде”, например, можно увидеть некую надвременность... Действительно, что за время года, время суток: утро, день или вечер - изображены на пейзаже, расстилающемся вдали за нею? Не слишком ли далеко видно с ее балкона? Не кажется ли, что она, женщина, царит над временем и пространством?..
Но тогда же, в эпоху Возрождения, живопись полностью развернула и свои,- специфические только для нее,- качества. Само понятие живописности тогда изменилось, и относительно вот этого послеренессансного понимания идет с тех пор отсчет прогресса и реакции в живописности.
И теперь живопись призвана изображать не обозначение предметов, не изобразительные знаки. Она призвана изображать оптическую видимость или то, что можно вообразить увиденным, существующим. И хотя целью изображения в изобразительном искусстве вовсе не стал чувственный образ, хотя целью осталось (как и во всех остальных искусствах) безо
`бразное впечатление,- все же ясный и достижимый (или кажущийся достижимым), несколько приземленный и, особенно, чувственный идеал - живописцу нового времени выразить гораздо проще, чем идеал туманный и в принципе недосягаемый. Наверное, поэтому среди немецких живописцев конца XVII века и позднее нет равных немецким философам, поэтам и музыкантам...Поэмы в красках, написанные, например, в городах-республиках Италии XVI века и в Нидерландах XVII века живописцам-идеологам только что победившего (временно или надолго), торжествующего класса буржуазии - получают, таким образом, как бы фору в том, что относится к специфически живописному. А даже в предреволюционной Франции XVIII века - с ее чрезвычайно сильной, но еще не победившей буржуазией - успеху картин почти в той же мере, как и талант самих художников, способствовали - как пишут историки - “неживописные” элементы: исторический, сентиментальный, драматический и патетический.
Что ж говорить о немецких художниках, склонных к метафизическому мышлению и философствованию?.. В стремлении проникнуть за видимое, увидеть в конкретном предмете как бы вечную идею они претендовали на многоплановость изображения, добавляя ему литературную “нагрузку” многозначительными названиями и мифологическими аллегориями. При этом естественно, что они все чаще переходили ту рискованную для живописи границу с литературой, за которой “умопостигаемые” сходства уже не основываются на прямых зрительных сходствах.
“Остров мертвых”, между прочим, будучи ярким примером темы мечтательного разочарования, как раз меньше других заслуживает упрека в так называемой дурной литературности. Перевозчик мертвых Харон - единственная и крошечная дань греческой мифологии - по сравнению с могучей естественной образностью пейзажа почти ничего существенного не добавляет к живописному смыслу картины.
Но что можно сказать, когда, например, гомеровская метафора “подобны листьям в лесу - поколенья людей”- берется и иллюстрируется буквально: в виде дерева, с которого падают обнаженные люди, мужчины и женщины, в расслабленных позах, причем все это тщательно и детально выписано?.. Остается только развести руками: тупиковый путь для живописи.
И в этот тупик - еще далекий для немецких романтиков, приблизившийся для Беклина и неизбежный для его последователей, для так называемого мюнхенского символизма - в этот тупик двигалось немецкое культурно реакционное изобразительное искусство.
Вот потому-то Чюрленис как ни восхищался Беклином, а последователем его не стал. Беклин стремился вызвать у зрителя ощущение “осязаемости” ирреального мира и для этого натуралистически подробно изображал мельчайшие детали и реального, и вымышленно-невозможного. Ему нужно было как бы перед самим собой оправдать “существование” идеала, которого в реальной жизни нет. (За талантливость такого самообмана, кстати, он и стал любимым художником немецкой буржуазной публики, когда та утратила реальный высокий идеал после бесшумной отмены пережитков феодальных привилегий дворянства и после бисмарковского объединения Германии и слияния самодержавия с капитализмом.) А буржуазии Польши и Литвы еще было о чем мечтать - о земном, а не заоблачном. Поэтому в последней своей глубине творчество Чюрлениса направлено не к “осязаемости” недостижимого в реальной жизни идеала, а к открытию “неосязаемости”, как он сам писал, разных наглядных благородных и красивых дел, так и не приводящих к другой жизни.
Это чувствуется даже в самой оптимистической его картине (и самой первой), позволяющей, кстати, проиллюстрировать, как чудесно изменяется символизм, если отказывается от натуралистической правдоподобности в изображении.
“Лесная музыка”...
В открытке
(223), нарисованной цветными карандашами, эта литературная метафора взята, так сказать, в лоб. Сперва на фоне утренней, но еще темной опушки соснового бора, выделяется менее темная, находящаяся на первом плане, рука. Мизинец отставлен, безымянный выпрямлен, остальные пальцы согнуты. Напряжены сухожилия на внешней стороне ладони. Рука как бы играет на стволах-струнах. Полуповаленный ствол с веткой кадрирует дальние вертикальные стволы так, что превращается сам в корпус гигантской арфы.Шум леса приятен, как игра на арфе...
А как этот же мотив реализован в картине
(4)?Здесь в первую очередь обращает внимание контраст переднего и заднего планов: темной, еще ночной опушки леса - и нежного утреннего света в безоблачном небе над бескрайним ровным до горизонта полем.
Есть такой закон картинной плоскости: если свет помещен слева - он как бы незаметен, внимание - на форме, им освещенной; если же свет справа, то воспринимается в первую очередь факт освещенности. В картине Чюрленис увлекся жизнью, он идет к изображению не от задачи воплотить литературную умопостигаемую метафору, а от целостного переживания, навеваемого пробуждением природы. И инстинкт художника его здесь не подводит. Он помещает свет справа, а не слева, как в открытке.
Свет борется с тьмой. Ему трудно продвигаться налево. Но хотя тьма по площади занимает подавляющую часть, внимание - на свете. Он неодолим, как утро. А лес этого еще не знает. В нем почти ничего не различить. Лишь еле-еле проступает одна-другая ветка.
Но что это? Какие-то волокна тумана перечеркивают темные стройные стволы. А все вместе это как будто какая-то невесомая, как дух, прозрачная рука едва-едва касается струн огромной арфы... Или рука указывает на путь к свету?.. Может, лес так дремуч, что даже днем солнечный луч не проникнет в него. Что же повернет тьму к свету? Музыка, искусство, пробуждающее даже в темных душах свет правды и красоты... Или это странствование души самого Чюрлениса, которому не музыка, а живопись открыла истинный свет самовыражения? - Ведь это самая первая его картина... Или, наоборот, он благодарен музыке, раскрывшей в нем поэта и пробудившей от немоты мещанской ночи? Или все же слишком зыбка надежда увидеть чащу освещенной?
Как бы то ни было, но здесь шум леса, постепенно оживающего от нежного ветерка и утреннего света, осложняется разными ассоциациями гораздо легче, чем в первом случае. Потому что здесь нет расчета на то, что умопостигаемое сходство выразит большую часть идеи. Еще не доглядевшись до руки, а только следя слева направо за мерным ритмом изменяющих окраску просветов, выливающихся, наконец, в широкое и высокое утреннее небо - уже чувствуешь как бы музыку цвета и света, музыку утреннего пробуждения. Этот еле заметный, а главное, естественный, утренний туман дает как бы вторую волну чувству, вторую волну звуков, являет собой неожиданный подарок зрителю, уже подготовленному первым впечатлением от картины.
Глядя на “осязаемую” небывальщину Беклина и его последователей, особенно жгучим покажется принципиальный для живописи вопрос: если изображение нужно лишь как ступень к овладению смыслом, то зачем превращать эту ступень во что-то слишком громоздкое, почти самодовлеющее, требующее сил и в выполнении и в восприятии. Решить этот вопрос Чюрленис мог только отбросив те средства живописи, которые не работают на выразительность. Только так можно было выйти из темного леса символистских художественных заблуждений. Но для этого Чюрленису надо было поклоняться не только Беклину, но и питать себя другими, не чуждыми живописного развития источниками.
* * *
И тут сразу вспоминается Франция, изобразительное искусство которой ко времени прихода в живопись Чюрлениса уже пережило несколько глубоких потрясений, повлиявших на историю прогресса живописности. Здесь судьба пластического искусства сложилась иначе, чем в Германии. В Германии не было революций за исключением одной, в 1848 году - да и то абортивной - как выразился Энгельс. А Франция ими кипела: мелкая буржуазия и пролетариат боролись против буржуазии средней и крупной. Для интеллигенции (а это почти всегда выходцы из мелкой буржуазии) многочисленные “очарования” малыми и большими революциями сменялись столь же многочисленными разочарованиями. Изо всех сил тряся решетку той клетки, в которую они попадали после каждого разгрома, прогрессивные французы (в силу исторической необходимости люди деловые, а не мечтательные, как современные им немцы) не могли не сломать, в конце концов, хотя бы старую форму бунтарского, протестующего, богемного содержания их искусства. Революции социальные обернулись у них революционной сменой художественного языка.
Уже в начале XIX века французские романтики вспомнили о Рубенсе, передававшем красками нечто противоположное сюжету. Темы их собственных картин вроде бы уводили от действительности не хуже немцев. Но их вождь - Делакруа - живописным смыслом своих картин выражая прямо противоположное - ощущение тонуса и напряженности жизни - начал дело, которое перед концом века полностью развили французские же импрессионисты. Была создана, коротко говоря, живописная система, в которой сложные цвета художник мысленно разлагает на чистые, на полотне кладет чистые цвета раздельными мазками вперемежку рядом друг с другом, так что в глазу зрителя мазки смешиваются и возвращают цвету сложность. Изображение получается каким-то трепетным. Создается впечатление незаконченности. Образ формируется на глазах у зрителя. Таким образом, художник впервые в истории смог, наконец, писать настоящий свет, изменчивые блики, играющие тени, не “разбивать форму” на освещенную и затененную, не ослаблять прямым светом цветность и не писать тени неопределенными, темными и одинаковыми тонами.
Затем произошли “революции”, возглавляемые Гогеном, Ван Гогом, Сезанном, Лотреком... И посмотрим теперь на Чюрлениса.
Что такое, например, яркая фиолетовая тень в первой картине “Потопа”, тень светящаяся, но все же по-своему контрастная этому желтому миру, изнывающему от жары, засухи и избытка света?.. Что это, как не вангоговский обнаженный психологизм цвета, который захватывает непосредственно выражаемой силой эмоций.
Что за чисто голубые черточки покрыли руины из “Прошлого”
(81) и как бы отдалили колеблющимся воздухом веков легендарную башню от сегодняшнего зрителя?.. Это же импрессионистская раздельность мазка чистым цветом. А наплывы пространств друг на друга в последнем чюрленисовском “Рексе” (214) или в “Сонате пирамид”, в “Сонате Ужа” или в триптихе “Фантазия”... Это ж сезанновское смещение планов. А бессчетные у Чюрлениса импрессионистские пропуски деталей, находящихся на большом расстоянии, неотчетливость и стушеванность контуров... Все это пришло из Франции.Пусть какие-то из новшеств случайны у Чюрлениса и не показательны для него, пусть он мог даже не знать о некоторых из них и дойти до них сам, но главное, что французские художественные революции (в совокупности) упразднили многие условности, родившиеся еще в эпоху Возрождения. Они как бы расковали тех художников, кто в условиях своей страны (например, Польши, Литвы, России) чувствовали изменчивость окружающего мира. Все эти новшества позволяли писать непосредственно, непредвзято, а значит, позволяли быть более чуткими к новому в жизни. Умение видеть “по-новому”, доверие к собственному ощущению, умение зафиксировать свое субъективное, оригинальное восприятие - вот чем воспользовался Чюрленис, вот вообще в чем сила и мировое значение культурных революций во Франции последней трети XIX века.
А вот как оценил их Чюрленис, глядя на то, что написано после Беклина, не в духе Беклина и потому непременно под влиянием французских новаторов (надо помнить, читая цитату, что картины в музеях развешивают в хронологическом порядке). Итак: 1902 год... Лейпцигская галерея... Чюрленис пишет: “Первый раз, помню, вошел и был очарован: во вступительном зале Мурильо, Беклин. Что же будет дальше? Но в других залах картины были не такие красивые. В последних - несказанно гадкие. Помню, в восьмом зале стало грустно и жалко, что не увижу картин красивее. Вернулся к Беклину”. А через четыре года, в Мюнхене, Чюрленис выразился прямо “антифранцузски”: “Начало нашего ХХ века - хаотично. Тысячи вещей, которые видел, создали у меня единственное впечатление, будто живопись куда-то рвется, будто хочет поломать бывшие до сих пор рамы, однако остается в них. Меньше всего новых вещей дают французские художники, хотя рвутся и мечутся больше всех”.
В чем дело: он не осознает, кто ему не дал зайти в тупик мюнхенского символизма?
Если немыслимо, чтобы линия развития живописи не прерывалась; если она - пунктир с пропусками над безвременьем и бесталанностью; если ступени прогресса - как редкие в горах вершины, покорившиеся лишь гениям, а Чюрленис - один из них, то, взойдя на свою вершину, будет ли он восхищенно искать глазами ее отроги и подножье? - Нет. Он обратит свой вдохновенный взор к горизонту, окаймленному хребтом других вершин, таких же величественных, как его собственная.
Но могла быть и другая, более конкретная причина его пренебрежения к своим французским предшественникам. Дело в том, что французское искусство во второй половине XIX века хоть и захватило для европейской живописи важный плацдарм для начала нового Возрождения, но само при этом утратило необходимое качество художественности - целостность, то есть такое единство, в котором сплетается не только содержание произведения с формой, но и необходимое в изображении жизни со случайным, сущность натуры с явлением, количественная определенность предмета с качественной и так далее.
Например, импрессионизм - если коротко - ущемлял внутреннее и сущность в пользу внешнего и видимости. Непрестанно меняющаяся жизнь неба с бесконечными метаморфозами облаков, ветер, беспрерывно колеблющий листья и траву, раскачиваемые волнами лодки, дрожание зыби, колышущиеся отражения вод, льющиеся струи и рассыпающиеся брызги фонтанов, беготня солнечных бликов, закручивающиеся дымы и неуловимо истаивающие в воздухе хлопья пара, туманы, наплывающие и рассеивающиеся, веселая толчея на танцах в городских садах, сутолока улиц с бегущими повозками и снующей толпой, порывистые или текучие движения балерин, гимнастов, жокеев все эти образы Движения хоть и воплощали его в себе наиболее убедительным в живописи образом, но до глубокого осмысления этого великого закона бытия они все же не доводили ни художников, ни зрителей. Импрессионисты ущемляли “душу вещей” в пользу “коры явлений”. И если чюрленисовское “красиво” обязательно включает в себя духовность, то понятно, почему в его письменном наследии нигде не встретишь восторга по поводу импрессионистов.
Даже в самой Франции быстро наступила реакция на импрессионизм. И насколько сильно художественный мир был потрясен импрессионистской революцией в ви`дении и письме, настолько длительным - на десятилетия - стал его протест против замысла увековечивать на полотне непосредственно зрительное впечатление и не больше. Внимание к глубинно-выразительной стороне восторжествовало во французской живописи и стало едва ли не вровень с немецкой.
Но если в мюнхенском символизме многие детали красочного полотна не служили смыслу картины, если выраженное в изображении было там не очевидным, а “умопостигаемым” и как бы отдельным от работы кистью, то сосредоточенность на “идеях” у французских новаторов: Ван Гога, Сезанна и других художников, называемых постимпрессионистами, - была поддержана всем художественным строем их картин. Гармония цели и средства была достигнута, но... на уровне и изображения, и выражения более низком, чем это бывает в высших достижениях живописи. И Чюрленису это не могло нравиться.
А у тех иначе и быть не могло: начиная с эпохи Возрождения перед создателями шедевров изображенного выражения впереди был идейный расцвет их класса - буржуазии, перед импрессионистами - идейное отцветание его. Поэтому французские художники конца XIX века не могли быть мыслителями в таком же духе, как, например, в XVI веке - итальянские художники.
Это из нашего далека теперь видно, что вглядываясь в нарождающийся у них на глазах империализм постимпрессионисты не только создавали язык будущего искусства, но и оставили свидетельства своих верных предчувствий о самой будущей жизни. Действительно: наше столетие с его научными, техническими, социальными и другими революциями, с его грандиозными войнами, с миллионами жертв и потрясением всех привычных мировоззренческих основ начинается с исступленной взвихренности постимпрессионизма. Но сами художники провозвестниками себя не чувствовали. Пророчество выходило у них подсознательно. Выходило потому, что им было не под силу вымыслить многозначительный сюжет, и всю душу они вкладывали в словами невыразимое и в смутно предчувствуемое. И тогда созданный ими, например, символизм формы, цвета и мазков стал способен выражать неясное и подсознательное. Вот какова была их “идейность”.
Сознательно же они отражали не неведомое будущее, а видимое сейчас настоящее, ибо нет и никогда не было такого художника, если он был сколько-нибудь честен и талантлив, который не ставил бы своей задачей правдивое изображение действительности.
Наблюдая окружающее Сезанн, например, установил, что видимой симметрии предметов нет: формы с освещенной стороны расширяются, в тени уменьшаются. Наш разум старается выправить их, наш взгляд видит все не так. Симметрия, вертикальность, искажения форм - это условность, привычка восприятия. Как же поступить, если осознал вот это, обычно неосознаваемое, нарушение? Как быть правдивым?
Или Ван Гог... Как ему быть, если даже в неподвижных предметах ему чудится движение: старое дерево судорожно и страшно врастает в землю и вместе с тем полуоторвано от нее порывами бурь; стебли и листья цветка вздымаются и закручиваются как бы в волевом устремлении к свету... А чистый цвет! Он его просто заколдовывает, превращает в сомнамбулу, в лунатика, заставляя чувствовать так, а не иначе... Всех людей волнует красное, успокаивает синее, будоражит и взвинчивает желтое... Это неосознаваемо, но это так, это теперь научно доказано. Ну так как же быть Ван Гогу, если он все это переживает сознательно, а яркая природа юга Франции, как ясновидцу, открывает ему душу. Что ж ему - отказаться от чистого цвета, смешивать краски и заставить на полотне молчать “говорящую” наяву природу?
Но если обычно индивидуальное ви`дение и живопись художника объективны в своей субъективности, то есть если зритель перед картиной обычно изумляется, “как я раньше не замечал, что так бывает!” - то перед произведениями Сезанна и Ван Гога со “средним человеком” такого не случается. И дело не в том, что они резко сменили художественный язык, а художественный уровень “среднего человека” не поспел за ними. Дело в том, почему он не поспел, почему художники разошлись с публикой. (Итальянец Джотто 500 лет тому назад тоже резко сменил художественный язык, но тогдашняя публика была в восторге.)
Постимпрессионисты лишь субъективно стремились к правдивости. Объективно же они не нацеливали себя на отражение реального, потому что в самой жизни, по их мнению, не осталось идеала, даже его зародыша. А так как произведение искусства в принципе немыслимо без идеала, без поэтичности, без эстетического содержания, то художники, не отдавая, может, себе отчета, начали все это искать не в окружающей действительности, а в иной реальности, в своем духовном мире.
Это было уже: в романтической традиции XIX века. Вспомнить хотя бы как бы иную реальность лунной ночи Фридриха и ирреальность “Острова мертвых” Беклина. Но теперь это вернулось в совершенно измученном виде - в прямом выражении едва ли не подсознательного, которое уж никому толком не понятно.
Тогда - во взаимоотношениях художника и натуры ведущей все же была натура, теперь - художник, его самовыражение.
И главным в живописи средством отчуждения от действительности стал отказ от иллюзорного (от возрожденчески иллюзорного) изображения мира: постимпрессионисты перевели импрессионистскую недетальность, скоропись, этюдность в принципиальную (и продлившуюся надолго) тенденцию ограничивать изображение предметов минимумом их характерных особенностей. А ведь это все-таки живопись, не графика, так что родилась новая односторонность - пренебрежение предметной стороной изображаемого.
В общем, объективно Чюрленису было за что не любить французских новаторов. И с ним можно даже согласиться, что меньше всего дают новых вещей именно они. Для этого достаточно лишь говорить только о форме их произведений и сравнивать ее с древним и средневековым каноном. Сравнивать при этом надо не по уже знакомой умопостигаемости канона. Постимпрессионисты, не будучи реакционерами в живописи, не передоверяли свои идеи дополнительному, то есть словесному, знанию. Они внушали свои переживания вполне по-возрожденчески - непосредственно. А вот если с каноническим искусством сравнивать их картины по примитивности формы, то действительно создается впечатление, что хоть они и рвутся куда-то, будто хотят поломать рамы, однако остаются в них.
И тогда вдруг обнаруживается, что хлесткое заявление Чюрлениса о современных ему художниках не на сто процентов отрицательное, не настолько брезгливое, чтоб он сам не захотел пойти подобным путем. Просто он констатирует, что в своем стремлении к абсолютному новаторству французы опростились, а история над ними сыграла шутку.
Отходы к примитивности от более высоких художественных достижений уже не раз бывали.
Например, от охотничьего импрессионизма пещерных рисунков анархического палеолита человечество, организовавшись, где-то около 10.000 лет тому назад перешло к стилизованному искусству. (Все общества, чрезмерно подавляющие личность, начиная от неолитического коллективизма и кончая восточными деспотиями - культивировали искусство, изображающее минимум особенностей натуры.)
Другой пример. От индивидуализированного торгово-ремесленно-городского искусства античности и эллинизма около 1500 лет тому назад европейцы перешли к общинно-церковному искусству насквозь иерархического средневековья. Где жизнь на земле считалась только приготовлением к заоблачной жизни, не могло быть в искусстве чувственного объема, быстротечного жеста, выражения лица, сокращения в ракурсе и много другого, что было у греков и римлян.
Но если верно, что новое - это основательно забытое старое, то воскрешение в XIX веке средневековых приемов дематериализации мира и человека было, конечно, новым.
Казалось бы, парадоксально, что выразительные средства средневековой живописи с ее направленностью на духовный мир мюнхенский символизм обходил стороной. Но для такого новаторства, чтоб пересмотреть послеренессансную традицию, нужно было, чтобы сама жизнь стала нетрадиционной, изменчивой, скажем так, революционной.
Такой пересмотр не мог начаться в Германии.
Зато здесь, где даже самые ироничные, всеотрицающие романтики находили все же счастье - счастье во внутренней духовной жизни; здесь, где общественно-политические условия сделали немецкий народ народом поэтов и мыслителей; здесь и по соседству с Германией - в культурно развитой и экономически тоже не последней, но политически раздавленной Польше - в Польше, со времен до Наполеона разодранной между Пруссией, Австрией и Россией, где в чем-то сходные обществненно-политические условия сделали польский народ самым романтичным народом Европы - здесь благоприятная формальная отсталость искусства обернулась тем, что оно долго оставалось менее истрепанным, более свежим по внутренней своей сущности, более содержательным и философски глубоким.
В такой исторической перспективе, на фоне идейного опустошения, постигшего западноевропейское искусство (особенно после импрессионизма), не удивительно, что, отыскивая в современной живописи стремление к философским поэмам в красках, Луначарский выделял Беклина и закрывал глаза на его иррациональность, натуралистические куски, даже ошибки рисунка и на цвет его красок - часто слишком резкий, тяжелый и дисгармоничный, как отзываются специалисты.
В свете такого исторического экскурса легко объяснимы теперь символистские пристрастия преподавателей Варшавского художественного училища в 1904 - 1906 годах и такие же художественные вкусы Чюрлениса.
Можно понять теперь, что предопределило его художественную судьбу, но все еще недостаточно объяснима высота его достижений.
Другие интернет-части книги
1
2
3
4
5
7
8
На главную страницу сайта
Откликнуться
(art-otkrytie@yandex.ru)
Отклики в интернете