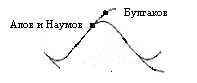
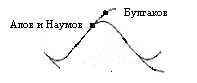
Булгаков. Алов и Наумов. Бег
Художественный смысл
|
Алов и Наумов были на гребне социалистического идеализма, когда на дворе уже цвела Липа реального социализма. Тогда как сам Булгаков, как сорванная ветром пена, летел ещё выше такого гребня. |
Небулгаковский бег Алова и Наумова
Это вовсе пьеса не об эмигрантах
Булгаков. 9.09.1933
1.
Случилось мне на восьмом десятке лет впервые прочесть булгаковскую пьесу “Бег”. Конечно, не чистое было восприятие, а на фоне издавна помнившегося фильма Алова и Наумова (1970 года выпуска). И после сцены карточной игры Корзухина (в кино это Евстигнеев) с Чарнотой (в кино - Ульянов) я принуждён был приостановить чтение. – Дух захватило от… как сказать? – эскизности, что ли, у Булгакова.
Хотел написать: “стремительности”. Но стремительно ж действие и в кино.
В кино, однако, захватывало ЧТО (при всём восхищении от КАК – игры актёров, - осознаваемом как-то потом, в последействии фильма, при вспоминании, в повторном смотрении). А при чтении – чем оно и лучше смотрения кино – мне пришлось остановиться из-за того, КАК это написано у Булгакова.
Например, начало игры:
Чарнота. На сколько?
Корзухин. Ну, на эти самые десять долларов. Попрошу карту.
Чарнота. Девять.
Корзухин (платит). Попрошу на квит.
Чарнота (мечет). Девять.
Корзухин. Еще раз квит.
Чарнота. Карту желаете?
Корзухин. Да. Семь.
Чарнота. А у меня восемь. (http://www.lib.ru/BULGAKOW/run.txt)
Я читал и не понимал. Естественно. Я ж не знал игры (она в пьесе названа, - я потом заметил, - девятка; и ещё позже про эту девятку прочёл: это азартная игра – железная дорога или Шмон-де-Фер называется; там 9 наибольшее число очков в сдаче не больше двух карт на каждого партнёра: туз + 8 = 9, 2 + 7 = 9, картинка или десятка, т.е. 0, + 9 = 9; у кого из партнёров в сдаче больше – тот выиграл). То есть Булгаков делал пропуски в своём тексте. Корзухин, получив одну карту, прикупив другую, открывал их, и в сумме было меньше очков, чем 9. Раз. Другой раз. А у Чарноты оба эти раза был максимум, 9. И Чарнота это число и произносит. Корзухин же молча раз за разом проигрывает.
Я читаю, не понимаю; я даже то, что мог бы понять: “на квит” - “сквитаться”, - не понял. А Булгаков именно на то и рассчитывает. Ибо он живописует напор Чарноты и смятение Корзухина. Быстроту и натиск Правды против Неправды. Чести против Денег.
Ассоциация: добро должно быть с кулаками (а таково было мироотношение и большевизма). И ведомые большевиками массы, через годы и годы после революции, уже не понимая и не вникая в тонкости политики, всё давали и давали себя вести.
Средние люди, - подумалось от имени Булгакова, - и должны быть сбитыми с толку. Не о том ли говорил-де Булгаков одобрительно в 1937-м году (эта дата написана в указанном интернетском сайте), времени, мол, создания пьесы. В том страшном 1937-м. Который, вблизи глядя на этот год, может, и не был таким страшным для большинства. (Чего далеко ходить: моя мать ничегошеньки не знала, её знакомые и никто из моих родственников не подвергся репрессиям вообще в течение всей сталинщины.) Что если и для Булгакова, - пусть и лишённого тогда публики и читателя, но всё же очень неплохо зарабатывавшего на постановках чужих пьес, предполагавшего даже протекционизм к себе самого Сталина, - что если и для Булгакова большевистская правда была в чём-то своя? – Вот он так живенько, бодро и весело и писал текст.
А у Алова и Наумова – наоборот - “серьёзное отношение” (Кругосвет http://www.krugosvet.ru/articles/66/1006691/1006691a1.htm). У них девятка хоть тоже названа, хоть название тоже не отложилось в зрительском сознании, хоть тоже не понимаешь, что там, собственно, происходит, но. Там про-ис-ходит. Сам видишь. А видеть самому и не понимать – меньше возбуждает, чем читать и не понимать.
Алов и Наумов сами по себе в моём переживании кино ускользали от моего сознания, а тут, при чтении, я задумался: а что за восторг двигал Булгаковым, что он тут так летит?
Психологическая филигранность игры актёров, натурализм, это “как живое”, эта самоценность эпизодов у Алова и Наумова теперь мне показались в данном “эпическом” (Кругосвет) произведении отступлением от неэпического Булгакова.
Куда отступлением?
Подумалось, что – в победительность большевистского дела, вершившуюся не только ТОГДА (в ходе гражданской войны), когда и сам Булгаков понял, что народ и история на стороне красных (и так и вышло), и потому надо-де не эмигрировать, а оставаться в стране (что он и сделал, так и не отплыв из Батуми в Турцию в 1921 году), - но и в ПОЗЖЕ-победительность: не на момент написания пьесы, а на момент съёмки фильма. Шапкозакидательство, мол: советское есть прогресс.
Режиссёры при таком раскладе получались простыми иллюстраторами готовой предидеи: красная армия (понимай: всепобеждающая идея Справедливости) всех сильней. А раз иллюстрация, то жаль. Ибо фильм-то нравился. Но… От чего ж не откажешься ради принципа “художественность, художественность и только художественность!”… – Придётся, заподозрил я, отрешиться от нравления…
Правда, подумалось: но и пьеса-то писалась для громоздкого театрального воплощения…
В кино привыкли к монтажу. И легко между рядоположенными кадрами понимать, что прошло, скажем, много часов карточной игры. А как их играть на сцене?
Голубков. Чарнота, умоляю, уйдем!
Корзухин. Карту! У меня семь!
Чарнота. Семь с половиной! Шучу, восемь.
|
Голубков со стоном вдруг закрывает уши и ложится на диван. Корзухин открывает ключом кассу. Опять звон, тьма, опять свет. И уже ночь на сцене. На карточном столе горят свечи в розовых колпачках. Корзухин уже без пиджака, волосы его всклокочены. В окнах огни Парижа, где-то слышна музыка. Перед Корзухиным и перед Чарнотой - груды валюты. Голубков лежит на диване и спит. |
На сцене, наверно, занавес бы закрыли, чтоб Корзухин снял пиджак и всклочил себе волосы. Но Булгаков в тексте нахально не разбивает действие на явления. Несколько строк выше тоже гас свет. Нас там ввели в курс, что это – наряду с синхронно грянувшими колоколами и звонками - задумано для ошеломления вора, буде он залезет в сейф, не зная про сигнализацию и не отключив её. (Сразу понимаешь, насколько сбит с толку Корзухин проигрышами, если он сам про сигнализацию раз за разом забывает и забывает.) Но ошеломляет, что вторая тьма применена и для обозначения длительности игры. Голубков, эта святая душа, заснул и спит, как невинный младенец, не пробуждаемый никаким звоном.
Вот так, - думается от имени Булгакова, - и народ: живёт себе бытом своим, пока вокруг идёт война, революция, индустриализация, коллективизация… Ведомый важней ведущего. Кормящий – кормимого. Как трофическая пирамида. Как, скажем, стадо зебр. Захотел лев кушать – встал и пошёл. По линии его движения зебры начинают слегка бежать. Остальные пасутся. Лев – скорее. Зебры на направлении его бега – тоже скорее. А остальным – хоть бы что. Наконец, лев выбирает самую слабую и бросается. И ест. Все зебры тут же останавливаются и тоже едят – траву. Кормильцы львов. Есть даже гипотеза (Поршнева, про кормимых каннибалов-предлюдей и их кормильцев пралюдей), что подобным образом – только не как зебры, а начав не соглашаться на поедание - произошло человечество (http://ufo.metrocom.ru/win/cannybal.htm). Но до происхождения кормление было мирным. Таков был быт: их ели…
“Голубков спит”.
Булгаков поступил легко, играючи.
Я не знаю, как бы это поставили в театре… Даже мелькнула крамольная мысль, что Булгаков предвидел, что и эту пьесу, как и всё его в 30-годы, репертком не пустит на сцену, и потому писал, чувствуя свободу от постановочных проблем. Улетал… Улетал от сегодняшнего дня. От сегодняшнего народа. И народолюбие его от такой самоосвобождённости взмывало в коллективистское сверхбудущее.
Может, даже и не крамольная то мысль, а верная.
Там же, в тексте, то и дело есть нарочитые вериги расчёта… не на смотрящую спектакль публику – на читающих текст простых советских граждан, не знающих иностранных языков: турецкого, итальянского, английского, французского (я говорю о введённой в текст аж транскрипции, а не только латинице):
Корзухин. Антуан!
|
Входит очень благообразного французского вида лакей Антуан, в зеленом фартуке. |
Мсье Маршен маве аверти киль не виендра па зожурдюи, не ремюэ па ля табль, же ме сервирэ плю тар.
|
Молчание. |
Репондэ донк кельк шоз! [Monsieur Marchand m'avait averti qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Ne remuez pas la table. Je me servirai plus tard. Repondez-donc quelque chose! - Мсье Маршан сообщил, что не придет сегодня. Со стола не надо убирать. Я буду обедать позднее. Да отвечайте же что-нибудь! (фр.)] Да вы, кажется, ничего не поняли?
Антуан. Так точно, Парамон Ильич, не понял.
Корзухин. Как "так точно" по-французски?
Антуан. Не могу знать, Парамон Ильич.
Корзухин. Антуан, вы русский лентяй. Запомните: человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то, ни другое в Париже не принято. Учитесь, Антуан, это скучно. Что вы делаете в настоящую минуту? Ке фет ву а се моман?
Антуан. Же... Я ножи чищу, Парамон Ильич.
Что произнести правду-матку о русском ментальном качестве Булгаков назначил такому безусловно отрицательному, так сказать, персонажу, как Корзухин, мне кажется значимым. Не в том смысле значимым, что сам-де Булгаков был квасным патриотом. И не в том смысле значимым, что он был, наоборот мол, западником и не упустил случая подколоть распоясавшуюся в СССР русскую культурную отсталость (отсталость от авангардизма-де и прогресса, в конечном счёте).
Можно сложнее думать: что Булгаков пустил, мол, шпильку в адрес любимого (любовь зла – полюбишь и козла!) народа, имея в виду просветительские перспективы. Какой-то, мол, будущий русский читатель прочтёт русскими буквами иностранные слова и всё-всё-всё поймёт про автора, его идеал и его время.
Но мне показалось – ещё глубже. Дескать, нечто фундаментально, навеки присущее русскости (при большевизме оно или другом политическом строе) окрыляет Булгакова, и – он и летит, и позволяет себе судить народы, не взирая на национальные лица. Нечто, вроде русского мессианства, унаследованного большевиками и приемлемого и для Булгакова.
Вот почему, подумалось, Булгаков веселится.
И это совсем не “серьёзное отношение” Алова и Наумова. Даже когда те тоже веселятся. Когда малоизменяемость русского менталитета политизировано обыгрывают в комизме Антуанова “Жоп…” (Не “Же…” как по тексту).
Читая в тексте пьесы, в перечне действующих лиц: “Антуан Грищенко”, - уже смеёшься. Но в кино фамилия персонажа мелькнула в титрах и всё: никем не запомнена и вряд ли даже прочтена. Смешным, однако, режиссёры этого персонажа тоже не преминули выставить, сделав его – не как в тексте: “очень благообразного французского вида”, - а мужланом по лицу и осанке. И вся киносцена акцентировано говорит: противоестественна космополитская приспособляемость дельца` Корзухина. И советская кинопублика всё мгновенно понимает и добродушно смеётся над этим вечным грехом русских: пресмыкательством перед Западом одних и пренебрежением других. – То есть именно “серьёзное отношение” у режиссёров. Потому они и переконали членов Политбюро, опасавшихся романтизации белогвардейцев (прокат фильма поначалу был запрещён).
Для кино нужна была мгновенная понятность массам вот уж который десяток лет длящегося оптимизма у победительной страны советов. А у Булгакова какой-то припрятанный смех. – Посмотрите, например, на сам факт наличия эпиграфов, - где?! – в пьесе. И смысл их в чём-то смешно противоположен содержанию действий.
Сон седьмой (так Булгаков называет… - ну как сказать? – то, что обладает единством места действия; здесь - Париж), - сон седьмой предваряется таким эпиграфом: “...Три карты, три карты, три карты!..” - Это из оперы Чайковского “Пиковая дама”.
Так в опере – в плоском её понимании – карты есть Рок. И Рок отнял у Германа (не с двумя “н”, как у Пушкина) жизнь. А у Корзухина рок в лице Чарноты – без штанов, в кальсонах лимонного цвета! – отнял, картами, двадцать тысяч долларов, а не жизнь.
Нет. Комизм не улетучился и в кино. Зрительно стал махровым: эти засосы, с какими набросился Чарнота (Ульянов) на опешившего Корзухина (Евстигнеева), это объятие с грязной жадной затяжкой из сигары, которую за миг до того курил Корзухин и продолжал держать в руке, это утирание Чарнотой своих (артист-то какой, генерал!) слёз умиления.
Но в буквами напечатанной пьесе ведь как тонко. Голос автора слышится в попсовом оттенке эпиграфа: поймёт ли меня советский читатель? - улыбаясь, пишет Булгаков.
Что именно попсовый демонизм извлечён из оперы, можно подтвердить тем, что Чарнота цитирует:
Чарнота. ... Графиня, ценой одного рандеву... Девять.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чарнота (напевает). Получишь смертельный удар ты... три карты, три карты, три карты... Жир.
В первой цитате – обращение повесы-демониста Сен-Жермена к графине-демонистке, во второй – предупреждение демонского призрака той же жирующей молодой ещё графине. – Страсти-мордасти экие.
Перед нами именно то, от чего Пушкин в своей “Пиковой даме” отталкивался:
“- То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленников!
- Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?”
Русская проза, по Пушкину (его собственная: “Повести Белкина”, предваряемый им пресный эпилог “Пиковой дамы”), противопоставлена французской, экстремистской прозе. В том заключался сомнительный уже (раз мистика допущена), но всё же сословный консенсус (см. http://art-otkrytie.narod.ru/pushkin5_2.htm) как идеал Пушкина в 1833 году. (Вспомните тут антиреволюционность Булгакова, его проэволюционизм. Перекличка через век…)
Модест и Пётр Чайковские отошли от художественного смысла пушкинской повести. Не дав победы над душой Германа человеческим страстям: ни любви, ни картам, - они сделали его свободным от боязни смерти – покончившим с собой, демонистом. Прицепленные последние слова заколовшегося Германа (о Лизе): “Красавица! Богиня! Ангел!” - хоть и призваны придать опере позитивный художественный смысл, мало влияют на чёрное восприятие её попсовой дворянской блестящей чернью, что из булгаковской пьесы. Оперный экстремизм довлеет. И слова: “Графиня, ценой одного рандеву...” - не раз в пьесе отданы другому сорванцу, полковнику-французу-белогвардейцу де Бризару.
В собственно музыке оперы, может, и выражен идеал высшей справедливости (см. http://art-otkrytie.narod.ru/chaikovskij.htm). И, может, Булгаков его и чувствовал. И глубоко спрятанным и дал. И – в сцене карточной игры, и – в эпиграфе. И тогда эпиграф к действию глубоко соответствует самому действию.
Так кино простонародным лубком тогда покажется при сравнении с текстом пьесы.
Кинорежиссёры в СССР и не могли не огрублять, то ли подстраиваясь под массу, то ли – под власть, то ли даже и самовыражаясь. Алов и Наумов приспособленческую прививку получили чуть не от самого Сталина, признаётся Наумов (http://www.rg.ru/2003/10/16/naumov.html). Признаётся, но настаивает на “третьей правде”. Гнули, мол, своё. Правда, своё было просоветским. Вы только гляньте на названия их фильмов: “Тревожная молодость” (по Беляевской “Старой крепости”), “Павел Корчагин”, “Ветер” (как пробиваются на 1-й съезд комсомольцы). Да и “Бег” широко и позитивно показывает победный прорыв красных в Крым (чего в пьесе Булгакова нет). Так значит, Алов и Наумов были левее власти и таки самовыражались. Просто они по инерции ещё оставались шестидесятниками.
|
…какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной, я все равно паду на той, на той единственной Гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. |
1957
Они были на гребне социалистического идеализма, когда на дворе уже цвела Липа реального социализма. Тогда как сам Булгаков, как сорванная ветром пена, летел ещё выше такого гребня.
Но было, наверно (“удалось проследить”, - как пишет Кругосвет), - было, ЧТО у Булгакова усиливать, и не слишком-то извращая. И правда: некого (тонкого) тоже левака, Булгакова (не революционного, а эволюционного), сермяжные советские революционные леваки, его современники, каждый день со страхом и подозрительностью ожидавшие начала реванша капитализма в СССР, по глупости считали пробуржуазным. Оскорбляли, можно сказать, в лучших чувствах этого приверженца социализма духа.
Так я думал о “Беге” поначалу.
2.
И тут обнаружилось для меня, что 6 января 1929 года Керженцев, зам заведующего агитацией и пропагандой в ЦК ВКП(б), в своём отзыве камня на камне не оставил от советскости пьесы “Бег”. И что “Бег” был начат в 1926 году (после краха уповавших на всепримирительный НЭП сменовеховцев) и закончен в 1928. То есть не в 1937 году это написано. Не в годы победы строительства “социализма”. В 37-м только последний раз исправлено.
Да и прежде я, передохнув от сцены карточной игры, просто дочитав пьесу до конца и аж прослезившись (из-за вешателя Хлудова, как я себя понял), - я повторно жёстко спросил себя: что в 1937-м Булгакова вдохновило – а явно ж вдохновило! – опять (после “Белой гвардии” - 1924 года, после “Дней Турбиных” - 1925 года) взяться за белогвардейскую тему (пусть и правку только).
И как ответ подвернулись тогда такие слова Самария Великовского о ПРЕСТУПЛЕНИЯХ и НАКАЗАНИЯХ в литературе:
“Разумеется, писательское “следствие по делу” - особого рода. У ведущего его нет чиновничьего почтения к казённому судопроизводству. И коль скоро взыскательная совесть разойдётся с духом и буквой действующего уложения о наказаниях, тем хуже для последнего: судьи и подсудимые меняются тогда местами перед лицом небумажной справедливости”.
А в 37-м году ж вовсю писался роман “Мастер и Маргарита”.
Вдруг в “Беге” та же закваска? И в 26-м, и в 37-м. – Восстание против безнравственности советского мещанства, живущего ради частного интереса.
Вот Булгаков и взял оступившихся (в белогвардейщину, антинародность) и “примкнувших к ним”, взял немещан: интеллигентов Голубкова и Симу, - офицеров (следовательно, не мещан по определению): Хлудова и Чарноту, - чтоб, показав их возвращающимися в мораль (в явь из сна о бегстве в эмиграцию с её безнравственностью предпринимательства – Корзухина, шантажирующих его контрразведчиков-белогвардейцев, содержанки-по-призванию Люси, жулика-держателя тараканьих бегов Артура Артуровича), - показав всё это, кольнуть современников, советских мещан, предпринимательством пусть и не занимающихся, но. Кольнуть их совесть, глубоко прячущуюся. И потому недосягаемую. Сейчас. В 37-м. Да и в 26-ом. Впрочем, недосягаемую не только в 37-м, а и в историческом будущем. Но! Достижимую в сверхбудущем. - Как антибуржуазный, антибюргерский и антиклавдиевый (Клавдий же ультрабюргер) Шекспир в “Гамлете” надеялся.
Действительно, собственно, и в конце 20-х – как и оказалось - можно было Булгакову начинать антимещанский глубинный демарш против советской власти, принявшейся по-сталински строить социализм в отдельно взятой стране якобы революционно (индустриализация, коллективизация, всеобщее образование), а на самом деле – оставляя страну глубоко мещанской, низменной, тёмной и отсталой. И во второй половине 20-х можно было Булгакову начинать демарш против поддающегося этому всему советского общества.
Этого уже не поняли Алов и Наумов.
Не достижения советские вдохновляли Булгакова, а недостатки (недостаток идеализма у власти и граждан в конце концов и погубил СССР и его так называемый социализм).
Вот Булгаков же буквально ни одного случая частной предпринимательской деятельности в “Беге” не дал позитивно. Лишь Голубков там стал шарманщиком и - не гад. И то. Не заработка ради шарманщиком стал, а чтоб ходить по дворам и искать Серафиму, которую он потерял в общей каше бегства из Крыма в Константинополь. Морально, в итоге, провалена даже сплошь успешная профессиональная содержанка Люська. Чем не предпринимательство у неё? Вот и в Таврии к Чарноте, когда он был генерал и ещё в силе, смогла подвалиться, и к денежному французу в Константинополе, и к кому-то из восточного экспресса, чтоб довёз в Париж, и к процветающему Корзухину в Париже. Но в результате-то…
Люська. Ну-с, была очень рада повидать соотечественников и жалею, что больше никогда не придется встретиться. (Шепотом.) Выиграли - и уносите ноги! (Громко.) Антуан!
|
Антуан выглядывает в дверь. |
Господа покидают нас, выпустите их.
Чарнота. О ревуар, [Au revoir - до свиданья (фр.)] мадемуазель.
Люська. Адье! [Adieu! - Прощайте! (фр.)]
|
Чарнота и Голубков уходят. |
Слава тебе господи, унесло их! Боже мой! Когда же я, наконец, отдохну!
|
В пустынной улице послышались шаги. |
(Воровски оглянувшись, подбегает к окну, открывает его, тихонько кричит). Прощайте! Голубков, береги Серафиму! Чарнота! Купи себе штаны!
|
Тьма. Сон кончился. |
Это “воровски”, это “тихонько”…
Денежная интрига белогвардейских контрразведчиков провалена, Корзухин экспроприирован дважды: ни из Крыма ему пушнину не удалось вывезти, ни в Париже деньги в сейфе сохранить. Даже жулик Артур Артурович побит обманутой им публикой. Срывается у Серафимы и попытка поторговать своим телом. Ну и, конечно, провально торгует с лотка Чарнота.
А у Алова и Наумова в Константинополе казаки - надо полагать, успешно – занимаются в цирке вольтижировкой на лошадях. Народ, мол…
Однако такого, “в лоб”, левого антиторгашеского пороха в пьесе слишком мало, чтоб понять, отчего Булгаков в таком повышенном возбуждении. Всё-таки градус товаро-денежных отношений после окончания НЭПа в СССР был пониженный, а переход к эгоистическому строительству социализма в одной стране - делом слишком абстрактно-политическим для неполитика Булгакова.
И во весь рост встаёт вопрос, не натянул ли я левизны на Булгакова? В чём в пьесе виден социализм духа автора или мерзостность ему окружающего его советского мещанства? Не мало ли моей слезы по Хлудову (которой кино не выжимает, там слеза от возвращения на родину, от скачки – вдруг! - по зимним перелескам Голубкова и Серафимы с – вдруг! - тем мальчиком, что с любопытством клацал одним пальцем по клавишам печатной машинки, брошенной белыми при погрузке на корабли в Севастополе, с мальчиком, со взглядом которого тогда, в сумятице погрузки, встретился Голубков).
А перед той скачкой по снегу в кино - Хлудов провожает взглядом корабль с возвращающимися на родину казаками, Серафимой и Голубковым. Не стреляется Хлудов. В пьесе же - стреляется.
Потому – слеза?
Или потому, что вина Хлудова в пьесе какая-то виртуальная?
Голубков. Серафима Владимировна, опомнитесь, сюда нельзя! (Удивленным
штабным.) Тифозная женщина!..
Крапилин. Так точно, тифозная.
Серафима (звонко). Кто здесь Роман Хлудов?
|
При этом нелепом вопросе возникает тишина. |
Хлудов. Ничего, пропустите ко мне. Хлудов - это я.
Голубков. Не слушайте ее, она больна!
Серафима. Из Петербурга бежим, все бежим да бежим... Куда? К Роману Хлудову
под крыло! Все Хлудов, Хлудов, Хлудов... Даже снится Хлудов!
(Улыбается.) Вот и удостоилась лицезреть: сидит на табуретке, а кругом висят мешки. Мешки да мешки!.. Зверюга! Шакал!
Голубков (отчаянно). У нее тиф! Она бредит!.. Мы из эшелона!
“Мешки” это вешают людей в мешках. Культурно. По-дворянски.
В кино под сон-суд за казнь целый карьер снят. Тысячи людей. Жуть ослепительная. И Крапилин (Олялин) врезается в память так, будто сам ты его повесил. А тут, в пьесе, лишь пара слов.
Серафима. Вот один только человек и нашелся в дороге... Ах, Крапилин, красноречивый человек, что же ты не заступишься?..
|
Серафиму и Голубкова уводят. |
Крапилин (став перед Хлудовым). Точно так. Как в книгах написано: шакал! Только одними удавками войны не выиграешь! За что ты, мировой зверь, порезал солдат на Перекопе? Попался тебе, впрочем, один человек, женщина. Пожалела удавленных, только и всего. Но мимо тебя не проскочишь, не проскочишь! Сейчас ты человека - цап и в мешок!
Стервятиной питаешься?
Тихий. Позвольте убрать его, ваше превосходительство?
Хлудов. Нет. В его речи проскальзывают здравые мысли насчет войны. Поговори, солдат, поговори.
Тихий (манит кого-то пальцем, и из двери контрразведывательного отделения выходят два контрразведчика. Шепотом). Доску.
|
Появляется третий контрразведчик с куском фанеры. |
Хлудов. Как твоя фамилия, солдат?
Крапилин (заносясь в гибельные выси). Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная - Крапилин-вестовой! А ты пропадешь, шакал, пропадешь, оголтелый зверь, в канаве! Вот только подожди здесь на своей табуретке!
(Улыбаясь.) Да нет, убежишь, убежишь в Константинополь! Храбер ты только женщин вешать да слесарей!
Хлудов. Ты ошибаешься, солдат, я на Чонгарскую Гать ходил с музыкой и на Гати два раза ранен.
Крапилин. Все губернии плюют на твою музыку! (Вдруг очнулся, вздрогнул, опустился на колени, говорит жалобно.) Ваше высокопревосходительство, смилуйтесь над Крапилиным! Я был в забытьи!
Хлудов. Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!
|
Контрразведчики мгновенно накидывают на Крапилина черный мешок и увлекают его вон. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На бронепоезд "Офицер" передать, чтобы прошел, сколько может, по линии, и огонь, огонь! По Таганашу огонь, огонь! Пусть в землю втопчет на прощанье! Потом пусть рвет за собою путь и уходит в Севастополь! (Кладет трубку, сидит один, скорчившись на табуретке.)
|
Пролетел далекий вой бронепоезда. |
Чем я болен? Болен ли я?
|
Раздается залп с бронепоезда. Он настолько тяжел, этот залп, что звука почти не слышно, но электричество мгновенно гаснет в зале станции, и обледенелые окна обрушиваются. Теперь обнажается перрон. Видны голубоватые электрические луны. Под первой из них, на железном столбе, висит длинный черный мешок, под ним фанера с надписью углем: "Вестовой Крапилин - большевик". Под следующей мачтой - другой мешок, дальше ничего не видно. Хлудов один в полутьме смотрит на повешенного Крапилина. |
Я болен, я болен. Только не знаю, чем.
Лихо введена преступность Хлудова и сам Крапилин. Сперва два-три раза вестовой введён как человек красноречивый, а в ответ говорит лишь: “Так точно” и ещё пару слов по смыслу происходящего. Смешно, право. Аж привлекает внимание нелепостью. И вдруг его прорвало. И из этой прорвы мы узнаём, что Хлудов зря-вешатель.
Оно, конечно, давным-давно принято в театре – со сцены рассказывать про большие события вне сцены. Но уж больно лихо Крапилин из верного вестового генерала Чарноты превращается в смутьяна. А Хлудов – в вешателя.
В кино Хлудов - как скорпион, жалящий сам себя:
- Станцию защищать всеми средствами. Приказываю: чтобы ни один солдат не остался в живых! Ступайте.
И в таком приказе чувствуется впавший в раж, а не в необходимость дать остальной армии успеть погрузиться на корабли. Алов и Наумов аж ввели – в пику такому своему Хлудову - полковника (О. Ефремов), ослушавшегося приказа и (мотив из “Белой гвардии”) распустившего подчинённых. Да и ещё в кино это дано как бы в развитие сцены диктовки письма Фрунзе Врангелю с предложением о сдаче в плен из-за ненужности лишних боевых жертв и гарантирование жизни сдавшимся.
Гуманные-де красные и ингуманисты – белые.
В пьесе же Хлудов спасает жизни подчинённых иначе, не сдавшись.
Хлудов. …Потом пусть рвет за собою путь и уходит в Севастополь!
Или вот:
Хлудов. Летчика на Карпову балку к генералу Барбовичу. Приказ - от неприятеля оторваться, рысью в Ялту и грузиться на суда!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Другого - к генералу Кутепову: оторваться, в Севастополь и грузиться на суда. Фостикову - с кубанцами в Феодосию. Калинину - с донцами в Керчь. Чарноту - в Севастополь! Всем на суда!
Кто знает, знает, что прототипом Хлудова был Слащёв, побеждённый лишь раз за гражданскую войну – под Каховкой. Дисциплину в армии и прочность тыла он поддерживал казнями. К защите Крыма в конце 1920-го года не привлечён. Воевать по-партизански ему Врангель не дал. Слащёв в эмиграции обвинил Врангеля в сдаче Крыма. За что был разжалован. Но получил ферму под Константинополем. Хозяйствовать не смог и впал в бедствие. Из-за этого вернулся в Советскую Россию преподавать тактику, ибо ничего внеармейского не умел. Ему простили военные преступления. Он писал (может, и правда то была), что воевал и казнил по инерции. Сделал в СССР карьеру. Но был убит в 1929-м, то ли самостийным мстителем, то ли по наводке ОГПУ. Многих же вернувшихся репрессировали официально, сразу или постепенно. И всё это: и репрессии, и прощение ценных врагов, - в стране советов считалось практичностью, не витанием в облаках.
А для Булгакова это было безнравственным прагматизмом. И вот в пьесе вместо робота-для-победы Слащёва – Хлудов, заболевший от военных преступлений, неизвестно на что сносно живущий в Константинополе и кончающий с собой (самоубийство было ещё в варианте 1926-го года, когда называлась вещь “Рыцари Серафимы”).
Алов и Наумов самоубийство у булгаковского Хлудова отняли и отдали идеалисту полковнику (О.Ефремов). И получилась потрясающая сцена! Это заказывание себе гроба, похорон…
Где уж при таких деформациях режиссёрских зрителю слезу по Хлудову пускать!?.
В печатной же пьесе кончает с собой не тип демониста, Герман братьев Чайковских, не демон кинорежиссёров. А идеалист. Иной идеалист. За иноидеализм-то и милый булгаковскому сердцу. Иноидеалист гибнет (так кончается пьеса) – иноидеал его зритель уносит с собой.
Значит, окружавшие автора материалисты зажгли Булгакова ТАК пьесу написать.
Булгакова, может, в подсознании только и грыз этот иноидеал. И потому-то с таким юмором он вводит Голубкова.
Читайте - в перечне “Действующие лица”:
Сергей Павлович Голубков, сын профессора-идеалиста из Петербурга.
Читайте в самой пьесе:
Голубков. Я не гусеница, простите, и отнюдь не обер-прокурор! Я сын знаменитого профессора-идеалиста Голубкова и сам приват-доцент.
Смех? – Смех. – А в чём дело? - В отстранённости Булгакова от такого идеализма.
Вы посмотрите на эпиграф к пьесе:
|
Бессмертье - тихий, светлый брег; Наш путь - к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил бег!.. Жуковский |
“В лоб” ирония над всем, что будет в пьесе ниже. Ничего себе тишина – на Константинопольском бреге… Дурак-де и Жуковский, и его приверженцы. И первый из них – Голубков.
Вот первые слова в пьесе:
Голубков (прислушиваясь к пению). Вы слышите, Серафима Владимировна? Я понял, у них внизу подземелье... [брег верующих в Бога, которые впоследствии в пьесе тоже высмеяны] В сущности, как странно все это! Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово! Вот уж месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, по весям и городам, и чем дальше, тем непонятнее становится кругом...
Сон он видит. Романтик. Как и Жуковский…
А что такое романтик, пасынок истории, в моральном плане? – Эгоист. Внутренняя жизнь для него это и есть настоящее, а внешняя – и не существует.
Если Булгаков и воодушевлён идеализмом, то не таким. И потому выставляет этого героя в смешном свете. А если сам подхватывает у него это “сон” и снами называет то, что в театре называют единством места действия, то у такого писателя иной идеал – противоположный, коллективистский, а не индивидуалистский, эгоистический.
Этому леваку своеобразному виделась безнадёжность по части идеализма в окружающих его советских коллективах, вот он в возбуждении и взял главными героями в пьесу разнообразных идеалистов, а антигероями – материалистов. Главным же героем - (Хлудова) иноидеалиста.
И – летит. В сны. О сверхбудущем… Потому и сны. А не эпическое.
У Алова же и Наумова антисны. Они подсознанием, наверно, почуяли левую залётную антисоветскость Булгакова и в “Беге”, и в “Мастере и Маргарите”. (Роман в 1970-м лишь три года как был опубликован и гремел.) И в качестве тоже левых, но не сверхисторических, как Булгаков, оптимистов, а в качестве оптимистов героических (последних левых могикан-шестидесятников) режиссёры сделали фильмом – и во всяком случае его финалом – выпад против славного романа. ““Мастера и Маргариту” пародировали в “Беге” А. Алов и В. Наумов” (Александр Владимиров. Не наш Рязанов. http://scepsis.ru/library/id_1813.html#a4).
Самоцитата: “Мастер ценен автору “Мастера и Маргариты” тем, что он является, как и автор, человеком, очень ценящим себя за нежелание как-то примоститься в действительности” (http://art-otkrytie.narod.ru/bulgakov.htm). И потому Мастеру и Маргарите автором назначен покой на каком-то почти том свете. И они туда скачут на мистических конях.
А как кончается кино?
На немистических (хоть это и в мечте - наивнореалистически) конях под умиротворённую закадровую музыку скачут цепочкой друг за другом Мальчик, Серафима и Голубков по снежному полю. Снято с высокой точки, с горы. Всадники для объектива оказались выше и дальше подгорных деревьев. Над деревьями. Неба в кадре нет. Вместо него гладкое и ослепительное от снега поле. И кажется, что всадники скачут по небу. Налево и всё выше, выше.
И, понимай, ни этот голубь, приват-доцент Голубков, ни Серафима (серафим – ангел высшего чина) не будут репрессированы в Советской России за грех эмиграции. И они заживут-таки спокойно на этом, а не том свете.
Вот какая была тогда, в 70-м, связь кино “Бег” со всеми читаемым взахлёб романом. Совсем не такая, как в написанной трагиоптимистической пьесе связь с будущим - для 26-го - и с пишущимся в 37-м романом.
И глубинно не права Булгаковская энциклопедия: “Хлудов выступает непосредственным предшественником Понтия Пилата” (http://www.bulgakov.ru/b/beg/5/).
Хронологически-то да: к роману Булгаков приступил сразу после первого окончания “Бега”. Но не ради преступлений и наказаний их героев то, и то написано, с намёком, мол, на преступления советской власти против народа и народа против самого себя. А ради нравственного развития главных героев от прагматизма к идеализму, развития, являющегося примером советскому окружению Булгакова, вступившему на путь прагматизма.
10 июля 2008 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://topos.ru/article/6375 и http://topos.ru/article/6377
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |