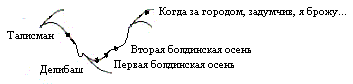
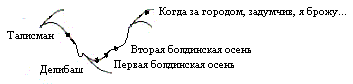
С. Воложин
Доклады для Пушкинской комиссии
|
Нецитируемый катарсис, озаряющий из-за противочувствий от противоположных элементов произведения, и Синусоида идеалов с вылетами как иллюстрация движителей истории искусства и творчества художника – вот то, что открывает истинный художественный смысл произведения искусства. |
Вторая интернет-часть книги “О сколько нам открытий чудных…”
Осмысление фрагментов
“Истории “Повестей Белкина””
Шварцбанда против идей ее автора
Всякий истинно творческий текст всегда есть в какой-то мере свободное и не предопределенное... откровение личности. Поэтому он (в своем свободном ядре) не допускает ни каузального объяснения, ни научного предвидения. Но это, конечно, не исключает внутренней необходимости, внутренней логики свободного ядра текста...
М. Бахтин
Мой двоюродный племянник, архитектор, возмущен, чем я занимаюсь: “Как можно за автора говорить, что зачем он сделал! Мало ли что захотела вдруг нарисовать моя правая рука?! А потом кто-то станет копать - зачем моя голова это позволила. Я же - и сам не знаю, зачем.”
Меня утешают три мысли. Одна, что архитектура это не та область, где все подчинено идейному замыслу, ибо это прикладное искусство. Другая, что мой племянник, похоже, не гений. Третья, что у гениев в их произведениях неприкладного искусства почти нет случайностей, и это их касаются слова Гегеля: <<
В художественном произведении нет ничего, что бы не имело отношения к содержанию>> [1, 102] - и слова Гуковского: <<Если мы исключим, зачеркнем в великом романе, хотя бы самом большом по объему, даже одну фразу, роман в целом что-то потеряет, и значит, его общий смысл в чем-то изменится>> [1, 103],Это предел. Гении к нему приближаются. Таланты - меньше. Бездари - далеки. Вот вам и мера художественности.
Шварцбанд пишет о людях, не придерживающихся этой меры: <<
Отсутствие дефиниций понятий “художественное” и “нехудожественное” не дает литературоведению возможность строить “оценочную” историю литературы. Вместе с тем, столкнувшись с трудностями определения подобных реалий, современные ученые-модернисты отказались не только от этих понятий, но заодно и вообще от аксиологии, признав тем самым за любым фактом право “быть фактом искусства”>> [6, 20]. То есть он к этим крайним не принадлежит, но, чувствуется, что пристрастия к выявлению отношений “элемент - художественный смысл целого” не испытывает - из-за мутности материала исследования. И факт. Его книга о “Повестях Белкина”- опыт эвентуального анализа. Эвентуальный - от латинского eventus - случай. И рассматривается у Шварцбанда история текста “Повестей Белкина”.По мне Пушкин является замечательным объектом исследования, потому что он гений, у него мало шлака и, значит, легче доходить у него до художественного смысла вещи.
Для Шварцбанда Пушкин является замечательным объектом для эвентуального анализа, т. к. все-все записывал, даже четверть мысли, и т. к. его рукописное наследство достаточно сохранилось, а с другой стороны: <<
Пушкинское творчество характеризуется сложными и многоаспектными взаимосвязями между абсолютно разными замыслами: один и тот же набросок он мог использовать в самых неожиданных и никак не сопоставимых замыслах. Автореминисценции подчас настолько необъяснимы, что, кажется, однажды написанное Пушкин просто приспособлял к новому замыслу без какой-либо мотивировки и обработки>> [6, 35]. Совсем, как мой двоюродный племянник.Правда, Шварцбанд применяет слово “кажется”. И дальше демонстрирует, что часто это так только кажется. Да вот относительно Белкина я, соглашаясь с Бочаровым, из этого “кажется” делаю вывод, что Пушкин был не только идейно против Белкина, но и за. А Шварцбанд - разоблачает это “кажется
” ради доказательства отсутствия такого субъекта повествования, как Белкин, вплоть до времени написания “Выстрела”, что очень бьет по моей работе “Понимаете ли вы Пушкина?”. И мне интересно приспосабливать именно шварцбандовские фрагменты для подтверждения раннего появления Белкина в сознании Пушкина.Фрагмент 1-й.
<<
А. С. Андреев вспоминал слова, сказанные Пушкиным на выставке картин в 1827 г.: “Кисть, как перо: для одного - глаз, для другого - ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин до того делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это, как стихи, под известный каданс можно наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих, - и все начали писать хорошо”. В 1827 г. Пушкин снова собирался ударить “об наковальню русского языка” таким образом, чтобы “вышла проза”>> [6, 28].А я утверждаю, что собирался Пушкин выражать новый идеал: консенсус в сословном обществе. И оттуда ноги росли, а не из формальных задач.
Фрагмент 2-й.
<<
Хорошо известен “белкиноведам” черновой набросок 1827 г. “Если звание любителя отечественной литературы...” В 1884 г. он был опубликован в качестве начала “Истории села Горюхина”. Исповедь “любителя” написана “протокольным” стилем: “Произошед в 1761 году от честных, но недостаточных родителей, я не мог пользоваться источниками просвещения, открытыми впоследствии времени в столь великом изобилии, и должен был довольствоваться уроками приходского дьячка, человека... весьма образованного в смиренном своем звании”>> [6, 28]. И Шварцбанд пишет далее: <<“Любитель отечественной литературы, родившийся в 1761 г., был по сути образом архаиста. Например, если судить об отношении Пушкина к П. Катенину во время работы над черновиком, то “любитель” должен был бы превратиться в лицо положительное. Однако, полемика Пушкина с другими “товарищами-архаистами”, например, с В. К. Кюхельбекером, за несколько лет до написания черновика делает подобное предположение невероятным, а участие “любителя” в журнальной истории начала 20-х годов задним числом придает образу 1827 года черты явной пародии. Кажется, подобная противоречивость в оценках архаистов и в отношении к ним со стороны “ученика” и “друга” вполне достаточное условие прекращения работы над еле очерченным в наброске замыслом>> [6, 30].А если Пушкин менялся очень быстро, и то, что раньше было совсем не приемлемо, потом стало несколько иначе? А если потом его идеал - где-то около консенсуса в сословном обществе, то как раз очень хорошо, если как бы договорятся реакционер Шишков с революционером Кюхельбекером, и все они - с Пушкиным, не являющимся ни тем, ни другим в 1827-м. И тогда понятно, почему Пушкин покусился начать набросок...
Фрагмент 3-й.
Шварцбанд очень тонко заметил, что Владимир из “Романа в письмах”, над которым Пушкин работал осенью 1829-го года, много в чем совпадает с самим Пушкиным.
Во-первых, это <<
“идеальное” представление Владимира, вероятно, близкое и самому Пушкину>> [6, 33], о необходимости и возможности консенсуса между помещиками и их крестьянами: “Звание помещика есть та же служба. Заниматься управлением трех тысяч душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши... Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута приказчика, который их притесняет, а нас обкрадывает”.Во-вторых, общность между Владимиром и Пушкиным состоит в горечи раздумий о древних фамилиях: “Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов”. Мало, что сам Владимир сделан Пушкиным дворянином из новых. Пушкин,- замечу от себя,- придал Владимиру и мечту о консенсусе между теми и другими: “Говоря в пользу аристокрации, я не корчу англинского лорда; мое происхождение, хоть я им и не стыжусь, не дает мне на то никакого права. Но я согласен с Лабрюером [перевод]: Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению - черта смешная в выскочке и низкая в дворянстве”
.Так вот, если я правильно понял Шварцбанда, Пушкин хоть и придал и некоторое отличие от себя Владимиру (например, Пушкин родовит, а Владимир из новых дворян), хоть и писал роман в письмах и, тем самым, как бы не нес ответственности за то, что в этих письмах мы читаем, но все же Пушкин должен был испытывать неудобство оттого, что не было почти никакой дистанции между ним, Пушкиным, и субъектом всего этого прозаического повествования о консенсусе в обществе неравных (ведь и сама фабула-то романа замешана на взаимной любви богатого Владимира и бедной Лизы). И я с удовольствием процитирую Шварцбанда, рассуждающего о результате этого пушкинского переживания неудобства: <<...
любая переадресация [удаленному от автора субъекту повествования] требовала от автора особого предуведомления. Поэтому на периферии замысла... могла возникнуть идея случайного представления некой рукописи от имени “друга покойника”>> [6, 34] .И как факт: в это же время, осенью 1829 года, Пушкиным пишется то, что многими (и мною) считается первым черновиком предисловия “От издателя” к “Повестям Белкина”. Там “друг покойника”, П. И. Д., отличается от И. П. Белкина только фамилией и зеркальными инициалами имени и отчества.
Так спрашивается, мог ли Пушкин это предисловие (“
рекомендательное письмо”, как его называет Шварцбанд) сочинять для “Романа в письмах”? Если я правильно понял намек Шварцбанда - он мог, и он сделал это и совсем сочинял его не для цикла прозаических произведений:<<
Биография “покойника” ориентирована на образ столичного и родовитого дворянина, родившегося в Москве и получившего образование во 2-ом кадетском корпусе: “В 1818 году был он выпущен офицером в селенгинский пехотный полк в коем он и служил до 1822”. Смерть матери, заставившая армейского офицера “взять отставку” и стать деревенским жителем, меняет образ жизни, а “природная беспечность” и нежелание заниматься хозяйственными делами, по мнению “друга”, является основанием литературных занятий молодого человека.Подобная ситуация... разрабатывалась Пушкиным: герой “Романа в письмах”, мечтая выйти в отставку и заняться “помещичьей” службой после надоевшей столицы, знакомится с деревенской жизнью. Сентенции и мысли Владимира свидетельствуют о его наблюдательности и склонности к литературным занятиям. Как и “покойник”, Владимир в деревенском уединении “пустился в поэзию”... И одновременная работа над “Романом в письмах”... и над черновиком рекомендательного письма... противостоит ретроспективной истории текста белкинских повестей
>> [6, 31,32].А по-моему, то, что <<
противостоит>>, легко понять как то, что предваряет историю этих повестей. Пусть <<рекомендательное письмо>> сначала относилось к “Роману в письмах”, трактуемому Шварцбандом как двойной замысел - “картины света и людей” и “семейственной истории” [6, 69]. Зато потом <<картины света и людей>> стали будущими повестями, а <<семейственная история>> - “Историей села Горюхина”. <<Рекомендательное письмо>> - естественно стало частью предисловия “От издателя” к повестям и “Истории”.Что нужно было, чтоб так и произошло? - Осознание недостаточности для идеи консенсуса - социальной базы в разворачивании дворянской переписки.
Шварцбанд,- правда, не привлекая идейную мотивацию,- тоже признает такое перерастание. Но относит его аж к концу болдинской осени и даже позже, придираясь, в частности, к датам под повестями: <<
Даже если признать выставленные Пушкиным даты под окончаниями повестей за действительные...>> [6, 38], и привлекая из полного собрания сочинений в 17-ти томах (1937-53 гг.) характеристику рукописей: <<Сохранившийся “черновой автограф всех повестей”, перебеленный “с поправками, местами переходящий в черновой”>> [6, 37].То есть, по Шварцбанду, мыслимо не верить пушкинским датам: это, мол, не время перебеливания, а время написания черновика. (Это вполне соответствует предостережению Томашевского об относительности дат на пушкинских документах [5, 32].) И тогда, по Шварцбанду, получается, что лишь после болдинской осени, зимой или даже в следующем году и только в результате появления в его мыслях лжеавтора и потребовалось перебеливание и перекомпоновка порядка расположения повестей.
Но Шварцбанд упустил два момента. 1) Через 11 лет после 17-титомника была издана книга “Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 года. Краткое описание”. И по этому описанию только “Выстрел” характеризуется как <<
текст перебеленный, с поправками, переходящий в черновой>>[4, 29]. А остальные повести и предисловие - как <<текст черновой>> [4, 29]. И никаких других рукописей повестей не существует. И 2) истолкован словесно-графический набросок “Барышни-крестьянки”, датируемый февралем-мартом 1830 года [3, 30], т. е. за полгода до болдинской осени.То есть Пушкин не только осенью 1830 все и написал, и скомпоновал, но и задумывал кое-что до этой осени. И было время,- до этой осени,- когда он переориентировался с “Романа в письмах” на якобы не свои повести и “Историю села Горюхина”.
Фрагмент 4-й.
Шварцбанд сделал одно безусловное открытие о 34-м листе <<
чернового автографа всех повестей>>. На нем находится конец “Гробовщика”, написанного хронологически первым и датированного (с левой стороны листа) так: 9 сентяб. Болди 1830. Под последней строкой текста “Гробовщика” по центру листа нарисован вензель, свидетельствующий о конце повести. И вот этот вензель нарисован поверх (что до Шварцбанда, как он утверждает, никто не осознавал) трех последних строк плана “Станционного смотрителя” и вензеля об окончании этого плана. План написан мелким почерком в левом столбике, а в правом - тем же мелким почерком - перечень из пяти повестей: Гробовщик, Барышня-крестьянка, Ст. смотритель, Самоубийца, Записки молодого. Это - вверху. И ниже - эпиграф: А вот то будет что и нас не будет Пословица Св Иг. Оба столбца - по центру листа, который нужно было повернуть на 900 по часовой стрелке, чтоб написать конец “Гробовщика”. То есть план и перечень с эпиграфом были написаны по крайней мере до окончания “Гробовщика”.Из этого я делаю вывод, что до 9 сентября не только февральско-мартовская “Барышня-крестьянка”, следы которой найдены, сидела в голове у Пушкина, но и еще ряд сюжетов.
Пусть и не написанные до Болдина, они вполне могли иметь в виду П. И. Д. (т. е. будущего Белкина).
Фрагмент 5-й.
Много сил Шварцбанд тратит на то, чтоб доказать наличие А. С. Пушкина как субъекта повествования в первых (по времени написания) трех повестях: “Гробовщике”, “Станционном смотрителе” и “Барышне-крестьянке”. В доказательство идут: и автобиографизмы (Пушкин, мол, не стеснялся быть узнанным), и заимствования из своих неоконченных прозаических вещей и из опубликованного отрывка из будущего “Путешествия в Арзрум” (Пушкин, мол, чувствовал себя вправе, так как не помышлял другого субъекта повествования, кроме самого себя), и только ему характерная манера цитирования.
Кое с чем можно поспорить, но стоит ли, если за моей спиной стоит Бочаров с идеей богатой неопределенности Белкина между фикцией и характером со своим голосом?
Понимаете? Есть сторонники одной крайности, есть сторонники противоположной. А Бочаров - посредине. И я с ним. И передо мной, например, вовсе не нужно ломиться в открытые ворота, когда я считаю, что Пушкину,- из-за того, что он идейно и за, и против Белкина,- нужно присутствие в тексте в качестве субъектов повествования и Белкина, и себя.
Другое дело, если б оказалось, что голос Белкина в “Гробовщике”, “Смотрителе” и “Барышне-крестьянке” - <<
в черновом автографе всех повестей>> - сплошь выглядит как правка, как это для одного случая привел Шварцбанд. <<Правка карандашом по написанной чернилами фразе “[К несчастью] мы не можем следовать их [Шекспира и Вальтера Скотта] примеру, ибо сия повесть не вымышленная, и мы принуждены сказать...” - скорее всего, делалась при подготовке повестей к изданию: решительно убирая “разоблачительное” [мол, пушкинское] - “сия повесть не вымышленная” (напомню, что “отсутствие воображения” у Белкина, сформулированное в письме ненарадовского помещика,- станет для многих “составом преступления”), Пушкин вписал сугубо “белкинскую” идею “уважения к истине”... То, что для писателя А. С. Пушкина составляло суть повествовательной нормы - “не вымышленная”, для литературного субъекта “Повестей Белкина” становилось саморазоблачительным>> [6, 61]. Вот, если б сплошь была такая правка в трех написанных первыми повестях, тогда б всем было ясно, что Белкина в голове у Пушкина при их сочинении не было.Но раз Шварцбанд не применяет такой довод, я, не видевший автографов, делаю вывод, что такая правка - редкость. А как тогда объяснить присутствие голоса Белкина в десятках случаев, найденных сторонниками (и мною тоже) наличия характерного белкинского голоса и в этих трех повестях?!
И что: надо признать, что Пушкин, как мой двоюродный племянник, не отдавал себе отчета, когда пропустил в печать десятки случаев слышимости своего собственного голоса в этих трех повестях?!
Фрагмент 6-й.
Говоря утрировано, Шварцбанд раб буквы, а не духа того, что написано Пушкиным и что сохранилось. Раз за год до “Повестей Белкина” и одновременно писались “Роман в письмах” и “
рекомендательное письмо”, значит, второе относится к роману, а не к повестям. Раз в том “письме” сказано об одной рукописи, значит оно не может относиться к тому, что впоследствии стало двумя: повестями и “Историей села Горюхина”. Раз есть перерыв между тремя сентябрьскими и двумя октябрьскими повестями, заполненный сочинением “автобиографии” лжеавтора “Истории села Горюхина”, значит, лишь сочиняя последние две повести: “Выстрел” и “Метель” - автор имел в виду лжеавтора.Предположим, Шварцбанд прав. Тогда в двух последних повестях можно ожидать каких-то отличий от трех первых? Они есть, по Шварцбанду. Вот, например.
<<
В отличие от предыдущих трех повестей, где время повествования определяет “сиюминутный” рассказ автора о произошедших событиях, субъект “Выстрела” сообщает не только о встречах с Сильвио и графом задолго до времени своего повествования, но и о том, что произошло с ним за это время>> [6, 92].Я б возразил, что и повествователь “Станционного смотрителя” тоже сообщает, что с ним произошло со времен поцелуя Дуни до времени повествования. “Находился я в мелком чине... смотрители со мною не церемонились... Будучи молод и вспыльчив, я негодовал... Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом...” Все это было. Стало - иначе. “Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей”. Между первым и вторым моментами прошло двадцать лет. За это время повествователь стал писателем и собирается издаваться. Его теперь интересует эстетический момент происходящего с ним в пути. Он готов заплатить за любопытный поворот сюжета: “И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных”. Если раньше он раздражался (“погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут”), то теперь он получает эстетическое удовольствие от самого грустного пейзажа (“кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененное ни единым деревцом”
).Так где же обещанная Шварцбандом разница между сентябрьской и октябрьской повестями? Между “Смотрителем” и “Выстрелом”...
Вот другой пример аргументации Шварцбанда.
<<
Пушкин, решительно отделяя себя от рассказчика “Выстрела”, впервые приписал “элемент автобиографизма” (вспомните сентябрьские повести) не субъекту текста, а персонажу>> [6, 94].Относительно “Выстрела” и его персонажа - графа - имеется в виду поединок Пушкина с Зубовым, на который Пушкин <<
“явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял”>> [6, 95]. Относительно сентябрьских повестей и субъекта текста - имеется в виду “я” “Станционного смотрителя” и обед у тифлисского губернатора, на котором Пушкина слуги обносили блюдами, а также имеются в виду двадцатилетние путешествия этого “я”. Еще имеется в виду субъект текста “Барышни-крестьянки” <<с “автобиографической” основой при авторском акцентировании на “моих читателях”, которые “не живали в деревнях” и которые в большей своей части не разделили бы “со мною моего удовольствия” описывать “свидания молодых людей”>> [6, 64]. (Ну пусть мы действительно способны вычесть из 1830-ти 1811, год путешествия Пушкина из Москвы в Петербург для поступления в лицей, и получить разницу - что-то около 20-ти лет. Ну пусть про тифлисского губернатора Пушкин сам написал в “Путешествии в Арзрум”. Но Пушкин же не писал очерка о своих похождениях в деревне. Однако, ладно. Раз он в “Барышне-крестьянке” об этом пишет от имени повествователя - пусть это будет автобиографизм, отнесенный к субъекту текста.) Еще в “Гробовщике” Пушкин от имени субъекта текста засветился автобиографизмом во фразе о просвещенном читателе, о Шекспире и Вальтер Скотте. Все верно.Но разве можно изо всего этого делать довод в пользу двух субъектов текста: Пушкина - в сентябрьских повестях и Белкина - в “Выстреле”? - Нет. И не только по сути нельзя. Но и подловив Шварцбанда на нарушении им собственных посылок для вывода.
Раз Шварцбанд считает что читатели Пушкина в курсе таких его автобиографизмов, как дуэль с Зубовым, обед у тифлисского губернатора, амурные похождения в деревне и соперничество с Шекспиром и Вальтер Скоттом, то можно этого читателя представить себе и знающим московские адреса проживания пушкинского дяди и невесты - Никитская и Басманная. А ведь это адреса проживания Адрияна Прохорова. Персонажа!
Вот вам и впервые приписывание Пушкиным автобиографизма <<
не субъекту текста, а персонажу>> в “Выстреле”! - Никакое не впервые.Дело просто: достаточно одинаковы все пять повестей. Это прорывается и у самого Шварцбанда: <<
новая повествовательная норма... включала в себя еще элементы “языка немецкой драмы”, иначе не поддаются объяснению “красивости” стиля “Гробовщика”, “Станционного смотрителя” и “Барышни-крестьянки”, мало чем отличающиеся от подобных в “Истории села Горюхина” и “Выстреле”>> [6, 95]. И Шварцбанд приводит примеры этих красивостей.И их соседство с просторечиями: Вырина, Адрияна, крестьянина, к которому обратился заблудившийся Владимир (“А отколе ты?”), солдат (“завоеванные песни”), Лизиной наперсницы Насти (“и ну целовать!”) - выражает как раз идеал консенсуса: соседство же красивостей с просторечием!
Фрагмент 7-й.
Наиболее легкомысленно,- по собственному его признанию,- и по-лобовому отнесся Шварцбанд к факту отсутствия в рукописях второго примечания к “От издателя” (примечания, где вводятся рассказчики повестей: А.Г.Н., И.Л.П., Б.В. и К.И.Т.) и к факту вырезки куска в 9 строчек из письма с инструкциями Пушкина Плетневу, как издавать “Повести Белкина”: <<
здесь было второе примечание, текст которого как раз мог уместиться в этих отсутствующих девяти строчках>> [6, 168]. И тут впервые у Шварцбанда господствует eventus - случай: Пушкин, мол, подшутил над будущими исследователями. Ведь, получается, примечания не было до самого печатания. А у исследователей - весь текст повестей просквожен голосами этих К.И.Т. и т. п. - Действительно, очень смешно.А по-моему, смешно, что Шварцбанд недоиспользовал идею своего любимого языковеда, Левина (которому он даже посвятил данную, разбираемую мною, работу). Вот эта идея.
Начиная с Пушкина, с реализма, художественная повествовательная норма стала синтетической, состоящей из книжного и разговорного языка. Причем включение разговорности было прорывом. И опиралась она на разговорный язык всего народа. Но включала не любые элементы. Есть разговорности, вызванные отсутствием предварительной подготовки к произнесению (например, гробовщик использует присоединение, возникшее как припоминание: “Ей-Богу, созову, и на завтрашний день”). Есть - являющиеся результатом непосредственного контакта говорящих (например, пропуск слова, легко восстанавливаемый присутствующим - ну, скажем, смотрителем: “Дедушка, дедушка! орешков!” Видно, протянута рука, и это означает: “дай”). Эти огрехи, не находящиеся в поле сознания говорящего, в норму не попадают. Есть применяемые в разговоре нелитературные слова, которые в литературе применяются как мотивированные художественным замыслом яркие краски. Например, жаргонизм: “загнул лишний угол” - карточное. Они в норму тоже не входят. Есть - результат непринужденности. Например, в лексике это слова, помечаемые в словарях как разговорное
: нынче. Вот эти слова в норму уже входят, потому что они эмоционально нейтральны. Впрочем, и не слишком нейтральные элементы тоже входят, чтоб автор мог непринужденно выражать свои собственные переживания, а мы бы не думали, что он уже ввел голос персонажа. Например, инверсия: “Покоя ни днем нет...”. И вот за нормой мы чувствуем некого типизированного образованного автора, одного из нас, <<ощущение, которое находит выражение в наивном убеждении, что “и я так могу”>> [2, 55]. И только <<более или менее значительное отклонение [в области непринужденностей]... воспринимается как художественная конструкция, предполагающая наличие... “настоящего” автора,- того, кем создан... образ повествователя в данном конкретном произведении>>[2, 55, 56]. И вот таких образов авторов в пушкинскую эпоху впервые стало в принципе бесконечное количество. <<Образ автора, определившись как культурно-социальная данность, оказался в то же время бесконечно разнообразен как “личность”>> [2, 93].То есть, если в карамзинскую эпоху <<
образ повествователя был, так сказать унифицирован и нормализован - однако не только как культурный тип, но и как личность>> [2, 91], (я понимаю так, что у Карамзина или, скажем, Дмитриева образ автора везде всегда один и тот же и даже неотличим у Дмитриева от Карамзина), если в романтическую эпоху <<утвердился “особый” художественный язык, принципиально отличный от языка быта, языка жизни>> [2, 92], (т. е. образы автора, скажем, у Жуковского и Давыдова отличались, но немного можно было во всей русской литературе насчитать друг от друга отличающихся, а сами они всегда были одни и те же), - то при реализме образы авторов стали числом равны бесконечности, причем отличающиеся. Отличались образы авторов и пушкинские, скажем, от гоголевских и т. д. (по авторам - до бесконечности много их, как много писателей), и образы авторов сами пушкинские отличались от произведения к произведению.И чем больше реалистов и их произведений, тем авторитетнее тот типизированный автор, та художественная норма, которая ими всеми создана
.Но в 1830-м году не было ни одного прозаика реалиста. И Пушкину имело смысл как бы создать видимость их сравнительно большого количества. Что он некоторым образом и сделал, представив Белкина собирателем и неискажающим первоисточник записывателем повестей и издателя А. П., неискажающего письмо ненарадовского помещика, белкинского соседа..
А Шварцбанд этой тенденции ко множеству не понял. И если Пушкин довел число авторов до 5-ти и притом очень-очень разных (вместе с белкинским соседом), то Шварцбанд сводит их до двух: Пушкина, автора сентябрьских, и Белкина, автора октябрьских повестей.
(Я тут слегка покопался и у всех пяти нашел те разговорности, которые вошли в послепушкинскую повествовательную норму и не характерны ни для кого персонально. У белкинского соседа:
“тут”, “навеселе”, “болезней, как то мозолей”; у подполковника И.Л.П. : “хозяину не до игры, мы отстали”, “сажающего пулю на пулю”, “отступился”; у титулярного советника А.Г.Н.: “сущий”, “отроду”, “Как быть! смотритель уступил”, “ни жив, ни мертв”, “постоял, постоял”; у девицы К.И.Т.: “клялися”, “укладывалась”, “насурмлена пуще”, “право, было жаль”; у приказчика Б.В.: “пожитки”, “порядочную сумму”, “журить”, “церемониться”, “совестясь”.)Этот взнос в общую копилку революционно новой художественной нормы тоже служил идее консенсуса в обществе. Но, может, Пушкину,- следуя за Шварцбандом скажу я,- этот взнос был дороже идеи конкретного произведения (которую ведь и повторить можно). И именно потому,- скажу я в отличие от Шварцбанда, умолчавшего о причине анонимности,- Пушкин не хотел именной критики этой новации со стороны своего литературного и личного врага, Булгарина. И потому, может, он захотел печатать повести без указания своего имени. Он даже издателю А.П. не придал элементов разговорности, а наградил того довольно высокопарным стилем, чтоб оградить новацию - повествовательную художественную норму.
Лишь неуспех у критики архисложной задумки “Повестей Белкина” показал Пушкину, что он не зря потерпел неудачу с ударом <<
“об наковальню русского языка” таким образом, чтобы “вышла проза”>>, а потому, что фальсификацией количества создателей - результата: нового типа художественной повествовательной нормы - не добьешься. Надо терпеливо ждать последователей и самому, от себя, продолжать спокойно работать в этом направлении. Именно потому <<в “Капитанской дочке” сочинитель “записок”, хотя и сочинял “стишки”, но был представлен одним-единственным произведением>> [6, 184].Но все это у меня выкристаллизовалось от понимания, что для идей Левина (а они отражают-таки природу литературного языка, и с ними был бы, если можно так сказать, солидарен и сам Пушкин) - для идей Левина нужно побольше повествователей в момент рождения новой повествовательной нормы, т. е. в момент создания “Повестей Белкина”. А Шварцбанд старается в противоположном направлении: А.Г.Н. и другие, мол, шутка.
А на самом деле, тот факт, что они в рукописях не обнаружены, а только в изданной книге появились впервые, не столь важен. Важнее, что они явно были в голове Пушкина, пока он повести сочинял, раз они так отличимо (и от Пушкина, и от Белкина) и так многократно проявили себя, что их голоса замечены столь многими исследователями. (Эти голоса звучат не в нормативной, нейтральной части их повествований, а в ненормативной, в эмоциональностях разговорных элементов, характеризующих их как уникумов среди бесконечности.)
Шварцбанд пишет, что эти А.Г.Н. и т. п. мешают анализу и приводит пример путаницы у одного из исследователей. Я же скажу, что мало ли, кто что путает, а вообще эти А.Г.Н. и т. п. помогают. Как изображение Онегина с Пушкиным на набережной Невы, помещенное в первом издании “Евгения Онегина”, было так же полезно публике, еще привыкшей, что авторам
...уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.
Пушкин и это изображение себя с Онегиным, может, надумал включить в издание тоже перед самым выходом вещи из типографии. Нельзя ж отсюда делать вывод, что это eventus, случай. Да еще и не соотносящийся с замыслом.
Много еще есть резонов у Шварцбанда. Но в общем, у меня создалось впечатление, что нет у него ни одного довода,- в пользу отсутствия в замысле у Пушкина на достаточно ранней стадии Белкина и рассказчиков,- который я бы не мог опровергнуть. А ведь сперва, прочитав Шварцбанда некритически, я был удручен за свою книгу “Понимаете ли вы Пушкина?”. Теперь ко мне вернулась уверенность, что изданная в 1998 г. книга о художественном смысле “Повестей Белкина” верна.
Главное - не в рукописях, тем более, что и не очень-то они и сохранились. Главное - в тексте, изданном при жизни автора, особенно, если издан он под его присмотром.
Литература
1.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л., 1966.2.
Левин В. Д. Литературный язык и художественное повествование. В кн. Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971.3.
Левкович Я. Л. Из наблюдений над “Арзрумской” тетрадью Пушкина. В кн. Временник Пушкинской комиссии 1981. Л., 1985.4. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 года. Краткое описание. М.-Л., 1964.
5.
Томашевский Б. В. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990.6.
Шварцбанд С. М. История “Повестей Белкина”. Иерусалим, 1993.Написано летом 2000 г.
Не зачитано
О художественном смысле
начала “Медного Всадника”
как представителя художественного смысла
целого произведения
Все началось с того, что я вдруг осознал, что Пушкин “Медного всадника” писал одновременно с “Анджело” и “Пиковой дамой”. А у меня ж был уже готов доклад о художественном смысле “Пиковой дамы” и роились мысли о художественном же смысле “Анджело”. И одинаковыми виделись мне художественные смыслы обоих вещей. Можно было попробовать то же обнаружить и в “Медном всаднике”.
Здесь я должен акцентировать: принципиально возможен, а может, и необходим одинаковый художественный смысл разных вещей, если они сотворены в одно время. Это - как яблоки с одной яблони данного урожая. Каждое яблоко - неповторимо (по размеру, окраске, форме), но сок у них у всех неотличим. И если сок уподобить художественному смыслу произведения, вдохновленному тем идеалом, который в данный творческий период исповедует художник, а идеалы быстро не изменяются, то даже и немыслимо, чтоб, по большому счету, разные идеи выводились из разбора почти синхронно созданных вещей.
Идеал Пушкина (утопизм относительно общественного согласия), начиная с первой болдинской осени (1830-го года), к 1833-му году еще не изменился. Только укрепился, и ему еще предстояло укрепляться вплоть до (по Лотману) “Капитанской дочки” (1833-1834).
Нет. У Пушкина были ложные движения, как в “Дубровском” (1832-1833), где он думал было отступить от идеала консенсуса в сословном обществе. Но. Он понял ложность этих движений и оставил “Дубровского” незаконченным. Наверно были и другие ложные выпады (я этим сейчас не занимаюсь). Это как движение амебы: она выпускает ложноножки в разные стороны, но, перетекая вся в одну из ложноножек, движется все-таки в определенном направлении. Это сравнение плодотворно как образ стихии. А какой, как не стихийной, можно назвать эволюцию творчества Пушкина, этого в высшей степени свободного художника.
Но как сама стихия подчиняется законам диалектики, так - и развитие мировоззрения Пушкина: никогда не повторяясь, оно все же носит черты спиралевидной повторяемости, а в более приспособленном для разбора виде - черты синусоподобности.
В этой связи я не мог теперь,- после освоения синусоидального, так сказать, метода,- согласиться с “государственной” концепцией Гуковского в отношении пафоса “Медного всадника”. “Государственность” казалась мне простым повторением концепции “Полтавы” 1828-го года, когда, наученный поражениями дворянских революций и безнародных национально-освободительных движений по всей Европе, Пушкин стал реалистом, считающимся с историческими законами, согласно которым личность - со всеми ее благими порывами и индивидуальной энергетической исключительностью - есть едва ли не ничто по сравнению с народом, с государством и счастье ее, личности, как у Петра, состоит лишь в полном и гармоническом слиянии личного и общественного. Такова “Полтава”. Но не “Медный Всадник”.
А ведь когда-то я был поражен доказательствами Гуковского. Например, о перебоях в строках, когда дело касается Евгения, о спотыкающемся ритме, сбивчивой, ритмически задыхающейся речи, оговаривающейся, нетвердой, неуверенной:
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно.
..Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой...
В воле Пушкина делать перебои для Евгения и, наоборот, применять чеканный, рубленный ритм для Петра, в воле, выявленной Гуковским, мне виделось доказательство “государственной” парадигмы в пушкинском мировоззрении.
Но вот я читаю у Архангельского, что такие же, ну, может, более скрытые перебои Пушкин ввел и в тему Петра. Уже в третьей строке!
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
<<
Одический ряд резко уступает место иному - спокойному, описательному, повествовательному. Широкая река, не стесненная столь милыми сердцу одописца державными берегами; одинокий и бедный, т. е. убогий, челн, которому явно неуютно соседствовать с пристанями пышного города, воспетыми чуть ниже...>> [1, 14]Далее, после нескрываемой одичности, что до и после первой пробельной строки: <<
сразу после вполне одического образа - “вознесся пышно, горделиво”,- в пределах того же синтаксического периода ода внезапно уступает место своему стилистическому антониму>> [1, 16].Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод...
Следующий перебой одичности - <<личное, пушкинское начало активно вторгается в мир Вступления>> [1, 17]:
Люблю тебя...
Потом Пушкин дает сноску и, строго говоря, заставляет прервать чтение и заглянуть в Примечания. А там написано:
<<
Смотри стихи кн. Вяземского графине Завадовской>>. И Архангельский вполне резонно замечает, что для Вяземского в том стихотворении <<сфера “государственная”>> не могла представлять серьезный интерес, а Пушкин и Вяземский <<были близкие по творческой практике и культурным “корням” поэты>> [1, 17]. В общем, опять перебой в оде.А от себя я еще добавлю, что это уже вторая отсылка в Примечание. Первая была еще на 16-й строке, посреди одического:
В Европу прорубить окно;
Ногою твердой стать при море.
Сноска тут такова:<<Альгаротти где-то сказал: (перевод) Петербург - окно, через которое Россия смотрит в Европу
>>.А тут еще Архангельский совершенно справедливо обращает наше внимание, <<
что не торжественное Вступление открывает вход>> в мир произведения, <<а небольшое суховатое Предисловие автора со ссылкой... на газетно-журнальные источники>> [1, 9].<<
Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом>>.И, мол, по этому одному хотя бы ясно, <<
что не подвиги героев, не мощное дыхание эпоса и свобода лирической стихии, а бедная, рядовая, “нормальная” жизнь, оторванная от величия истории и вместе с тем вопреки собственной воле оказавшаяся полем приложения грандиозных исторических, всечеловеческих сил, - в центре внимания автора “Медного Всадника”>> [1, 9].И когда все это предпослано подзаголовком “Петербургская повесть”, где слово “повесть”, по Архангельскому, вместе со своей незначительностью в семантике этого слова, напоминает [1, 8] уже целый ряд мелких героев не только “Повестей Белкина”, но и “Графа Нулина” и “Домика в Коломне”; когда само название, этот эпитет для кумира - “Медный”, соотнесенный с библейским [1, 22] отвергнутым даже золотым кумиром, выглядит тем более отвергнутым,- тогда мой глубокоуважаемый Гуковский, со своим акцентом на пушкинской, мол, “государственности” пафоса “Медного Всадника”, в моих глазах терпит поражение не только по системным, синусоидальным, так сказать, соображениям, но и в силу того, что его концепция художественного смысла не может объяснить целый ряд не замеченных им реалий текста.
Однако и к Архангельскому у меня претензия: почему он не говорит прямо о катарсисе, который вызывают контраст и столкновения одического и прозаического? Ведь Выготского: его противочувствия и катарсис от их столкновения - так редко используют для вскрывания художественного смысла, так редко акцентируют, что есть противочувствия, а что - катарсис. Неужели это из боязни засушить исследование?
Вон уже почти впрямую Архангельский пишет о противочувствиях: <<
а почему не предположить, что Пушкин... может, любя героев [Петра и Евгения], не соглашаться ни с одним из них и... намечать путь к своей истине?>> [1, 6] Чего ж Архангельский остановился и не назвал истину Пушкина, идеал его тогдашний, консенсусом в обществе, консенсусом между государством и человеком? - А потому не сделал этого Архангельский, что, сказавши А о Выготском, необходимо говорить и Б: невозможность процитировать художественный смысл. Но это как-то слишком непривычно... И поэтому Пушкин, мол, лишь намечает в “Медном Всаднике” путь к своей истине. Надо Пушкину написать пером на бумаге эквивалент консенсусу в обществе - “с подданным мирится” - в “Пире Петра Первого” (1835), чтоб для Архангельского своя, пушкинская истина в “Медном всаднике” из намеченной превратилась в явленную: <<Лишь создав стихотворение “Пир Петра Первого”, Пушкин найдет однозначное, действительно примиряющее все стороны... решение. Но это произойдет спустя два года после...>> [1, 21]А может (я лишь предполагаю) в “Пире Петра Первого” опять не написанное
“мирится” есть художественный смысл, идеал, в том смысле идеал, что достижим? Может, само столкновение там совершенного наклонения глаголов с тем, что описывается былое, тоже что-то значит? И сама внешняя бодрость настроения тех стихов, может, есть результат горечи от недостижимости идеала не только в его, Пушкина, жизни, а и Бог весть когда. И может, сама тяжесть концовки:Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена -
может, сама эта тяжесть в столкновении с веселостью что-то сомнительное рождает... типа “Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь”... И тогда идеал консенсуса удаляется в какое-то совершенно неопределенное будущее и уже не утопией является, а чем-то другим.*
*
- Вот именно то же и во всём “Медном Всаднике”, и во Вступлении. Во всём – из-за мистичности столкновения человека с памятником, а во Вступлении из-за перебоев, касающихся живого Петра и одичности.21.12.2021.
Но это лишь отвлечение.
Я еще ставлю в упрек Архангельскому, что он смазал свое рассуждение о
неявно-полемическом смысле [1, 9] Предисловия. Ведь из того, что не Берх, а первоначально Булгарин в “Северной пчеле” был автором журнального известия о петербургском наводнении, много чего следует.Пушкин же Булгарина не выносил. А тот был выразителем переживаний того мещанского (а среди дворян - мещанствующего - особенно после декабрьского восстания) болота [4, 84], которое Пушкину было непереносимо в те годы из-за такой же неориентированности болота на консенсус с высоким, государственным, общенародным, как российскому государству не свойственно было тогда (как и теперь, как и всегда) ориентироваться на низкое, мелкое, частное, личное (если речь идет о маленьких людях).
В то же время Предисловие действительно является прямыми словами гражданина Пушкина, Булгарина еще и лично не переносившего к тому времени. Это все знали.
Пушкин не мог субъективно-личное вносить в Предисловие художественного произведения. А оппозицию свою,- как деятеля культуры,- оппозицию не только государственному началу, но и животно-приземленному частному выразить хотелось. Вот он и переименовал Булгарина в Берха.
Надо еще остановиться на третьей “группе” толкований “Медного Всадника”, на <<
трагической неразрешимости конфликта>> [1, 5]. (Первая “группа” - “государственная”, вторая - “гуманистическая”.) Так вот - третья. <<Пушкин, как бы самоустранившись, предоставил самой истории сделать выбор между двумя “равновеликими” правдами - Петра и Евгения, т. е. государства и частной личности>> [1, 5]. Сам Архангельский к ней не примыкает. Но его острое замечание, что когда ставку делают и на Петра, и на Евгения, то, вспоминая полифонизм Бахтина, <<истолкователь... волевым актом отстраняет автора от непосредственного руководства>> [1, 6],- это замечание заставляет меня насторожиться по двум причинам. Во-первых, разве Достоевский, в применении к которому Бахтин ввел полифонизм, был Бахтиным отстранен от непосредственного руководства? Во-вторых, надо ж понадежнее отмежеваться от вывода третьей группы о самоустранении Пушкина. Ведь третьи-то, захоти они привлечь Выготского, могли б сказать: “Вот. Петр и Евгений это противочувствия. А катарсис и есть пушкинское самоустранение, непредвзятость, объективность”. И самое серьезное, что в этих-то качествах и состоит суть того ультрареализма, к которому относил Пушкина Белинский словами: <<...он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине...>> [3, 259],- забывая, что Пушкин был очень разный.Мог ли Пушкин,- пережив в годы сватовства идеал Дома (“Мой идеал теперь - хозяйка”), с которым можно соотнести и ультрареализм,- мог ли Пушкин спустя столько лет вернуться - вспять по органически развернувшейся синусоиде его идеалов - вернуться вдруг к непринадлежности ни к какому учению, когда он уже три года как был утопист от консенсуса людей? - Не мог.
А вот быть предтечей Достоевского с его полифонизмом - мог.
Только не надо, вслед за третьей группой и самим Архангельским,
отстранять автора по поводу использования автором полифонизма.Назначая Пушкину любить и не любить и Петра, и Евгения и тем намечать путь к своей правде, Архангельский восходит, по-моему, к Платону, как это понимал Бахтин: <<
взаимоотношения между познающими людьми, создаваемые различною степенью их причастности идее, в конце концов погашаются в полноте самой идеи>> [2, 197].Бахтин считал непродуктивным уподоблять диалог Платона с диалогом Достоевского [2, 197]. Почему? Во-первых, потому что диалоги у Платона диалектичны, а у Достоевского - нет. <<
...в корне ошибочно утверждение, что диалоги Достоевского диалектичны. Ведь тогда мы должны были бы признать, что подлинная идея Достоевского является диалектическим синтезом, например, тезисов Раскольникова и антитез Сони, тезисов Алеши и антитез Ивана и т. п. Подобное понимание глубоко нелепо. Ведь Иван спорит не с Алешей, а прежде всего с самим собой, а Алеша спорит не с Иваном как с цельным и единым голосом, но вмешивается в его внутренний диалог, стараясь усилить одну из реплик его... Объектом авторских интенций вовсе не является... совокупность идей сама по себе, как что-то... себе тождественное. Нет, объектом интенций является как раз проведение темы по многим и разным голосам, принципиальная, так сказать... многоголосость... Повсюду - пересечение... или перебой реплик...>> [2, 196-197]. Диалектики, как видим, нет.Вот и у Пушкина, даже во Вступлении,- как мы видели,- все перебои и перебои. И Евгений у него не только одический в момент бунта:
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал... -
(слова-то какие: “чело”
, “пламень”, “вскипела кровь”, “мрачен”), у Евгения не только одический, но и противоположный момент:И с той поры, когда случалось
Итти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку...
То, что Бахтин называет: <<идеологические воззрения... также внутренне диалогизированы>>. Вот он - полифонизм.
Другое отличие всех диалогов от полифониста Достоевского: у всех герои облечены в семейную и сословную плоть, а у Достоевского - нет [2, 197]. Они как бы голые. <<Человек как бы непосредственно ощущает себя в мире как целом, без всяких промежуточных инстанций, помимо всяческого социального коллектива, к которому он принадлежал бы. И общение этого я с другим... происходит прямо на почве последних вопросов... Герои Достоевского - герои случайных семейств и случайных коллективов. Реального, само собою разумеющегося общения, в котором разыгрывалась бы их жизнь... они лишены... герои Достоевского движимы утопическою мечтой создания какой-то общины людей по ту сторону существующих социальных форм. Создать общину в миру, объединить несколько людей вне рамок наличных социальных форм стремится князь Мышкин, стремится Алеша, стремятся в менее сознательной и отчетливой форме и все другие герои Достоевского. Община мальчиков, которую учреждает Алеша после похорон Илюши как объединенную лишь воспоминанием о замученном мальчике и утопическая мечта Мышкина соединить в союзе любви Аглаю и Настасью Филипповну, идея церкви Зосимы, сон о золотом веке Версилова и “смешного человека” - все это явления одного порядка. Общение как бы лишилось своего реального тела и хочет создать его произвольно из чисто человеческого материала>> [2, 197-198].
У Пушкина тоже общение Петра и Евгения
лишено своего реального тела. Оба - неприкаянные, собственно вне семьи и сословия. Один - памятник, другой - сходящий с ума. И у Пушкина тоже утопия, уже как бы и не социальная: утопия о консенсусе в мире.Литература
1.
Архангельский А. Н. Стихотворная повесть А. С. Пушкина “Медный Всадник”. М., 1990.2.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.3.
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985.4.
Рейтблат А. И. Видок Фиглярин (История одной литературной репутации). В журн. “Вопросы литературы”, №3, 1990.Написано зимой 2000 г.
Не зачитано
Опыт медленного чтения
“Песен западных славян” Пушкина
Много вещей у Пушкина я читывал вскользь. Грешен. И не производили они на меня почти никакого впечатления. К таким относятся и “Песни западных славян”. И вдруг я наткнулся в одном сборнике статей на такое наблюдение над ними: <<
Единство цикла конституируется прежде всего типом героя и общностью... ситуации... Почти в каждой из песен сформирована пограничная ситуация на геройном... уровне [,помещенная в] особую историческую реальность: когда завоевание произошло, но господство завоевателя не установлено... Герои поставлены в ситуацию запредельного выбора, выбора между двумя невозможностями (Георгий Черный выбирает между убийством отца и соучастием в предательстве, гайдук Хризич - между смертью от голода и смертью в бою)... Мир “Песен...” - мир полной безвыходности>> [7, 61].И я подумал: Боже, Пушкин же угадал национальную суть югославов. Вспомнить их фильмы о второй мировой войне... Они же отличались какой-то особой жутью, трагедийностью. Раз за разом там свирепствовали гестаповцы над партизанами. Фашистам удавалось к ним внедриться, и героям приходилось выбирать между пыткой и предательством. И вот теперь
- распад страны, столкновение с НАТО, и опять запредельный выбор: не выдать Милошевича и других, которые осуществляли волю народа к собиранию сербов в одно государство, сохранить гордость и нищету с разрухой на необозримое будущее - или выдать и получить помощь от агрессоров на восстановление хозяйства. И в XIV веке Сербская деспотовина не смогла завершить консолидацию южных славян, и их разорвали Венгрия, Австрия, Венеция и Турция. Даже православной веры иные из них лишились, приняв кто - католичество, кто - ислам. - Вот что такое раздрай, длящийся уже семь веков. У всех был период феодальной раздробленности, но чтоб вошло это в национальный характер!..Но мы-то живем в век информированности... А Пушкин как угадал столь точно? - Гений?
А потом для меня все чрезвычайно осложнилось и, значит, стало интересным.
Во-первых, у Пушкина большинство песен переведены из “Гузлы” Мериме, издавшего их в 1827 г. Значит,- если Пушкин перевел Мериме верно,- приоритет постижения кошмарно-запредельной национальной сути южных славян принадлежит Мериме. Во-вторых, тот,- судя по его письму, включенному Пушкиным в свои “Песни...”,- шутил о своей “Гузле”, будто собрал песни на Балканах, а на самом деле, мол, выдумал их, на Балканах даже и не побывав. Причем и выдумал-то от нечего делать.
Ладно. Макферсон в предыдущем веке своими “Песнями Оссиана”,- мол, они тысячелетней давности, а им “теперь” переведены,- тоже мистифицировал публику, будто записал их в шотландской глубинке. Но он не насмехался над своей проделкой, как эти Мериме и Пушкин, особенно Пушкин. Мериме-то в частном письме признался в мистификации. Пушкин же - в предисловии к своему произведению. Как же относиться к песням? Серьезно? В соответствии с названной выше трагической пограничной ситуацией? Или иначе?
А ведь написаны-то “Песни...” в очень смутное для Пушкина время. Его идеал консенсуса в сословном обществе [2, 51; 3, 84,],- забрезживший ему в самом конце 20-х годов, и, я надеюсь, достаточно доказательно мною выявленный по произведениям двух болдинских периодов (1830 и 1833 гг.), -в 1834 году дал трещину. Этот идеал консенсуса в обществе вырастал из идеала консенсуса в собственной семье. А перспектива последнего в 1834 г. стала очень сомнительной. Жена так и не полюбила Пушкина. За ней стал ухаживать царь, красавец. Он предложил Пушкину службу при своем дворе (“
чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове”), и Пушкин счел возможным не отказаться. Это как разведка боем: посмотрим, выдержит ли идеал консенсуса жесткое столкновение с действительностью? И от такого испытанная кончился как бы инкубационный период отравления материалами по истории пугачевского восстания, из которых следовало, что идея консенсуса несостоятельна. Назревал новый кризис. Аринштейн заметил, что в то время Пушкин как поэт вообще ничего, кроме как о смерти, не написал [1, 99-100]. Вот и “Песни западных славян” все, кроме одной - “Наполеон и черногорцы”, - пропитаны некрофильством. Во всяком случае, так выглядит, если читать их “в лоб”.И все-таки измены жены еще не случилось, и, строго говоря, было не известно, случится ли. И русские крестьяне после пугачевщины, факт, в отечественной войне не приняли свободу из рук Наполеона, а восстания 30-х годов не стали массовыми, и было, опять же, не ясно, произойдет ли освобождение крестьян по-плохому. Такая пограничная ситуация точно соответствует той,- между поражением и порабощением,- что заметила Свенцицкая в “Песнях западных славян”: “
в реальной истории такой момент был очень краток, Пушкин же растягивает его во времени, добавляя события с сомнительным статусом реальности” [7, 61]. Похоже, что Пушкину насущно требовалось трезво взглянуть на собственный хаос в душе. Не осмеять. Он был слишком вовлечен в него. Во всяком случае стоило притормозить иллюзии относительно консенсуса, а себя переспросить: да полно, действительно ли есть от чего отчаиваться?И насмешка Мериме,- насмешка постфактум, насмешка уже другого Мериме, не прогрессивного романтика [5, 412] образца 1827 г., а реалиста 1835-го (таким годом помечено в пушкинских “Песнях” его письмо),- насмешка Мериме над своей мистификацией была на руку Пушкину. “Не верьте,- как бы предварял Пушкин,- тому, что прочтете дальше”.
А сам перевод песен он устроил так, что получалась там сплошная неопределенность относительно югославской реальности. Лучше всего это видно по получившейся наименее югославской вещи - “Вурдалак”. <<
Все, о чем говорится в стихотворении,- пишет Свенцицкая,- существования вурдалаков не отменяет, хотя и не утверждает>> [7, 62]. Действительно, перечитайте:Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой.
Бедный Ваня еле дышит,
Спотыкаясь, чуть бредет
По могилам; вдруг он слышит,-
Кто-то кость, ворча, грызет.
Ваня стал; - шагнуть не может.
Боже! думает бедняк,
Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.
Горе! малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем,
Если сам земли могильной
Я с молитвою не съем.
Что же? вместо вурдалака -
(Вы педставьте Вани злость!)
В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.
Если б стихотворение было без названия, это было б насмешкой автора над суеверием. И она таки есть, как одно из противочувствий (по Выготскому). Но вот когда сам автор назвал его все же “Вурдалак” (другое противочувствие) - дело меняется. Тут не насмешка и не серьезность, а неопределенность. Тем более что она исходит, получается, как бы от Пушкина, описывающего свое время и свою страну.
У Мериме не так. У него песня названа “Ивко” (явно югославское имя), то бишь, как метко заметил один психолог: “Привидения появляются там, где в них верят”. Появляются или ожидаются,- можно добавить. И у Мериме есть специальная глава от имени автора, “О вампиризме”, в которой он без комментариев цитирует трактат, протокольным языком описывающий факты вампиризма в конкретной деревне в конкретное время с конкретными свидетелями, причем весьма уважаемыми (вроде как сейчас в исследованиях уфологов, имеющих даже ученые степени). Мало того, автор рассказывает, что, будучи в 1816 году в деревне Варбоска, он оказался свидетелем того, как от вампира умерла дочь Вука Польоновича, у которого он остановился, и как с вампиром (того не тронули в могиле черви, и в нем была жидкая кровь) расправились жители деревни. И лишь после этой главы у Мериме идут песни о вампиризме.
Можно, конечно, вчитавшись, заметить позицию автора, мол, мало ли что можно в трактате намолоть; а что кровь жидкая - так не указал же он, сколько покойник в могиле пролежал; а что черви не тронули - так об этом крикнула женщина, и, может, черви и не должны так уж скоро трогать труп; а что след укуса на шее был у девушки - так, может, то действительно был укус, но насекомого, отчего девушке и приснилось нападение вурдалака (описан же случай длинного сновидения, кончающегося гильотнированием, что приснилось человеку за долю секунды после падения ему на шею карниза); а что девушка таки умерла - так чего не бывает от самовнушения. Но это все уже слишком тонко, и впечатления неопределенности Мериме не оставляет.
У Мериме только насмешка. Она исходит якобы от югославского певца, гузлара. Это одно из противочувствий, имеющее в виду идеалом запредельную храбрость. Но та не может быть идеалом француза эпохи Реставрации, когда требовалось только изворотливость в предпринимательской гонке, гонке, с которой недавней революцией были сняты многие, но не все, оковы. Тому (а это неизвестный издатель “Гузлы”) такая храбрость кажется дикой (другое противочувствие), которое он так и поименовал в предисловии: “творения полудикого народа, и потому я был далек от мысли опубликовать их”
[6, 27]. Зато от столкновения этих противочувствий в 1827 г. у Мериме и всех тех, кто через 3 года совершил новую революцию, устранившую с предпринимательской гонки уж совсем все оковы, у всех них возникал катарсис прилива бодрости и уверенности в борьбе. С кем борьба у романтика Мериме? - С эпигонами классицизма, воспевающими возврат из безобразия рыночности всего и вся к порядку и нравственности феодализма и религиозности. Это как писал тогда Гюго: <<В настоящее время существует литературный старый режим, так же как политический старый режим>> [4, 127]. И призывал: <<Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам>> [4, 105], имея в виду классицизм. “Гузла” и ударяла. Жутью и дикостью иррациональности. Это как в 1991 году Ельцину годились любые наркоманы и рокеры для увеличения толпы, противостоящей танкам гэкачепистов.Но в 1834-м, после жалкой победы во Франции революции 1830 года, да еще глядя из России - жуть “Гузлы” воспринималась не по-боевому, а в лоб - как жуть, и не могла оставить равнодушным закручинившегося к этому времени и засомневавшегося Пушкина. Он однако был бы не художником, если б свой цикл по мотивам Мериме сделал предназначенным для восприятия в лоб. Вот в “Вурдалаке” и организовал через противочувствия - катарсис: неопределенность вампиризма
.Вот другое стихотворение о вурдалаке - “Марко Якубович”. Как он здесь организовал противочувствие?
Главные действующие лица здесь совсем не Марко, а раненый басурманами пришелец, ставший после смерти вурдалаком, и справившийся с вурдалаком калуер. И такие невероятности здесь происходят, что даже с точки зрения человека суеверного они выглядят сомнительными. Судите сами.
Как мог пришелец стать после смерти вурдалаком? - Об этом у Пушкина сказано в предшествующем “Гайдуке Хризиче” (Пушкин не зря - через примечание о кровососании - связал эти две песни). Венецианские полицейские солдаты выследили пещеру-жилище семьи бандита Хризича и окружили ее. Жена Хризича умерла от жажды. На очереди был старший сын. Младший сын предложил ему свою кровь - напиться. А отмщением после их здесь неминуемой смерти от жажды и голода должно было, как известно, стать вурдалачество по отношению к врагам.
Можно понимать, что раненый басурманами гость Якубовича стал после смерти вампиром по такой же причине. Не зря ж он, появившись, просил в первую очередь пить.
Но почему ж он после смерти пришел сосать кровь сына Марка, а не тех басурман, от места стычки с которыми он, смертельно раненый, за три дня дотащился пешком - так это было близко? Почему такая неблагодарность? -
Событие с сомнительным статусом реальности,- как выражается Свенцицкая. Какой реальности? - Реальности суеверного югослава.Далее. Ну убежал вурдалак от расправы. Ну стал все же опять приходить в дом Якубовича. Но почему - не в своем облике? - Опять -
событие с сомнительным статусом реальности. Опять - реальности суевера.Да было ли все пропетое гузларом на самом деле?! Не приврал ли ему кое-что Марко?!
Это - катарсис. И возникает он от сшибки принимаемых за правду строф гузлара - с названием песни: “Марко Якубович”. Назвал бы ее гузлар “Вурдалак” - было бы ясно, что он своим авторитетом гарантирует, что все так и было. А раз назвал “Марко Якубович” - именем персонажа, почти не действующего по сюжету... а лишь рассказавшего, видно, этот сюжет... - Сомнительно его свидетельство.
То есть опять мы имеем дело с выражаемой Пушкиным неопределенностью
.Причем выражаемой вопреки Мериме (здесь я говорю не о духе Мериме, а о, так сказать, букве; дух, как я уже отмечал, у Пушкина в принципе другой, не прогрессивно-романтический). Так вот, по Мериме, с точки зрения югослава,- не было ничего сомнительного в том, что пришелец стал вампиром: Якубович же не подумал, что нельзя православного хоронить на католическом кладбище (Якубович - католик) - покойник не сможет успокоиться в земле, станет вампиром и будет мстить тому, кто там его похоронил. Что и случилось. А Пушкин этот факт опустил. Для чего? - Для выражения неопределенности в конечном итоге.
То же видим и в упомянутом “Гайдуке Хризиче”.
Бо`льшая часть песни разрабатывает страдания членов семьи Хризича в многодневной осаде их, по-видимому, жилища-пещеры, страдания от жажды и преодоление ее. Жена - “находит выход” в естественной смерти-облегчении, старший сын, почти сходя с ума, - намеревается напиться ее крови, младший - предлагает ему свою кровь. Как и подобает, по принципу Выготского, стихийно применяемому всеми художниками, а в данном случае - Мериме под личиной гузлара, такое столкновение рождает катарсис: восхищение перед теми, у кого и мысли не зародилось о том, чтоб сдаться властям. Соответственно песня и называется - “Храбрые гайдуки”. Множественное число применено.
Собственно Мериме, предстающий без личин, организовывает другое столкновение противочувствий: позиции издателя, для которого нравы югославов дики, - с позицией гузлара. Позицию гузлара мы только что выяснили. А позиция издателя видна из примечаний, что гайдуки это бандиты без пристанища, не любящие трудиться и живущие с разбоя. И вот какое получается уродство: средство обеспечения жизни семье - разбой - отстаивается героически вплоть до лишения себя этой жизни. Мериме уродством нужно было взорвать классицизм и противный порядок режима Реставрации. И он добился - катарсисом от столкновения таких противочувствий - сочувствия себе во Франции, находящейся в предреволюционном состоянии в 1827 году.
А в 1834 г. усомнившийся в добре Пушкин организовал еще иной катарсис.
Он - под личиной гузлара - отказался от множественного числа и назвал песню “Гайдук Хризич”. Только главу семейства, мол, воспевает гузлар. А ведь Хризич деспот. По тексту и понятно и видно, что только его присутствие не дало родиться мысли у жены и детей о том, чтоб сдаться. Только из-за него сыновья аж тайком отирают слезы по умершей матери. Только под его моральным влиянием поднялись сыновья в атаку, на смерть. Это героизм сомнамбул.
Так что прав пушкинский гузлар, заметивший разницу между героизмом отца, с одной стороны, и сыновей, с другой. Те даже имен не заслуживают в его песне (в отличие от гузлара Мериме, поименовавшего сыновей: Христич и Александр). Только оставшиеся в живых после внезапной атаки этой камикадзевской семьи полицейские, которым не известны психологические тонкости в среде бандитов, относятся ко всем трем одинаково:
Головы враги у них отсекли
И на копья свои насадили,-
А и тут глядеть на них не смели,
Так им страшен был Хризич с сыновьями
.Так если пушкинский гузлар воспевает лишь отца, то за что? - Не за бо`льшую удаль. Все по семь врагов убили, в каждого по семь пуль попало. Воспевает за эстетическое отношение к смерти:
“...лучше пуля, чем голод и жажда”.
Сама чеканность этой формулы говорит не об утилитаризме. Это - идеал демониста. И его же воспевает пушкинский гузлар.
Но как неубедительно! Лишь одна строка пришлась на положительную эмоцию, против тридцати отрицательно окрашенных.
Это - столкновение. И катарсис от него есть сомнительность. Опять перед нами реальность с сомнительным статусом.
А этот героизм Радивоя в якобы героической песне “Битва у Зеницы-Великой”... Под самый конец проигранной битвы, отказавшись попытаться удрать, он “наземь сел, поджав под себя ноги”. Сомнительного достоинства телодвижение. Да и вся песня, ведущаяся от имени единственного оставшегося в живых воина,- из двадцати человек арьергарда вокруг Радивоя, - сомнительна. Воина-то почему басурманы не убили? Как фактография последних слов песни могла стать известна гузлару? Да еще такое примечание Пушкин придал к заглавию: “Неизвестно, к какому происшествию относится эта песня”. Может, его и не было, понимай. У Мериме соотвествующее примечание, довольно пространное, не наводит на сомнение в самом факте битвы.
А самая первая песня - вещее “Видение короля” - снабжено примечанием исторического порядка, подтверждающим видение: с боснийского кроля турки при Мухаммеде II содрали кожу. Зато есть примечания, тоже исторические, дезавуирующие в качестве вещих другие моменты описываемого видения. Так как ко всему этому относиться? - Опять возникает некая неопределенность.
Одно из примечаний относится к слову “бомба”, появляющемуся в конце песни (взрыв бомбы обрывает видение короля в осажденном городе):
Вдруг взвилась из-за города бомба,
И пошли басурмане на приступ.
У Мериме примечание выглядит так: “Магланович видел бомбы и мортиры, но не знал, что эти орудия разрушения были изобретены уже после смерти Мухамеда II”
[6, 42]. Мериме мистифицировал, будто “издатель” собрал песни на Балканах. И, чтоб ему поверили, применил,- в частности здесь,- такую тонкость, как ограниченность будто бы реального гузлара-современника Иакинфа Маглановича, одного из таких, которые не просто поют по памяти, но и импровизируют и сочиняют собственные песни. Мериме даже включил в свой сборник сразу после предисловия “издателя” целую статью-биографию Маглановича, с которым “издатель” на Балканах встречался. И даже на первом листе книги поместил гравюрный портрет этого Маглановича. Многие песни так или иначе помечены как имеющие отношение к этому гузлару. Вот и песня о видении - тоже.Пушкин лишь одну песню приписал (в подзаголовке ее) Маглановичу - “Похоронную”. И к подзаголовку тому отнес примечание-статью, перепечатав и переведя биографическую статью Мериме (яркая, мол). Так свою перепечатку Пушкин предварил несколькими фразами, где не преминул написать о Маглановиче: “неизвестно, существовал ли он когда-нибудь”. Опять - видите - вездесущая неопределенность.
А примечание к “бомбе” Пушкин сократил до одного слова: “Анахронизм”. То, что у Мериме работало на достоверность, у Пушкина заработало наоборот.
Да и сама фактура “Видения кроля” - видение - есть неопределенность по своей вещей сути относительно действительности.
И последняя песня - “Конь” - есть, в сущности, мы понимаем, предчувствие того же короля (конь на вопросы, почему он грустит, отвечает, что потому, что из кожи хозяина ему сделают чепрак, подстилку под седло). Чувство - с кибернетической точки зрения - есть механизм дальнего предвидения будущего. Не очень определенный результат дает этот механизм. Насколько ж более неопределенно предчувствие! Да и наша догадка, что речь тут о короле Боснии, что и в первой песне, - тоже не очень достоверное явление. Мало ли с кого турки сдирали кожу. Это у них не исключительное дело. И Пушкин не преминул и тут навеять неопеделенность. Он отказался назвать песню определенно, как Мериме - “Конь Фомы II”.
И так - по всем песням. Неопределенность, неопределенность... Неопределенность жути, уродств и другой негативности.
Пушкин даже не стал переводить баллады Мериме, отмеченные позитивом: умыкание невесты по ее согласию, напев гребцов - вид трудовой песни, экспромт красоте незнакомки... Только одно исключение, поместил Пушкин в центр своего цикла: победительное “Наполеон и черногорцы” - может, для контраста. Ну и военная тематика в нем - не выпадает из общего жестокого колорита (у Мериме позитивное не выпадало тоже: из колорита экзотического). К тому ж Пушкина, может, насмешило, что Мериме свою соответствующую новеллу подверг сомнению через примечание: “Нет такого народа, который не воображал бы, что весь мир смотрит на него. Наполеон, мне кажется, мало думал о черногорцах”
[6. 102]. Ну так Пушкин и тут сделал наперекор Мериме: не перевел этого примечания.Художественный смысл всего пушкинского творения, собранного под названием “Песни западных славян”, всех прозаических и стихотворных кусков - следующий. Похоже, что ненадежность в мире всепроникающа, неизбывна, экзистенциальна. Консенсус невозможен. Похоже... Но все ж это, возможно, так - не на все сто процентов. Возможно.
И этот художественный смысл целого, этот сок сквозит в каждом кусочке, в каждой песне. А процитировать его - нельзя. Ибо поэт не был бы поэтом, если б мог выражать то, что будоражит все его существо, вплоть до подсознания, напрямую, так сказать, в лоб.
Да и нам, читателям, нужен изрядного напряжения труд души, нужно сотворчество, чтоб адекватно откликнуться катарсисом.
Литература
1.
Аринштейн Л. М. Пушкин. Непричесанная биография. М., 1999.2.
Воложин С. И. Беспощадный Пушкин. Одесса, 1999.3.
Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса, 1998.6.
Гюго В. Собрание сочинений в 15-ти тт. М., 1956. Т. 14.7. История французской литературы. М., 1956. Т. 2.
8.
Мериме П. Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1983.Т. 1.9.
Свенцицкая Э. М. “Песни западных славян” А. С. Пушкина как художественное единство. В кн. “Донецкий государственный университет. Литературоведческий сборник.” Вып. 2. Донецк, 2000.Написано зимой 2000 - 2001 г.
Не зачитано
О художественном смысле поэмы “Анджело”
А. С. Пушкина
Прочитав у Фомичева про трансформированную Пушкиным из поздневозрожденческой новеллы Чинтио и шекспировской комедии “Мера за меру” поэму “Анджело”, что <<
характерное для позднего Возрождения трагическое начало совершенно не ощутимо в пушкинской поэме, рационалистически отчетливой по рассказу и классически ясной по стилю>> [3, 232], я с этим вполне согласиться не смог. Там же много негативного!.. Я стал перечитывать, выписывая слова с мрачной аурой.Часть первая, строфа I: “сетовал”
, “карающий” закон - 2 слова. Ну это еще начало, где рассказано, как было хорошо когда-то и, объективно и безэмоционально, - как стало теперь. Строфа II: “раскаяньем смущенный”, “зло”, “молчанием суда”, “казнь”, “несправедливо”, “потворством”, “бремя”, “расправой”, “крут и строг” - 10 слов. Здесь муки раскаянья Дука за свое потворство злу и решение самоудалиться. Строфа III: “суровый”, “бледнеющий в... посте”, “нравы строгие”, “стеснивший”, “оградою”, “нахмуренным”, “непреклонный”, “в ужас ополчил”, “докучного” - 12 слов. Здесь характеристика мрачного наместника Анджело. И так далее. Строфа IV - 7 слов. Меньше. Так зато она и сама поменьше. Здесь общая картина надвинувшегося на страну кошмара нового правления. Строфа V - 11 слов. Здесь - об отрытом Анджело законе о прелюбодеяниях. Строфа VI - 11 слов. Тут - как попался Клавдио на совращении Джюльеты. Строфа VII - 11 слов. Как он попросил Луцио пойти к сестре в монастырь, может, выручит. Строфа VIII - 13 негативно окрашенных слов. Разговор Луцио и Изабелы. И так далее по строфам: 6, 8, 4, 11, 11 угрюмых слов - как Изабела пыталась Анджело упросить. В последней строфе только 2 мрачных слова. Так зато там Изабела обещает его задарить молитвами. Во второй части - ночная тоска Анджело от греховных мыслей - две строфы, 13 мрачно окрашенных слов. III строфа очень большая - как Анджело склонял Изабелу согрешить с ним - 60 негативно окрашенных слов. В кратчайшей IV строфе 3 таких слова. Там - ужас положения Изабеллы. В V-й (15 мрачных слов) - ужас духовного приготовления к смерти Клавдио монахом в тюрьме. В VI - 19 - разговор Изабелы с Клавдио. И так далее - в третьей части: мрачная аура инспекции Дуком, инкогнито, своих владений; печаль брошенной супруги Анджело Марианы; невеселые попытки ее утешать; тревожная ночь ожидания последствий утешения; ночная смерть пирата и отрезание его головы для предоставления Анджело вместо головы Клавдио; муки совести негодника Анджело и картина его подлости перед возвратившимся Дуком; грозная расправа Дука над Анджело. В общем, жуть.И в то же время Фомичев немного прав, что в поэме есть шутливый тон. Вот как подытожено то разложение нравов, которое заставило Дука принять, наконец, какие-то меры:
...хуже дедушек с дня на день были внуки,
...грудь кормилицы ребенок уж кусал...
А сама эта временна`я дистанция происходящего:
Когда-то властвовал предобрый старый Дук...
Ну, как, мол, это нас касается?!. Или эта оценка рассказчиком намерения в одночасье все поправить:
Чтоб новый властелин расправой новой мог
Порядок вдруг завесть...
Усмешка ж, не иначе. Или рассказчиково легкое отношение даже к казням:
По пятницам пошли разыгрываться казни...
И какой-то идиотизм, на современный взгляд, казни за прелюбодеяние. Даже и когдатошним людям представлявшаяся несуразностью:
...смеялась молодежь
И в шутках старого вельможи [Анджело] не щадила
А это рассказчиково ерничество в словосочетаниях: “таинствам любви безбрачной”, “младая Изабела... с важною монахиней сидела” - и его шаловливое внимание к беспутнику Луцио. Все это вполне соотносится со словами Фомичева: <<вызывающее, торжествующее веселое неприятие аскетизма и ханжества>> [4, 206]. И, я думаю, все согласятся, что эти слова надо бы применить для аналогии с новеллой Раннего Возрождения.
Как же быть с тем, что источник Пушкина явно из Позднего Возрождения? - А спокойно. Пушкин волен был переставлять ударения в заимствованиях. Чинтио в середине XVI века был певцом рефеодализации, шедшей в Италии с конца XIV века. Сам Боккаччо в начале этой рефеодализации отказался от своего блудливого “Декамерона” и шатнулся в аскетизм. Свобода в самом деле коррелирует с беспорядком. Когда все рванулись к низким идеалам, в шкурничество - государственного, высокого, общественного ресурса стало не хватать. <<Существовала даже такая мера: новоизбранных правителей подвергали на известный срок затворничеству, лишая общения с женщинами, дабы они не отвлекались от выполнения государственных дел>> [2, 21]. А тут еще восстания бедноты против пустившихся во все тяжкие новых эксплуататоров, хозяев мануфактур. Так что все кончилось тираниями под маской республик или без оной. Высокое Возрождение потому и приобрело такую творческую энергию, что появились организованные антигуманистические силы, которым необходимо было мощно противостоять. Причем в качестве реакции на разброд и гуманисты и их противники считали необходимым исповедовать (причем многие - искренно) гармоническое соединение высокого и низкого. У рефеодализаторов акцентировалась честь, женская - не в последнюю очередь. Чинтио тут был воинствующим писателем. И Пушкину это было совсем не нужно.
Нет. Вышучивать монашку Изабелу Пушкин не стал. Она, чистая без изъяна, нужна была ему, чтоб расколоть моралиста Анджело:
...или когда святого уловить
Захочет бес, тогда приманкою святою
И манит он на крюк? Нескромной красотою
Я не был отроду к соблазнам увлечен...
А вот хлопотать о чести Анджело ему, ради “принципа природы”, проводившегося рассказчиком, не требовалось. Вот Анджело и пал. Все очень по-человечески, гуманистично. И оправдано: страсть. И никакой насмешки над непомерной этой страстью вы в поэме не почувствуете. Анджело вполне возрожденческий титан в своей страсти. Титан со знаком минус - тиран, бессильный перед своим разыгравшимся “принципом природы”. И Фомичев не прав, что в поэме шутливый тон - <<господствующий>> [4, 210]. Шутки пропадают еще до исчерпания Луцио своей роли - с середины VIII строфы (а в поэме их 27).
И Пушкину совсем не требовалось, как требовалось Шекспиру, делать из Анджело человека бесчестного от природы. Шекспир свою “Меру за меру” писал в третий, гамлетовский период. Англия в то время, со своим бесчестьем и ужасами первичного капитализма (более страшными, чем ранневозрожденческий индивидуалистический разброд в итальянских городах-республиках в XIV веке), довела Шекспира до полного разочарования в гуманизме. Не зря,- как писал Аникст,- <<в “Гамлете” преобладают образы, связанные со смертью, гниением, разложением, болезнью>> [1, 601]. Не зря в “Мере за меру” такие огромные пласты цинизма и грубости в уличных и тюремных сценах. Не зря Анджело у Шекспира отказался в прошлом жениться на своей невесте-девице только под предлогом слухов о ее бесчестии, а на самом деле - прослышав, что она лишилась приданого. Пушкину всего этого не надо было. Он в 1833 году не был таким разочарованным, как Шекспир около 1600 года. Поэтому Пушкин выбросил шекспировский цинизм и грязь, а Анджело сделал женатым на Мариане, которую тот бросил из-за слухов, даже и не веря им, а просто из принципа “жена Цезаря должна быть вне подозрений”. Пушкину хватало в Анджело просто проснувшейся огромной страстности, “принципа природы”.
Но тени шекспировского мрака (столь тщательно мною пересчитанные выше) Пушкину тоже нужны были: потому что в 1833 году он не мог про себя сказать: мой идеал теперь - хозяйка, покой, щей горшок, да сам большой,- что соответствовало бы “принципу природы”, пробивающемуся в шутливости рассказчика в поэме “Анджело”.
И вот - перед нами вездесущее столкновение противоречивых элементов, вызывающее столкновение противочувствий и, как следствие, - катарсис, то ради чего (сознательно и неосознанно) художник сотворил все произведение, то есть его художественный смысл. Художественный смысл трудно осознать, обычно, именно потому, что он есть порождение в том числе и бессознательного (и у автора, и у читателя) и из-за этого очень легко ошибиться. И потому так часто избегают все (и автор, и читатель, и даже критики) внятно интерпретировать художественное произведение. Ну, а мы - попробуем.
Не согласитесь ли вы, что в самом конце поэмы опять возникает шутливый тон? У Шекспира в комедии тон саркастический - слишком это большое нагромождение случайностей: и Герцог случайно слышит разговор Клавдио и Изабелы (мог бы и не оказаться в нужную минуту в нужном месте); и в тюрьме в нужный миг оказывается труп разбойника, голову которого, обрив, можно спокойно отрезать и представить Анджело, будто это Клавдио голова; и безумно любит Анджело его когдатошняя невеста, настолько любит, что несмотря на проявленную им низость, в том числе и по отношению к ней, она просит у Герцога прощения для Анджело; и нелогично поступает этот гамлетовского типа Герцог, подумывавший вообще об уходе из жизни - не только от власти,- настолько она плоха (у Герцога в комедии четверть текста) - так не слишком ли нелогичен такой Герцог, под занавес вдруг сватающийся к Изабеле? Горькая тут усмешка у разочаровавшегося в действительности Шекспира. Пушкин ее смягчил - лаконизмом описания невероятных совпадений и отсечением кое-каких. И пусть вы даже не согласитесь видеть улыбку в финальной феерии, но последняя полустрока поэмы:
И Дук его простил. -
она-то точно шутливым рассказчиком произнесена.
Это опять противоречие с мрачным колоритом пушкинской поэмы. И - катарсис: не дай нам Бог в будущем такие порядки, как в описанном прошлом, когда благо народа зависит от прихоти правителя. Случится добрый правитель - добрая будет и прихоть. А если нет? Никаких гарантий! Народ - плох, самовластное правление им - тоже плохо. Что же хорошо? - Будущий некий консенсус народа с правителями,- если вспомнить уже неоднократно доказанный мною по произведениям двух болдинских осеней (1830 и 1833 годов) идеал тогдашнего Пушкина.
Но не открытие ли это уже открытой Америки? - И да и нет. Фомичев еще в 1981 году в поэме “Анджело” увидел <<
связь с духовным наследием эпохи Просвещения. Она свидетельствовала о верности поэта высоким общественным идеалам>> [4, 210]. Это очень близко к идеалу общественного консенсуса. Но Фомичев общественную ориентацию валит в одну кучу с ранневозрожденческим “принципом природы”. А этот принцип является ж индивидуалистическим, а не общественным. Такая эклектика не может быть принята. Гораздо лучше, по-моему, используя противочувствия и катарсис по Выготскому, из столкновения шутливости “низкого” “принципа природы” с мрачным отвращением к нему со стороны “сверхвысокой” спиритуальности выводить единственный, единый, монистический результат: не “низкое” и не “сверхвысокое”, а - просто “высокое”. Вот общественный идеал и есть художественный смысл поэмы “Анджело”.Литература
1.
Аникст А. Гамлет, принц датский. В кн. Уильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Т. 6. М., 1960.2,
Егерман Э. Итальянская новелла эпохи Возрождения. В кн. Итальянская новелла Возрождения. М., 1957.3.
Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.4.
Фомичев С. А. Философская повесть А. С. Пушкина “Анджело” // Известия АН СССР. Серия лит-ры и яз., 1981, т. 40, №3.Написано весной 2001 г.
Не зачитано
Постижение Музиля
отталкиванием от Пушкина
Говорят, дураки не чувствуют себя дураками... Так хоть за то уже спасибо Роберту Музилю, что, написав “Человека без свойств”, он заставляет читателя почувствовать себя дураком... Он, правда, писал по-немецки, а я читал его в переводе на русский С. Апта. Но не думаю, хоть я и не знаю немецкого, что виноват тут переводчик или что иначе (понятнее) и не могло получиться из-за большой грамматической разницы между русским и немецким.
Смотрите - предложение:
“И хотя этот поцелуй в руку был всего лишь галантной шуткой, он походил на неверность тем, что оставлял такой же, как она, горький вкус наслаждения настолько близким, настолько низким наклоном к другому человеку, что пьешь из него, как животное, уже не видя собственного отражения в воде”.
Было бы неплохо увидеть точку после “неверность”: “И хотя этот поцелуй в руку был всего лишь галантной шуткой, он походил на неверность”. Потому что ожидаешь пространного объяснения такому неожиданному сравнению, как сравнение поцелуя в руку с неверностью. Ожидаешь поворота мысли. Но... Для многоопытных Апта и Музиля, видно, нет тут ничего особо неожиданного. И они, даже без запятой, пускаются во... все-таки пояснения этого сравнения.
Ладно. Ждешь запятую после “горький вкус наслаждения” и ждешь слово “настолько” после такой запятой. Ждешь уточнения, насколько же он горек, этот вкус. Но запятой нет.
Ладно. Есть в русском языке оборот “настолько, насколько”. Ждешь тогда именно его и тут. Но... И его нет. “Настолько” повторяется здесь оба раза.
Хорошо. Возможно, здесь - усиление, призванное ярче показать, насколько ж горек вкус неверности. Ждешь наречия, обозначающего признак другого признака. (Таково определение наречия.) Например, горький настолько, что было больно. Или - странно. Или - неожиданно. Или еще как-нибудь. Но... и наречия нет.
Хорошо. Мыслимо и действие в качестве уточнения горького вкуса: настолько, что морщишься от него. Или: настолько, что ужасаешься ему. Но... Натыкаешься на “настолько, что пьешь из него”. - Из чего? Из горького?! Из вкуса?!
Возникает подозрение, что тут вообще не горькость уточняется, а близость: настолько близким к другому человеку, словно “пьешь из него, как животное, уже не видя собственного отражения в воде”. Но... вместо “словно” применено “что”
.Может, и “что” годится.
Но не годится,- мне, во всяком случае,- что я так путаюсь в версиях. Я ж читаю художественное произведение. У меня ж нет времени распутывать грамматическое строение предложений осознанно. Я ж - не обучающийся грамматике русского языка.
Можно было б простить, если б сложности встречались редко. Ну не понял. Ну перечитал... Но такие трудности Апт с Музилем запускают густыми косяками.
Значит, что? Или я намного тупее их обоих, или...
Не думаю, что я настолько туп, что именно из-за этого вынужден сплошь да рядом смиряться с недопониманием текста.
Остается - что это специальное задание художника, сохраненное и переводчиком. Задание такое: внушить чуть не каждой фразой, как это трудно - повальные нравственные искания в обществе, охваченном кризисом.
Время и место, описываемые Музилем, подтверждают такую догадку. Речь идет о представителях разных общественных слоев в Австро-Венгрии перед самым началом первой мировой войны. Люди дурью мучаются от всяческой сытости. Им тошно и млошно в благополучии. Одним - уже тошно, другим становится тошно на наших глазах. А дурь заключается в том, что всех их тянет в некий,- у каждого свой,- экстремизм. Я его назову для остроты кратко и резко до сомнительности: ницшеанство (в философском плане), имморализм (в нравственном), милитаризм (в политическом), фашизм (в идейном), культ преступника (в бытовом плане) и т. д. и т. д.
Высоконравственную Диотиму, кузину главного героя, аристократа Ульриха, тянет в супружескую измену то ли с редкостно культурным всем довольным дельцом Арнгеймом, то ли с красавцем и умницей бунтарем Ульрихом, но ей это все никак не дается. Бонадея, эпизодическая любовница Ульриха, светская шлюха, мучается переходами от убедительного состояния перед очередным своим падением к состоянию после него, текущему “как чернильно-черный поток” (мне это напоминает акмеиста Гумилева, в те же, описываемые, годы воспевавшего безбожную исключительность, ницшеанство и крестившегося на каждую церковь, или - раннюю Ахматову). Кларисса, жена ульриховского друга, Вальтера, - уже готовая ницшеанка, мучающаяся лишь тем, что она мало выражает свою суть в жизни: не считать же, мол, действием отказ в супружеских обязанностях несостоявшемуся гению, своему мужу. Действием было бы прижить ребенка от Ульриха. Но тот ее не хочет. Действием было бы спасти от казни или хотя бы увидеть сексуального маньяка Моосбругера. Однако и это не удается. Не удовлетворена. Томится. Не удовлетворен и Моосбругер. Он, изощренно убивший проститутку за то, что она к нему приставала, считает себя героем и хочет казни, но та все откладывается из-за споров, считать ли его полностью или частично невменяемым. За неподсудность Моосбругера, если он лишь частично вменяем, стоит отец Ульриха, правовед. Ему тошен безапелляционный бюргерский порядок. Но он, старик, умирает, так и не дождавшись решения вопроса. Ну и зачем жил он, “тихий чудак... подчинявшийся мирской иерархии, усердно служивший ей, но таивший в себе всякие мятежные побуждения, выразить которые он на избранном им поприще не мог”? Показаны его похороны и полная никчемность человеческой жизни. Даже собственные дети ему при жизни не в радость были. Он их не любил. Семейно не жил. Ульриха и его сестру, Агату, разослал в разные места, не воспитывал. Те почти не знали друг друга. Оба выросли этакими ледышками, как бы отгороженными в себе от всего мира.
Соответственно нудоте, так или иначе одолевающей каждого персонажа, в огромном романе почти ничего не происходит. Сюжет строится на нелепой Акции: придумать, как перещеголять Германию,- где вскорости будет праздноваться 30-тилетие правления кайзера Вильгельма,- перещеголять вот-вот приближающимся празднованием в Австро-Венгрии 70-тилетия правления императора Франца-Иосифа. У Диотимы периодически собирается изысканное общество для решения такой задачи. Отец Ульриха устраивает Ульриха секретарем этой акции. А Ульрих, которому на все наплевать (он “взял на год отпуск от жизни” и решил, что, возможно, покончит с собой, если не найдет смысл жизни в конце этого отпуска), пока взялся кое-как за секретарство. И - перед ним (и нами) развертывается картина жизни общества, находящегося в тупике.
Мы знаем, что выход был предрешен логикой развития империалистического капитализма: обделенные историей молодые национальные капиталистические страны требовали передела мира в свою пользу - и началась мировая война.
Такой, ставящий экономику во главу угла (а значит, марксистский), подход был несвойственен Музилю. Он видел не дальше психологии личности. Но видел, что что-то зреет, что так жить нельзя.
“Но время от времени после таких состояний довольства нападает их противоположность, на земле начинается вдруг бурная скачка идей, после которой вся человеческая жизнь располагается вокруг новых центров и осей. Более глубокая, чем повод, причина всех великих революций состоит не в накоплении неблагоприятных условий, а в износе солидарности, которая подпирала искусственное довольство душ”.
И вот Музиль еще в 1905 году задумал свой роман. Перед первой мировой войной стал его писать. И писал аж до второй и во время второй, не доводя действия до лета 1914-го. Чувствовал, наверно, что вещь будет актуальна на века. И я,- со своей идеей фикс о повторяющихся в веках и изменяющихся по синусоиде идеалах (с вылетами вон с синусоиды на ее перегибах),- подтверждаю теперь, что Музиль актуален и сегодня. Мир,- западный, по крайней мере,- опять изнывает от сытости. И,- это предрекают некоторые,- человечество вступает в эпоху межцивилизационных конфронтаций (а исламская революция - первая ласточка). Мир опять находится в точке нижнего перегиба Синусоиды изменения идеалов, где от нее - Синусоиды - ответвляется вылет с нее субвниз, в неоницшеанство, в неофашизм и т. д.
Музиль каждой из ипостасей этого субниза не сочувствует. Но становиться в обличительную позу сатирика или публициста тоже не хочет: сатира ведь наиболее тенденциозный, следовательно, наименее художественный род искусства из четверки (лирики, эпоса, драмы и сатиры), а публицистика - уж и вовсе за гранью искусства. Музиль же - художник. И - он выбирает якобы почти научную, объективную точку зрения на изображаемую всеобщую тенденцию субвниз - психологизм. Читаешь роман и прямо задумываешься: не перещеголял ли Музиль Льва Толстого?
Но сколько бы ни старался Музиль быть поменьше тенденциозным и предвзятым, сколько бы ни смягчал свое презрение, гнев и к довольству, и к упоминаемой реакции на довольство, низводя свой негативизм всего лишь до тонкой иронии, до легкого юмора и умной усмешки, - автору не удается отмежеваться от главного героя, супермена Ульриха, который находит-таки приемлемый автору-индивидуалисту вариант индивидуалистического же протеста против пошлого, легко достижимого идеала средних людей.
Эта находка сюжетно полностью проявляется во второй книге. Там кстати, как рояль в кустах, вдруг появляется сестра Ульриха Агата, и они, почти незнакомые друг с другом, влюбляются друг в друга, Агата бросает мужа, Ульрих - любовницу, и они удаляются от общества (от этой Акции, единственного, что еще связывало в последние месяцы Ульриха с обществом) и уединяются в маленьком дворце Ульриха в Вене, сказав всем, что они уехали, на чем роман и заканчивается, судя по посмертной публикации 14-ти последних глав. Так что неизвестно, чем бы его закончил автор, доживи он до их публикации сам.
Знал ли Музиль в 1905-м году, до чего он доведет своего Ульриха? - Может, и нет, судя по неожиданности вторжения в сюжет Агаты. Но уже в первой книге он всячески обелил своего любимца от всего, что могло бы ему повредить в мнении читателей.
Время, когда Ульрих был кавалеристом, дуэлянтом и совратителем жен штатских лиц, а следовательно, воплощением зла, отнесено в неописываемое романом прошлое, и автору можно отмежевываться от того имморалиста, как отмежевывается и сам нынешний Ульрих. Отстранение, угадываемое в Ульрихе, от своих современников, индивидуалистически довольных, а также индивидуалистически недовольных действительностью, совпадает с авторским, и оттого оба - герой и автор - то и дело оказываются до неразличимости похожими. Ульрих с самого начала романа показан уходящим из обычной жизни. Эскапизм - идеал и автора, и главного героя. Оба отказываются от активизма. Ульрих никому не вредит, хотя,- помнится по прошлому,- лучше себя чувствовал, если поступал непорядочно с обывательской точки зрения. Автор тоже в жизни повел себя не как другие авторы: не стал рваться к писательским гонорарам, славе, постепенно перестал писать что бы то ни было, кроме своего бесконечного романа (все - для кайфа творчества), и едва не умер с голода..
(В последнем все же он отличается от своего героя, которому он придал наследственную материальную обеспеченность и отказ от создания уже брезжившей в его уме новой школы в математике.)
Но в общем, Ульрих оказался рупором авторского идеала. А идеалом этим,- если одним словом,- стала некая нирвана для себя. Это почти впрямую заявлено в последних строках романа (из чего я заключаю, что Музиль,- проживи он дольше,- в таком же роде роман бы и закончил).
“Конечно, ему [Ульриху
] было ясно, что оба типа человеческого бытия [западного, европейского, фаустовского - с одной стороны - и восточно-нефаустовского, созерцательного - с другой, как это следует из предыдущих цитируемому абзацев]... оба типа человеческого бытия, поставленные тут на карту, не могли означать ничего другого, как человека “без свойств” - в противоположность наделенному всеми свойствами, какие только может предъявить человек. Одного из них можно было назвать нигилистом, мечтающим о мечтах бога,- в противоположность активисту, который, однако, при своей нетерпеливой манере действовать, тоже в каком-то роде богомечтатель, а никак не реалист с ясным и дельным взглядом на мир. “Почему же мы не реалисты?”- спросил себя Ульрих. Они оба [он и Агата] не были реалистами, ни он, ни она, в этом их мысли и действия давно уже не оставляли сомнений: но нигилистами и активистами они были, и порою одним, порою другим, как уж складывалось”.Посмею тут поспорить с Музилем ради, как мне кажется, большей четкости того, что он сделал своим романом.
По Музилю,- если в лоб,- получается, что Ульрих (и такие, как он: например, Агата) есть человек без свойств потому, что он - то активист-ниспровергатель обычного, то созерцатель-нигилист, мысленный ниспровергатель обычного. Порою один, порою другой. То есть никакой.
Но по фабуле-то он сначала один, потом другой. И на том кончается. На другом. Конец-то весомее начала. Он - достигнутая цель. А достижение - нирвана, некое ничто. Вот потому-то и достигший, и стремившийся в это отрицание действительности и есть человек с соответствующими этому “ничто” качествами: человек без качеств.
Впрочем, это - отвлечение от мысли о главном герое как рупоре идеала автора, отрицающего действительность.
Вернемся к рупору и отрицанию действительности. Такое обстоятельство не могло не потребовать от создателя литературного произведения некоего акцента на литературности в пику жизнеподобию.
Образцом, может, и непревзойденным, разрушения литератуности является,- по Лотману,- пушкинский “Евгений Онегин”. Так зато Пушкин вовсе и не отрицал действительности, когда (в середине 20-х) разворачивал этот роман в стихах. Это у него был окончательный перелом, полный отказ от продекабристского коллективистского неприятия монархической и крепостнической российской (и вообще европейской реакционной) действительности. Нечего плевать против ветра,- как бы говорил Пушкин, прислушиваясь к естественности, к здравому смыслу якобы пошлого большинства.
А Музилю была противна и подобная естественность, и все обратившиеся против той противоестественности. За исключением противоестественности созерцательной.
Так, благодаря Лотману и Пушкину, я понял все, что не похоже на жизнь, всю нарочитую литературность Музиля.
Смотрите.
Ну мыслимо ли, чтоб хулиганистый мальчишка, Ульрих,- плавно превратившийся в хулиганистого кавалериста,- разочаровавшись в армии, не позволяющей ему безобразить вволю, стал довольно преуспевающим инженером, а потом математиком, последняя, так и не опубликованная работа которого позволяла ему сказать о себе, “что я, вероятно, не без основания мог бы считать себя главой новой школы”? - Как говорится, только в кино такое может быть. Или: мало ли, что можно в книжке намолоть...
Но Музилю нужно было, чтоб Ульрих, разочаровавшись в возможностях аморальной активности, на пути к нигилистической созерцательности и индивидуалистической нирване прошел бы какую-то промежуточную выучку в областях, удаленных от вопросов моральности-аморальности. И - Музиль, ничтоже сумняшеся, провел своего героя через эти ступени. Ретроспективно. В воспоминаниях. И очень общо. Так, что неинженеры и нематематики, пожалуй, и не заметят вопиющей неестественности внешней стороны такой биографии героя.
А если кто заметит? - Музиля, похоже, устраивает, что заметившие эту накладку поймут внутреннюю необходимость ее. Ведь такие развитые читатели не осудят литературность как таковую.
То же - с понятливостью в отношении абстракций невежественной,- по ее беспощадной самооценке,- Агаты. Музилю ж нужно, чтоб недопустимая обществом (да пока и Агатой с Ульрихом) полноценная половая любовь этой пары выражала себя в бесконечных разговорах и не больше. Вот Музиль и сделал необразованную Агату интеллектуалкой.
Впрочем, интеллектуальны в этом интеллектуальном романе все герои (кроме слуги Арнгейма и служанки Диотимы - для создания, видно, точки отсчета). Итак, интеллектуальны все, чего в жизни, конечно, не бывает. Но Музилю и это нужно. Он же их всех не переносит. Или за пошлое довольство, или за не менее пошлый индивидуалистический бунт от пресыщения тем довольством. Художнику же своих героев надо любить. Что делать? Вот Музиль и отыгрывается - хотя бы наделением их интеллектуальностью. Кроме того ему ж нужно,- объективистски хотя бы,- показать, как трудно люди меняют идеалы в преддверии кризиса.
Вот и соответствующие затрудненные и удлиненные предложения, как уже говорилось, Музилю нужны. А это ж тоже - литературность.
Или, скажем, тот факт, что все герои у него говорят как бы одним голосом, не отличимым от авторского... Даже глупый генерал говорит так, как это делал бы умнейший автор, неумело притворяясь дураком. Смотрите:
“- Там есть один марксист,- объяснил Штумм,- утверждающий, так сказать, что экономический базис человека целиком и полностью определяет его идеологическую надстройку. А ему возражает психоаналитик, утверждая, что идеологическая надстройка - это целиком и полностью продукт базиса, который составляют инстинкты”.
Переврано (генерал не шутит) огрублением: “...целиком и полностью...” Но как кратко резюмировано! Дурак, по-моему, так бы не смог.
Откуда такая одноголосость? - От объективизма, от субъективности, притворяющейся объективной. От того, что автор изначально знает, против чего он и за что. Против - всего, что не его. А что его - лишь ему по плечу и редко кому другому. Он - как бог по отношению ко всем. И все ему нужны лишь для опровержения и тем большего самоутверждения. И больше ни для чего! Ему с самим собой хорошо. Автор - утопист. С утопией трудно, но достижимой.
Вот Пушкин в конце 20-х тоже повернул от достижимого, лично-семейного идеала к утопизму, к широкому консенсусу в сословном обществе. Так это был,- по Синусоиде изменения идеалов,- поворот с нижнего поворота: вверх, к коллективизму. Пушкину нужны были голоса всех сословий российского общества. И - мы их слышим в “Повестях Белкина”.
Утописту Музилю, беглецу из общества, с идеалом индивидуалистическим, на нижнем вылете субвниз с Синусоиды на ее опять нижнем повороте, чужие голоса не нужны. Вот их и нет в романе.
Такое, второе, сравнение с Пушкиным еще раз утвердило меня во мнении относительно Музиля. А так же подтвердило плодотворность типологического сравнения художников, поскольку история изменения идеалов в чем-то всегда одна и та же.
Однако только подтверждения и без того неоднократно проверенного мною метода мне было б мало, чтоб заняться Музилем. Музиль,- при всей затрудненности чтения его прозы, при всей незанимательности сюжета его романа, при всем неизбежном читательском недопонимании многих его мест,- настолько убедителен в картинках психологических нюансов и особых психических состояний, что ему веришь. И тогда оказывается возможным усовершенствовать мою схему исторического развития идеалов и их ветвлений на варианты в кризисные эпохи в зависимости от личной твердости или приспособляемости художника к переменам в мире..
До сих пор индивидуалистический вылет субвниз, к сверхчеловеку, у меня был просто экстремистски агрессивным. А теперь оказалось, что он двоится на активную и созерцательную агрессивность. По-музилевски: на западно-фаустовский и восточно-нефаустовский типы.
И теперь мне стало ясно, что буддизм (по крайней мере, ранний) - это религия другого полюса по отношению к иудаизму, христианству и исламу. Та троица - по крайней мере, при рождении тех религий - для коллективистов. А буддизм - для индивидуалистов. (Подтверждающая справка из энциклопедии:
“В основе буддистской концепции поведения лежит сознание внутренней отдаленности субъекта всему, что его окружает”.)А тот факт, по Музилю, что активизм может трансформироваться в созерцательность, не потерпев предварительно внешне видимого поражения от жизни, заставляет меня понять сочинителя - а ля Музиль - той байки, что тибетская цивилизация, господствовавшая над соседями как имперская, с помощью силы, несколько веков тому назад самопроизвольно демилитаризовалась и стала цивилизацией монахов и аскетов, каждый из которых живет лишь для себя, и нет ему дела до кого бы то ни было.
И ясно, почему в жизни идеологически активничающие при своем организационном зарождении фашисты именно в Тибете, где,- в противоположность упомянутой байке,- наиболее свежа память о теократическом государстве,- начинающие фашисты искали мистические опоры для своего учения и из Тибета взяли себе символ - сломанный крест. Несломанный крест, символ коллективистского христианства, религии слабых, должен быть сломан!
Мне стало смутно понятно, почему Будда был принцем до своего просветления. Буддизм - религия не гонимых и страдающих масс, а религия,- при ее зарождении, по крайней мере,- бунтарей, которым,- каждому,- надоела заорганизованность, регламентированность, иерархизация прежней все пронизывавшей религии, брахманизма, эстетизировавшего толстобрюхих, то есть неработающих, то есть высшую касту, то есть погрязшую в довольстве.
Мне стала ясна парадоксальная чувственность буддизма при его аскетизме. (Подтверждающая справка из энциклопедии:
“Буддистская доктрина среднего пути одинаково отвергает погружение в чувственные удовольствия и умертвление плоти”.)Я понял, почему дзен-буддизм стал в моде у молодых индивидуалистов хиппи, презиравших довольство своих богатеньких родителей.
Соответственно, я понял, почему Ульрих так победительно красив, умен, желанен абсолютно для всех героинь романа. Не от поражений он пришел к созерцательному нигилизму. Даже Моосбругер, может, и из-за ущербности утвердившийся в своем сумасбродстве, все-таки убил проститутку не за отказ отдаться, а наоборот - за приставание к нему. И потом, как и полагается, этот сумасшедший не осознает себя сумасшедшим и ущербным. Наоборот - героем. (Сравните с буддизмом, в морали которого “
нет понятий ответственности и вины как чего-то абсолютного”.)И лишь сумасшедшего Моосбругера и почти сходящую с ума явную ницшеанку-одиночку Клариссу,- среди всех отвергаемых им героев,- похоже, Музиль любит-таки (за сумасшествие полного - у Моосбругера - и почти полного - у Клариссы - игнорирования ими окружающих). И эстетическая любовь эта проявляется наибольшим приближением речи этого плотника к простонародной и речи сумасшедшего, а речи и, особенно, письма Клариссы - к полуненормальному извержению слов.
Да, Музиль саркастически придает многим, ему ненавистным, так сказать, профашистам такой сюжетный ход, как защиту ими от казни Моосбругера: они, мол, дают тем самым выход своим трусливым желаниям тоже преступать закон, общественное. Когда Музиль и Ульриху придает такое деяние - это Ульрих издевается над трусами, боящимися даже произнести, даже позволить себе осознать то, что они желают тайно или подсознательно. Музиль считает, что будущую язву активного индивидуалистического фашизма, чтоб уничтожить в зародыше, - нужно вскрыть. И поэтому ему тут ненавистны трусы-профашисты. И потому он так прячет свою ненависть в объективизм (чтоб не применили к нему поговорку: Зевс, ты гневаешься, значит, ты не прав,- и чтоб не махнули на него рукой за тенденциозность и мнительность).
Но воинствующий фашизм,- в лице грязнули Ганса Зеппа,- фашизм, объединяющий сподвижников для победы над врагами, ненемцами, фашизм, тем самым, коллективистский - такой фашизм ненавистен Музилю практически открыто. И тут в характеристику Ганса: “с нечистым цветом лица и тем более чистыми мыслями” - врывается явный голос автора. (Вы чувствуете это музилевское грамматическое напряжение? Раз “тем более”, то нечистыми должны, вроде б, быть и мысли. Это мелькает в подсознании читателя, как прозрение лицемерия Ганса. Лицемерия - потому что автор-то,- как и Ганс,- на гора-то выдает мысли “чистыми”.) И разоблачающему автору тут неважно, что Ганс Зепп смел, как Моосбругер и Кларисса. Ганс - не сумасшедший. И тем опасен.
А Моосбругер (да почти и Кларисса) сумасшедшие и тем способны отвратить людей от зла. И потому Музиль эстетически любит этих смелых: те - маяки для непорочных людей. А порочным автор предлагает созерцательный фашизм, раз уж впадать в фашизм вообще-то свойственно природе человека.
Так, в противопоставлении пушкинской милости к падшим, имевшей в виду, в первую очередь, осужденных декабристов, а в общем плане - ориентацию на общественно-коллективистское сверхбудущее, родственное с христианским,- в таком противопоставлении еще раз лучше познается индивидуалистический шедевр Музиля.
Мне жаль, что не удалось здесь четко выявить, по Выготскому, сочувствия, противочувствия и возвышение чувств, катарсис. Может, хватит того, что ненависть Музиля выявлена противоположностью: как приверженность к научности. Здесь - к спокойному и подробному психологизму деталей поведения и мышления героев.
Написано весной 2001 г.
Не зачитано
Пришвин и Пушкин
Когда-то здесь, в Пушкинской комиссии, был прочитан доклад о глубинном родстве русских символистов с Пушкиным. Выступление было принято в штыки, и докладчица больше на заседаниях комиссии не появлялась, косвенно признавая тем свою неправоту. Соглашаясь с негативизмом комиссии, я тем не менее хочу повторить опыт той докладчицы, причем в еще более усложненном варианте. Сведя символизм к разновидности воспевания сверхбудущего, грезящегося коллективистам, я хочу подобным певцом назвать Пришвина и в протее Пушкине найти его предтечу.
На такую мысль меня навел мой доклад о Музиле. Вы помните, кто слышал, что Музиль меня заставил нижний, индивидуалистический вылет субвниз с нижнего загиба Синусоиды исторической изменчивости идеалов искусства, вылет в ницшеанство с его идеалом сверхчеловека,- Музиль заставил этот вылет расщепить на два: активный и созерцательный.
Это, наверно, расковало меня. И я мечтательных символистов тоже “расщепил” на два вида: на, так сказать, земных и небесных. Небесные - это обычные символисты. А земные - Пришвин.
И те и тот мечтают о коллективистском сверхбудущем.
Например, Блок:
Так - белых птиц над океаном
Неразлученные сердца
Звучат призывом за туманом,
Понятным им лишь до конца.
А вот Пришвин:
Тяга
Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания: сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом - она не пришла...
...А после оказалось, раздумывал я: из того, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли... Так на месте одного лица стало все как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все...
Видите? Недостижимое, но в принципе достижимое, лучшее будущее, для всех - у обоих. Только у символиста Блока оно - заоблачное, туманное. А у Пришвина - какое-то земное и определенное что ли.
Этот отрывок - из поэмы “Фацелия” (1940 г.). Пришвину было тогда 67 лет. И, конечно, образ несчастной любви, развоплощенной в счастье творчества, есть тут лишь образ разочарований и очарований действительностью, сперва образ, общий с символистами, старшими и младшими, которые,- в конечном итоге и неосознаваемо,- в поражении народничества и революции 1905-го года и в нахождении упрямых выходов из этого находили вдохновение верить и творить. А потом, после “смерти” символизма, безобразия следующих революций и строительства социализма перед Пришвиным развернули новые разочарования и потребовали все того же якобы бегства вон, в природу, подальше от социума. Люди, которые не способны менять в течение жизни свой идеал под влиянием обстоятельств жизни, несгибаемые, так сказать, и по-своему мужественные, всегда найдут в действительности поводы для разочарования, а в душе - веру, чтоб их преодолеть. Так надо ли удивляться пришвинскому постоянству?
Можно удивляться лишь “родственному вниманию”, можно удивляться лишь методу, примененному Пришвиным. “Метод писания, выработанный мной, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и невидимой жизни моей души” [4, 320]. Впрочем, тут Пришвин не точен. Видимая жизнь это природа, жизнь на природе: “вальдшнеп”, “тяга”... Причем “цель его вовсе не в том, чтобы “очеловечивать” природу, “как Лев Толстой очеловечил лошадь Холстомера, перенося на нее целиком черты человека”. Дело идет о том, чтобы открыть “родственный человеку культурный слой в самой природе как таковой, в природе без человека” [3, 314].
А это не шутка. Венец творения, человек, человеческое общество и... жизнь природы без человека.
Тяга - весенний перелет вальдшнепов в поисках самки со случайным сбоем в этом перелете в какой-то день. И - “Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла”. То есть достаточно неслучайный женский поступок: сначала женись, а потом я тебе отдамся.Говорят, каждое сравнение страдает неточностью. Вот на такое, причем повышенное, страдание и обрек себя Пришвин: “...чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и не находило его..
.” Это был а ля символистский недосягаемый идеал.Только в своей оппозиции символистам, интеллигенции,- которая “
замыслилась”, “летает под звездами с завязанными глазами” [4, 318], а позволяет себе (за туманность) большие вольности,- Пришвин решил “умалить себя” и “отделаться от “мысли”” [4, 318], надев на себя вериги описания “природы без человека” [3, 314]. “Однажды Ремизов сказал: “Вот бы настоящим критикам разобрать интересный вопрос, почему Пришвин не хочет описывать людей, а все коров, собак и всякую такую всячину”.Это вот почему: потому что сердечной жизни человека (себя) я не понимаю и боюсь трогать это догадкой, спугивать, непережитое отдать бумаге, расстаться с будущим. Тут дело мудреное
” [4, 322, 323].Эти записки Пришвина не публиковались. И теперь, используя их, уже можно точнее определить, что же такое был Пришвин. Он был не натуралист, как его считали, а как бы некий реалистический символист.
Можно это доказать на любой главке, например, в поэме “Фацелия”, которую я стал тут рассматривать. Возьмем самые короткие главки.
Скрытая сила
Скрытая сила (так я буду ее называть) определила мое писательство и мой оптимизм: моя радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, закрывающую рану. Мы бы ничего не знали о лесной смоле, если бы у хвойных деревьев не было врагов, ранящих их древесину: при каждом поранении деревья выделяют наплывающий на рану ароматный бальзам.
Так и у людей, как у деревьев: иногда у сильного человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев смола.
В чем неточность данного сравнения: смола - поэзия? В том, что поэзия - удел немногих: “иногда”. А смола выделяется у всех пораненных хвойных деревьев. Причем каждый же знает, что не только у хвойных. И у вишен, например. То есть нельзя разделить деревья на сильных и слабых по признаку хвойности, так сказать. А Пришвин гордится своей силой: “мое писательство”, “мой оптимизм”.
(Нет, тут не эгоизм, не радость исключительности. “Ароматную смолу”
, “ароматный бальзам” знаем “мы”, множество - за запах, средство массового воздействия. Писатель Пришвин работает не только во имя себя, но и во имя всех. И “мы” у него даже преобладает: “Мы бы ничего не знали...” В аромате-то весь сыр-бор, а не в самосохранении.)Но главное: в одном предложении сошлись множественное число (“людей”) и единственное (“человека”). Это предложение даже выделено в отдельный абзац, финальный. Но не по принципу “лучшая защита - нападение”: слабость сравнения - победить красотой фразы. А по принципу: признаю, изреченное есть ложь, точность не достижима, а лишь желанна...
И тогда исключительность, “скрытая сила” того, кто не пожелал прятать в символистских туманах свой недостижимый ему идеал, возвращается и оправдывает название.
Или вот - то же, хоть и не о том (не о силе, а о слабости) - в другой главке.
Разлука
Какое чудесное утро: и роса, и грибы, и птицы... Но только ведь это уже осень. Березки желтеют, трепетная осина шепчет: “Нет опоры в поэзии: роса высохнет, птицы улетят, тугие грибы все развалятся в прах... Нет опоры...” И так надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями.
Казалось бы, вопреки себе здесь Пришвин,- как Лев Толстой с Холстомером,- очеловечил осину. Но нерв новеллы в том, что лирический герой главки отказывается от поэтизации по принципу отрицания отрицательного, то есть от не мытьем, так катаньем утверждения положительного.
Здесь надо объясниться. Ведь “эмоция в искусстве - тоже идея, ибо эмоция дана не как самоцель, а как ценность: положительная или отрицательная,- как эмоция, подлежащая культивированию или, наоборот, подлежащая вытеснению. Тем самым произведение содержит оценку эмоций, а значит и идею эмоций” [1, 101]. Идея поэтической осины заключается в отрицательной человеком оценке отрицательного для человека же. То есть - как подлежащая вытеснению человеком.
Но автор не поддался поэтессе-осине, а поступил, как просто осина без наличия человека на планете, вернее, как осиновый лист: “надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями”.
А это выглядит как полный идейный крах, то есть упадничество, декадентство. Но идейный крах не способствует художнику выдать произведение искусства. Выйти может лишь нечто безобразное по форме. А перед нами - вовсе не безобразие. В чем дело?
Видно, есть инерция, временной интервал между идейным крахом и его результатом, то есть созданным под его воздействием произведением уже не искусства, а, так сказать, неискусства. Упадническое настроение,- настроение, не больше (чего не бывает!),- еще может прорваться в произведение все еще искусства. Форма еще не успевает быть разрушенной. По инерции. Особенно - если произведение маленькое или - лишь моментом духовной жизни представлен идейный крах, настроением. Как здесь. Вот перед нами и явилось, как всегда у Пришвина, произведение искусства.
Это тем более верно, что декадентское настроение сработало тут на все ту же акцентируемую неточность сравнения природы без человека - с человеком. Главка называется “Разлука”, слово с яркой негативно-оценочной аурой, а смысл природы без человека - сорвавшихся листьев - в безоценочности.
Опять перед нами - недостижимость.
Так можно двигаться от фрагмента к фрагменту и обнаруживать все одно и то же: недостижимое, но не туманное.
Но я должен признаться,- помня, как я у Музиля художественный смысл - даешь созерцательность! - вывел из превалирования конца романа (с его созерцательностью) над всем корпусом повествования (с его активизмом), - я должен сознаться, что с пришвинской “Фацелией” я, похоже, поступаю наоборот.
Порывания в исключительное всего корпуса этой поэмы заканчиваются очень обыденно, такой вот главкой:
Любовь
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое люблю
.Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувств, спросила:
- А что это значит “люблю”?
- Это значит,- сказал он,- что если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь как осел...
...Фацелия напрасно ждала небывалого.
- Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом,- повторила она,- да ведь это же у всех, так все делают...
- А мне этого и хочется,- ответил художник,- чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.
И на этом последняя главка “Фацелии” заканчивается. И я, недавно, впервые заподозривший Пришвина в реалистическом символизме, передумал было. Но теперь еще раз передумываю.
Это художник, автор-персонаж из поэмы “Фацелия” метнулся в обыденность в последней главке, а не Пришвин. Пришвин же под видом женщины (существа, как считают издавна и многие, ближе стоящего к природе, чем мужчина), Пришвин ввел и тут опять “природу без человека”. Ну, если и с человеком,- художником,- то совсем не подпадающую под его влияние (посмотрите на эту иронию женщины: “работать ослом”). Еще совсем не известно, что ответит художнику женщина. И уж точно, что его она не полюбит. Так уж повелось на земле, что хоть биологическое развитие человечества 40 тысяч лет тому назад закончилось (фазой homo sapiens), и естественный отбор прекратился, но женщин все тянет и тянет выбирать и любить среди мужчин самого-самого. И в этой главке с названием “Любовь”, видно, опять мы имеем дело с недостижимостью, а не наоборот.
Вообще, читать Пришвина очень тяжело. Неинтересно. Очень он далек от интересов людских. Я имею в виду людей обычных, без этих залетов своего идеала в сверхбудущее. У необычных- принципы, да такие, что не согласуются с действительностью. И совсем-совсем они не приспособленцы. Им и самим жить трудно, а если они художники, то воспринимать их трудно. Такого, как Пришвин, - особенно. Потому что свое незнание, как сверхбудущего достичь хотя бы в принципе, он не прикрывает обычным для символистов туманом.
В общем, трудно с ним. И я признаюсь, что мне нелегко далось понять что-либо, кроме “Фацелии”. А может, я и вообще не понял ничего, кроме нее.“Фацелия” как часть входит в двухчастную “Лесную капель” со второй частью того же названия, что и целое. В этой второй части чуть не всюду, что называется, нет человека. И как тогда искать этот “
родственный человеку культурный слой”?Возьмем, навскидку, любую маленькую главку.
Березы
Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья развертываются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом
.Это как обычный, каких большинство, человек для окружающих: живет себе незаметно, и лишь дни рождения его как-то отмечают знакомые, да похороны. И все. Дата рождения и дата смерти - вот и вся его характерность. Грустно...
Так это - в интерпретации. Но почему эта интерпретация не есть дурной размышлизм. На чем она основывается? - Ни на чем. Повествование ж - нейтральное, а не грустное.
Это мучительно: зачем же написано?! Только чтоб убежать от дрянного в обществе? Только от незнания пути в лучшее будущее?
Дневниковая запись писателя, вроде, отвечает: “Да”. “
Это вот почему: потому что сердечной жизни человека (себя) я не понимаю и боюсь трогать это догадкой” [4, 323].Недостижимость сверхбудущего тут гармонирует с недостижимостью адекватной интерпретации.
И все-таки, думается, этим последним штрихом адекватная интерпретация все-таки достигнута. И избавляет сейчас от анализирования все новых и новых произведений Пришвина.
Теперь - к Пушкину.
Он тоже,- перед смертью, которую предчувствовал,- писал о недостижимом для него сверхбудущем обществе. Во всяком случае, я так понимаю такие его стихотворения, как “(Из Пиндемонти)”, “Отцы-пустынники и жены непорочны...”, “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”, “Когда за городом, задумчив, я брожу...”.
Вот возьмем последнее и посмотрим, как,- если можно так выразиться,- пришвинский метод тут использован: “
писать как живописцы, только виденное, во-первых; во-вторых, самое главное - держать свою мысль всегда под контролем виденного” [4, 318].Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвые столицы,
[Ну, грешен, гниение лирический герой мнит, а не видит. Но, думаю, это можно не принять во внимание.]
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
[Ну и это, оценочное, сравнение с неприсутствующим на кладбище давайте тоже не зачтем.]
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
[Тут тоже, правда, слышится уничижительная оценка от лирического героя. Но зато она “под контролем виденного”.]
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
[Третий раз прошу не учитывать элемент, который умопостигаем. Три - это ж мало.]
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут, -
[Это предвидение слишком логически элементарно, чтоб просить за него извинения, так сказать, перед Пришвиным.]
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
[Так как предмет наблюдения тут все же не только кладбище, но и самонаблюдение ходящего по нему человека, то допустимо описание и едва ли не наблюдаемой на его лице непосредственной реакции. Тут пока все же не пейзаж души.]
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
[Тут уж, конечно, пейзаж души. Но не романтический, по Жуковскому, туманно-зыбкий, как сама душа, и сделанный исключительно на ореолах значений слов, минуя их главное значение и грамматическую связь, что заимствовали потом и символисты. Нет. Тут пушкинский пейзаж души. Реалистический. Не гнушающийся главными значениями. “Осеннею” взято, конечно, для печального призвука. Но это и вполне определенная пора года. То же с “вечерней” и “в деревне”, разделенными реально соответствующей им “тишине”. И т. д.]
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...
Все - виденное и под контролем виденного.
И Пришвин дважды ошибся, написав, что “
никто в литературе этого не сделал, кроме меня” [4, 318], а также, что “”никто” сознательно, бессознательно талантливые люди делают так “все”” [4, 318].После Пушкина, Пушкина-реалиста, - может, и все бессознательно талантливые так делают. Но до него - никто. Ни сознательно, ни бессознательно талантливые. Это открытие Пушкина-реалиста для русской литературы: соединить открытые романтиком Жуковским обертоны смысла слов с господствовавшими в классицизме только главными смыслами слов [2, 107].
Конечно, для просто символистов, залетавших за облака в своем стремлении к туманно-недостижимому это открытие Пушкина-реалиста было мало нужно. Но в конце жизни Пушкин,- от осознания утопичности своего последнего идеала (идеала консенсуса в сословном обществе),- стал как бы реалистическим символистом.
В процитированном стихотворении художественный смысл заключается, конечно же, не в удержанной под контролем виденного на двух кладбищах мысли, мол, вот что такое хорошо и что такое плохо на том свете. Это было бы прочтением “в лоб”.
Художественный смысл тут в исканиях сейчас того недостижимого, что будет когда-то на этом, а не том свете. Нисколько не обнаружило себя автору то сверхбудущее. Пока непостижимо, а не только недостижимо. Но, судя по методу “
держать всегда под контролем виденного”, судя по нему, постижение недостижимого возможно. И все это есть некий реалистический символизм. И именно он является предшественником Пришвина, осознавал Пришвин это или нет. А так как мыслимы и неосознаваемые литературные влияния, то так, видно, тут и есть.Нынче я опять не делал акцент на столь любимых мною противоречивых элементах, через вызываемые ими противочувствия провоцирующих катарсис, то есть принципиально нецитируемый художественный смысл произведения. Но надо ли напоминать, что сама природа сравнения противоречива и страдает недостижимостью точности, что и использовал Пришвин, как я показал, во всю.
Литература
1.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л., 1966.2.
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.3.
Кожинов В. В. Предисловие к “Записям о творчестве” Пришвина. В альманахе “Контекст·1974”. М., 1975.4.
Пришвин М. М. Записи о творчестве. В альманахе “Контекст·1974”. М., 1975.Написано летом 2001 г.
Не зачитано
О художественном смысле
“Тазита” А. С. Пушкина
и других его
произведений
того же времени
написания
Верный тому следствию из известного принципа Выготского о катарсисе, что катарсис, вызванный литературным творением, т. е. его художественный смысл, не может быть процитирован [2, 16], я раз вознамерился найти у Пушкина такое произведение, в котором бы воспевался, так сказать, низкий идеал, о котором Пушкин впрямую написал в 1830-м, уже осознав его как уходящий (потому-то и можно его процитировать):
Мой идеал теперь - хозяйка,
Мои желания - покой,
Да щей горшок, да сам большой.
И еще:
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой, я мещанин.
Искать надо было после разочарования Пушкиным в Николае I и перед началом нового очарования - утопией о всеобщем консенсусе в сословном обществе, т. е. где-то перед 1830-м годом [2, 19]. И лучшей иллюстрацией такого низкого идеала, идеала частной жизни, без залетов, идеала, достижимого здесь и сейчас, является, по-моему, стихотворение 1829 года “Делибаш”:
Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
Делибаш! не суйся к лаве
,Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.
Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Правда ж - сшибаются тут не только отчаянные воины, но и трагический сюжет - с легкомысленным пританцовывающим ритмом стихотворения?
В чем дело? - А в том, что Пушкин здесь не чтит ни героизма, ни насмешки над ним.
Если предположить, что Пушкин и в жизни мог заигрываться: строить ее на противоречиях - как художественное произведение,- если поверить свидетелям, что и в жизни в то время он нарывался на смерть, лез под турецкие пули, будучи в армии в ее арзрумском походе,- то ясно, что в последней глубине души его руководило такими поступками. - Прямо противоположное: желание устроить свое семейное гнездышко с Натальей Гончаровой, матерью которой его предложение дочери руки и сердца в том, 1829, году не было принято, хотя и не было отклонено, отчего Пушкин и рванул куда глаза глядят - подальше, может, и вон из жизни.
Соответственно я предлагаю понимать и “Монастырь на Казбеке”:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав “прости” ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
А правда! Что мешало путешествующему поэту действительно уйти от суеты сует мира? И в стихотворении тоже нет никаких указаний на связанность чем-то лирического героя. Он свободен, а хочет... свободы. Это ли не столкновение противоречий? И не предсказанный ли катарсис вызывает так акцентированное прочтение? Именно
“семьею гор” хочет быть стеснен Пушкин, ущельем...А если взглянуть на вольный Терек, то мечтается ему, как тот пленен обвалом:
Обвал
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
[Вы не слышите блаженного стона в этом восклицании?]
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал...
[А прорван он был, как окажется далее, снизу, образовав снежный мост над рекой.]
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод,
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где нынче мчится лишь Эол [бог ветров]
,Небес жилец.
И эта игра воображения лирического “я”, это столкновение несуществующего с существующим говорят нам, что Пушкин не такой уж поклонник свободы и воли был в 1829 году. Он - здесь - НАД. Он здесь полностью индифферентен. Вот здесь-то уж точно <<он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине>> [1, 259]. Вот здесь-то уж самый низ Синусоиды идеалов, точка ее перегиба, где движение этой кривой никуда: ни вверх, ни вниз - не направлено.
С этой точки зрения характерно, что Пушкин перечеркнул в черновике финал “Кавказа”:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят...
Сюжет этого всем памятного стихотворения составляет то, что открывается взгляду стоящего на Кавказском хребте лирического героя, взгляду, скользящему все ниже и ниже. И чем ниже, тем сперва все более радостное, а потом - все более тягостное настроение им овладевает. Если “Арагва в тенистых брегах” это еще хорошо, то “нищий наездник таится в ущельи” уже плохо. И далее идет нагнетание отрицательной ауры: “в свирепом весельи”, “зверь молодой, / Завидевший пищу из клетки железной”, “вражде бесполезной”, “голодной волной / Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады: / Теснят его грозно немые громады”. Лирического героя не устраивает жизнеустройство у людей. Его не устраивает и парение над этим всем, как ни сладострастно он все это описывает. Он бы хотел чего-то среднего, что мельком прошло под взглядом сверху вниз, как что-то незначительное. Он бы хотел жизнеустройства не такого контрастного, как устроены горы. “Кавказ” рожден нарождающимся новым идеалом - не горам аналогичным. Столкновение прекрасного в горном пейзаже с ужасностями горской жизни дает такой катарсис: да - аналогии бесперепадного, как бы равнинного мироустройства. В Пушкине бессознательно рождается идеал консенсуса в человечестве.
<<
Напечатать стихи, выражающие сочувствие Пушкина народам Кавказа, угнетаемым империалистической политикой Николая I, конечно, было бы невозможно, и Пушкин перечеркнул стихи “Так буйную вольность законы теснят” еще в черновом варианте, даже не дописав строфы>> [4, 875],- написано в примечаниях к стихотворению. Но, думаю, дело не в задушенном вольномыслии Пушкина. Дело в том, что тогда он еще не хотел никаких грандиозностей. Он хотел устроить свою частную жизнь. А общественный консенсус это уже некая новая грандиозность. Она, если и забрезжила тогда, то - как невозможность без общественного консенсуса даже такой малости, как идеал частной жизни осуществить.Эта мысль мне и открылась в тогдашней же поэме “Тазит”. Открылась сразу же по ее прочтении (когда я принялся ее читать, помня свой поиск примеров выражения Пушкиным своего низкого идеала).
Действительно, смотрите: человек не хочет добывать средства к существованию путем убийств, не хочет находить в убийствах эстетическое и нравственное удовлетворение, хочет жениться и трудиться, быть тихим и маленьким и в том чувствовать, что он сам большой. И все. Никаких огромностей и экстрем. И этакая малость недостижима, если окружение живет экстремами.
Конечно же, я с большой симпатией прочел у Олега Шмелева его многочисленные выкладки о том, что Пушкин во многом себя имел в виду под именем Тазита [5].
И, наоборот, ученнейшие доказательства [3] колоссальной этнографической осведомленности Пушкина и указания, что и в действительности в Кабарде его времени началось расслоение горцев на мирных и немирных, на принимающих европейскую цивилизацию и не принимающих, мне кажутся неприменимыми в качестве вдохновляющего момента для создания “Тазита”. Судите сами. Ведь тот факт, что в Кабарде было принято отдавать младшего сына на воспитание в Чечню, как более устойчивую в противоборстве России и более верную исламу, не объясняет, как же получился обратный эффект с героем поэмы. В чем дело?
А в том, что Пушкину нужно было столкнуть этнографическую невероятность с этнографической точностью, чтобы “сказать”, что не в этносе дело, а в общечеловеческой коллизии: необходим консенсус в большом масштабе, чтоб достигнуть блага даже в масштабе малом.
А тот факт, что Пушкин изображал в чем-то себя в Тазите, от столкновения с другим фактом, что это все же изображен горский юноша, - это столкновение работает точно на такой же катарсис: не важно, кто это, важно, что для кого угодно личное счастье требует счастья общественного в качестве своей предпосылки. (Очень немодная формула для нынешнего нашего времени, времени массового спуска вниз по Синусоиде идеалов. Но что поделаешь: Пушкин в 1829 году начал новый подъем по этой Синусоиде, подъем с самого ее низа.)
Хочу согласиться с Олегом Шмелевым, когда он объясняет, почему Пушкин, всегда писавший для себя, но печатавший для денег, не кончил “Тазита”, переписал его набело и никогда не опубликовал, хотя из денежной нужды никогда не вылезал: предложение было Гончаровой принято, трагический конец поэмы, на который настроился поэт, в жизни не состоялся, а искушать судьбу публикацией явно трагического отрывка, обладающего законченностью даже и в оборванной форме, когда он сам является во многом прототипом, суеверный Пушкин не хотел. Пушкин-Тазит нужен как элемент, противоречащий Тазиту-кабардинцу. Без противоречий нет катарсиса. А без катарсиса - художественного смысла. А только о последнем-то я и забочусь.
Можно мне попенять, что я отступил от хронологии, располагая пушкинские произведения вдоль своей логико-временно`й синусоиды. Мол, “Кавказ” написан раньше “Обвала”, “Делибаша” и “Монастыря на Казбеке”, а я все ж именно в “Кавказе” увидел первый намек на отход от низкого идеала частной жизни в проблеске нового, повышенного, так сказать, идеала: бесперепадного, как бы равнинного мироустройства.
Что ж. Правда. Но ведь рождение произведения искусства управляется психологией человеческой. А в ней есть такие явления как предчувствия, предвидения, воспоминания. Они создают настроения. Под настроение сочиняется стихотворение. И - настроения колеблются тоже по синусоидальному закону. Соответственно - и художественные смыслы почти в одно время созданных произведений. Это как бы маленькие синусоидки, которые можно различить в линии синусоиды побольше. Да еще на перегибе линии Синусоиды идеалов близко лежащие участки так мало отличаются по своей направленности вверх, вниз или ни вверх, ни вниз... Так что немудрено, если будущая тенденция подъема идеала вдруг проявится на короткое время среди стихов, вдохновленных идеалом низким. И пусть это не кажется анахронизмом.
Как факт - написанные чуть ранее, чем “Кавказ”, стихи “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”. Что значат эти пронзительные, парадоксальные столкновения мыслей о смерти с местами и моментами, самыми неподходящими для таких мыслей: с улицами шумными, с многолюдным храмом, с безумным пиром юношей, с, казалось бы, вечным дубом, с минутой у колыбели младенца? Что значит это словно зеркальное прежним всем - столкновение мыслей о вечной юности и красоте с местом опять неподходящим для таких мыслей - со склепом фамильным? И что значит само столкновение этих парадоксальных столкновений? - А то значит, что ежеминутно и мучительно жаль, когда невозможно удовлетворить такое для дворянина казалось бы
простое стремление, как продолжить свой род в законном браке с достойной женщиной.В 1829 году доминирующим у Пушкина был идеал низкий, идеал частной жизни. И лишь в конце года он начал плавно и незаметно переходить к идеалу консенсуса в общественной жизни.
Литература
1.
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985.2.
Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы... Одесса, 1999.3.
Турчанинов Г. К изучению поэмы Пушкина “Тазит”. В журн. Русская литература, 1962, №1.4.
Цявловский М. А., Петров С. М. Комментарии. В кн. А. С. Пушкин. Сочинения. М., 1949.5.
Шмелев О. Странная поэма Пушкина. Попытка нового прочтения. В журн. Огонек, 1970, №№ 26, 27.Написано летом 2001 г.
Не зачитано
Штрихи к панораме творчества
Пушкина в 1831 году
Лишь теория решает, что мы ухитряемся наблюдать.
А. Эйнштейн
Я слышал замечательную иллюстрацию одного недостатка такого психологического явления, как стереотип в восприятии. “Почему,- спрашивал говорящий,- люди сотни лет как бы не замечали, что мачты кораблей скрываются за горизонтом так, будто земля не ровная, как утверждали мифы, а круглая?” - “А потому,- отвечал он,- что человек не видит то, что не укладывается в его стереотип. Сказано мне, что земля плоская и покоится на трех слонах. - Все. Я ее округлость в упор не увижу”.
То же было со мной по прочтении пушкинского “Рославлева”. Сказано мне еще в школе, что в Отечественную войну 1812 года был всеобщий патриотический подъем в России, который и определил ее победу над Наполеоном; что само название - “Отечественная” (с большой буквы) это патриотическое единство отражает. - Все. Я не вижу, что этого единства нет у Пушкина в “Рославлеве”.
Более того. Читаю в комментариях об этой вещи: <<
Поводом к написанию “Рославлева” явился роман М. Н. Загоскина “Рославлев, или русские в 1812 году”. Роман этот возмутил Пушкина своим квазипатриотизмом>> [8, 906]. И это тоже не произвело на меня впечатление.И только прямые слова Слюсаря: <<
Единение нации во время Отечественной войны - едва ли не такая же утопия... Не совместными усилиями всех сословий, а героической самоотверженностью народа и лучших представителей дворянства была спасена Россия в 1812 году - так выглядит ситуация в пушкинском “Рославлеве”>> [7, 166],- только эти прямые слова открыли мне глаза на прочитанное.Действительно, перечитываю:
“Все говорили о близкой войне, и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого Моста [я понимаю, что на этой московской улице торговали французскими товарами] и тому подобным”.
Тут даже патриоты жалки, не говоря уж о космополитах.
“Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко”.
Впечатление такое, что <<
лучшими представителями дворянства>>, на которых могла надеяться Россия перед войной, были... только одна Полина, подруга рассказчицы, от имени которой идет все повествование в пушкинском “Рославлеве”. Даже столь толково описавшая ситуацию рассказчица не входит в число <<лучших представителей>>. Это задним числом, много лет спустя, она стала такая толковая. А тогда, перед войной, она, шестнадцатилетняя и легкомысленная, была, как все:“ “Помилуй,- сказала я однажды [Полине]: - охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике, женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта”. ”
Само описание этой девицей появления M-me de Staёl в Москве перед войной, кажется, главным образом для того и существует, чтоб иллюстрировать пословицу: со стороны - виднее. Француженка резко разделяет Россию на народ и высший свет. И спасение от Наполеона заставляет видеть в народе:
“Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который, из угождения к иностранке, вздумал было смеяться над русскими бородами [вопреки обычаю, введенному Петром I, сохранившимися преимущественно у крестьян и купцов]: “Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову”.”
А солидарная с M-me de Staёl Полина представляется исключением в высшем свете.
Расклад сил, конечно, видится нелепым. Так зато и рассказчик - достаточно неуважаемое лицо: девушка шестнадцати лет. И я бы мог себя простить за свое невидение отсутствия всеобщего патриотического подъема в пушкинском “Рославлеве”.
Но дело сложнее. На момент рассказывания Пушкин придал рассказчице собственную пронзительность ума и слога. И нет мне прощения.
И высшее общество непосредственно во время войны описано как не на много лучшее, чем перед войной . Цитировать не буду. Упомяну лишь, что даже граф Мамонов, продавший свое имение и, понять надо, вооруживший и экипировавший целый полк на вырученные деньги, проходит в повествовании девицы лишь как произнесший речь о своем пожертвовании и как, по мнению маменек, “уже не такой завидный жених”, а восторг от него всех девиц проходит как увлечение новой модой, модой на патриотизм. И даже брат повествовательницы (безымянный, кстати), записавшийся в мамоновский полк, проходит - в тогдашнем восприятии девицы - больше как легкомысленный, пустой человек. И больше не видно истинных патриотов в поле зрения повествовательницы. И я мог бы и без Слюсаря это увидеть.
Зато когда Слюсарь меня встряхнул, я вспомнил, что ведь почти никто и никогда не пользуется противочувствиями Выготскго. И Слюсарь - вот - не пользуется.
И я понял, что двойной взгляд повествовательницы: легкомысленный (“тогда”) и умудренный (“теперь”) - толкает читателя на двойное восприятие. Согласно одному - легкомысленной повествовательнице не веришь и понимаешь российское общество консолидированным по большому счету. Так “до Слюсаря” читал пушкинского “Рославлева” я. Согласно восприятию другому (Слюсаря) консолидации общества по большому счету нет. И мы оба были не правы.
А правда, художественный смысл, как всегда, есть как бы геометрическая сумма разнонаправленных ви`дений. В чем же тут художественный смысл?
Чтоб не ошибиться, надо вспомнить, когда писался Пушкиным “Рославлев”. В 1831 году. Через год после болдинской осени 1830 года, когда у него забрезжил идеал консенсуса в сословном обществе и отразился в “Повестях Белкина”, в “Моцарте и Сальери”, о чем я уже неоднократно докладывал и писал [1, 50; 3, 84]. Мог ли этот новый идеал за год исчезнуть? Вряд ли.
И тогда пронзает мысль, что у Пушкина повторяется логика творческих замыслов. В 1829 году, исповедуя идеал Дома, семьи, он приходит к мысли (в “Тазите”, я докладывал), что недостижимость даже такого достижимого, казалось бы, идеала, как семейный, связана с общественной неустроенностью и требует идеала нового - общественного консенсуса, чтоб мог осуществиться идеал семейный. И вот теперь, в 1831 году, когда Европа грозит России новой войной (за Польшу, силой не выпускаемую Россией из состава империи), разве не ясно становится, что идеал консенсуса надо расширить до консенсуса международного.
Вот нейтральность и враждебность к войне с Францией, одновременно проявляющиеся в двойном ви`дении повествовательницы, ее космополитизм и патриотизм и призваны - чем? - идеалом международного консенсуса.
“Рославлев” не закончен Пушкиным. Но ясно, что судьба Полины в нем должна стать трагической:
“Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести... Он... возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени... Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги... Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель...”
Далее идет французский текст и к нему сноска Пушкина:
“Кажется, слова Шатобриана. - Примеч. изд. Перевод: “Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах”.”
Что должно было произойти? Даже по незаконченному тексту произведения чувствуется, что Полина и Синекур, пленный французский офицер, должны полюбить друг друга, и от этого должна быть беда. Трагедия же всегда такова, что когда герой умирает, зритель его правду уносит в своей душе. И правда эта в том, видно, должна была состоять, что идеал любви между представителями двух народов выше тех политических идеалов, которые делают эти народы врагами. И, значит, необходим консенсус международный.
Что-то такое чувствуется и в стихотворениях того времени.
Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом: одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин, [Кутузов]
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов.
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
“Иди, спасай!” Ты встал - и спас...
Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм - в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...
Разве не ясно, что тут столкновение страстного призыва с абсолютной его бесполезностью рождает катарсис грусти о самой необходимости этого призыва. Нет того подъема духа, какой был в 1812 году в справедливой войне против захватчика. Сейчас идет война сомнительной справедливости: восстала за свою независимость Польша. Россия сама, как захватчик. И о чем грусть? О том, что нет согласия между родичами-славянами или о судьбе, как пишут в комментариях: <<
польской компании в связи с нерешительными действиями командовавшего русской армией Дибича>> [8, 877] на фоне враждебности Европы? - Мне кажется,- помня пушкинский того времени идеал консенсуса,- что грусть - не из-за Дибича и угроз из Франции, а грусть - из-за отсутствия консенсуса.Это в 1821 году Пушкин (по Лотману [6, 76]) мог вести с Орловым неантагонистические споры и сдать своего тогдашнего конька - вечный мир аббата Сен-Пьера (в применении к тому времени - умиротворение Европы Венским конгрессом реакционных правительств), - сдать этого конька в обмен на конька Орлова (к вечному миру - через кровь революций). Это в 1821 году, дразня Орлова, Пушкин мог притворяться, что он <<
убежден, что правительства, совершенствуясь [а не через революцию], постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых... будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия>> [4, 75]. Такой розыгрыш продекабриста Орлова мог быть у Пушкина, повторяю, только в 1821 году.С тех пор 10 лет прошло. Пушкин от продекабризма давно отказался и прежний розыгрыш вполне мог стать теперь устоявшимся убеждением. Против истории не попрешь. А она такова, что мир делят между собой несколько империй.
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Вопрос риторический, на какой не нужен ответ, ибо его все знают. Сверхдержавы поделили - и содержат более или менее в мире этот мир.
И хоть Пушкин к 1831-му году успел после 1821 года уже не только поверить новому русскому императору, но и разочароваться в нем, но зато от идеала эволюции он еще не отказался.
Поэтому революция во Франции 1830-го года вполне могла для него в 1831-м быть делом <<
людей с предприимчивым духом>>, делом, затеянным <<нарушителями общественного спокойствия>>. И угрозы этих людей за Польшу, естественно, очень его злили. Больше, чем сама, своя все же, взбунтовавшаяся Польша:Борьбы отчаянной отвага...
“Отвага” - слово с позитивной аурой. Отважной Польше в “Клеветникам России” Пушкин отдает-таки должное.
А вот люди во Франции, пришедшие в результате революции 1830 года к власти, вряд ли к власти бы пришли, не внеси свой бесценный вклад Россия в устранение из Франции Бонапарта. Так не националистический ли романо-славянский конфликт назревал в 1831 году?
И ненавидите вы нас...
За что ж?
Пушкин в “Клеветникам России” обижен, что <<
того и гляди навяжется на нас Европа>>, во многом Россией спасенная от наполеоновского порабощения Европа.Какой идеал должен был инициировать обиду? - Идеал консенсуса великих народов.
И конечно, он не заявлен “в лоб”.
И тот же идеал можно увидеть и в “Бородинской годовщине”. Здесь - упоение русской победой и русским благородством и силой. Чего это залог? - Доброго мира. А добрый мир - залог идеализируемого консенсуса.
Здесь продолжают прорастать зерна , по Пушкину, великого жребия России, превратившегося у Гоголя и Достоевского в ее мессианскую миссию в мире, лелеемую до сих пор, например, Горбачевым, чей фонд ищет российских амортизаторов и компенсаторов к вредным сторонам глобализации.
Речь - о национальной идее (если мыслимо говорить о ней как о чем-то присущем нации, словно лицо - человеку).
Я думаю, о начале осознавания Россией своей национальной идеи можно думать и в связи с такими словами Слюсаря:
<<
Русская проза обрела зрелость, отобразив поворот в отношениях между человеком и миром в связи с крушением патриархальности. Этот исторический процесс был запечатлен с огромной художественной силой прежде всего в творчестве А. Пушкина и Н. Гоголя>> [7, 3]Слюсарь не раскрыл, в каком смысле нужно понимать патриархальность. Ясно, что - не в историческом, относящим патриархальность к концу первобытно-общинного строя. Ясно, что в переносном смысле нужно тут патриархальность понимать: как подчиненность старшему. И тогда крушение патриархальности может в принципе выглядеть двояко: с точки зрения старшего и с точки зрения младшего. Думаю, Слюсарь имел в виду второе, связанное со становлением личности этого младшего.
И тут я хочу высказать мысль, которую Слюсарь вероятнее всего не разделил бы: что выходящим из-под культурного патроната цивилизованного Запада младшим в “Рославлеве” является Россия.
Этот процесс осознавания русскими своего нового места в мире показан и у менее даровитых писателей, чем Пушкин. Вот тот же Загоскин, спровоцировавший Пушкина на замах создать своего “Рославлева”:
<<
...по мнению моему, история просвещения всех народов разделяется на три эпохи. В первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всех иностранцев, но даже презираем их. Иноземец, в глазах наших, почти не человек; он должен считать за милость, если мы дозволяем ему жить между нами и обогащать нас своими познаниями. Мало-помалу, привыкая думать, что эти пришельцы созданы так же, как и мы, по образу и по подобию Божию, мы постепенно доходим до того, что начинаем перенимать не только их познания, но даже и обычаи; и тогда наступает для нас вторая эпоха. Презрение к иностранцам превращается в безусловное уважение; мы видим в каждом из них своего учителя и наставника; все чужеземное кажется нам прекрасным, все свое - дурным. Мы думаем, что только одно рабское подражание может нас сблизить с просвещенными народами, и если в это время между нас родится гений, то не мы, а разве иностранцы отдадут ему справедливость: это эпоха полупросвещения. Наконец, век скороспелок и обезьянства проходит. Плод многих годов, бесчисленных опытов - прекрасный плод не награжденных ни славою, ни почестьми бескорыстных трудов великих гениев - созревает; истинное просвещение разливается по всей стране; мы не презираем и не боготворим иностранцев; мы сравнялись с ними; не желаем уже знать кое-как все, а стараемся изучить хорошо то, что знаем; народный характер и физиономия образуются, мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою. Это третья и последняя эпоха народного просвещения. Для большей части русских первая, кажется, миновалась; но последняя, по крайней мере для многих, еще не наступила >> [5, 378 - 379].Но с этим пафосом равенства русских среди европейцев в начале XIX века, наверно, не согласился Пушкин. И потому, по большому счету, ему захотелось конфликтовать с Загоскиным.
Да, Пушкин - несравненно больший мастер слова. Те жалкие проявления патриотического варварства и космополитского обезьянства в высшем свете перед Отечественной войной, что у Загоскина занимают многие десятки страниц, у Пушкина заняли процитированный абзац. Назревающая любовь настоящей и полноценной патриотки и умницы, космополитки пушкинской Полины к тоже умнице, патриоту и космополиту пушкинскому французу-пленнику Синекуру - потенциально гораздо эффектнее (потому что правдивее, чем невероятные ситуации вражды-дружбы между воюющими русскими и французскими офицерами у Загоскина). А какие живые люди у Пушкина, и какие книжные - у Загоскина. В общем, что говорить. Пушкин дает сто очков вперед Загоскину. Но.
Но соперничать в мастерстве на базе фабулы, заимствованной все-таки, и - у кого? - своего современника... - Это было ниже достоинства Пушкина.
И - он бросил своего “Рославлева”.
Скажете: “Он же сам опубликовал начало.”- “Да,- соглашусь я.- Он вечно нуждался в деньгах и все, что можно, публиковал. Но что он опубликовал? Он опубликовал сцену с мадам де Сталь, составляющую начало своего “Рославлева”. Она не имела никакого пересечения с романом Загоскина и была совершенно оригинальна”.
“А отчего ж, по-вашему, Пушкин все же рванулся было выступить против Загоскина?” - спросите.
Не из-за того, что <<
роман этот возмутил Пушкина своим квазипатриотизмом>>, как утверждается в комментариях (хотя и из-за того - тоже). Не из-за того, что он <<согласился с мнением Вяземского о том, что в “Рославлеве” Загоскина “Нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении”>> [8, 877] (хотя и из-за того - тоже).Разные концепции России были у Загоскина и Пушкина. У Загоскина - что Россия стала равной великим европейским странам. У Пушкина же - что у России “высокий жребий”. Это, пожалуй, выше, чем у других великих. При всем своем могуществе и именно вследствие него она, Россия, - проводник доброты и залог мира в мире, международного консенсуса. Во всяком случае, призвана к этому.
Стихотворения 1831-го года заканчиваются сочинением, посвященным юбилею: 20-летию со дня открытия лицея. Уж куда, казалось бы, консенсусная тема, и где там,- если тогда конснсус же и был идеалом Пушкина,- увидеть в этом стихотворении нечто, не “в лоб” сказанное.
Однако вчитайтесь.
Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину...
Почему? - Из текста, воспринятого “в лоб” видно, что свою общность лицеисты стали видеть в том, что это общность смертников. Им только-только перевалило за тридцать лет, а шести уже нет в живых. Этому обстоятельству так или иначе посвящены пять из шести куплетов. И естественно, что лицеистам не хочется, раз так, встречаться. Не хочется и переживать свою, живых, общность с мертвецами. Такого консенсуса как-то не хочется.
Что лирический герой противопоставляет названной тенденции к разобщенности живых в шестом куплете?
Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Пожившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим, -
Надеждой некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.
Предлагается какой-то абсурд. Как можно “новых жертв уж не страшиться”? Как!? - Они бессмертными стать должны, чтоб не страшиться? Или что: если не физически, то духовно бессмертными, что ли, стать? - Сомнительно. О себе он мог так думать, чувствуя свою гениальность, но - не о других. Так что? Пустозвонство это? Пушкин - пустозвон... - Немыслимо. Впрочем... Само легкомыслие есть мудрость, если оно философское: а что остается, мол.
Итак, перед нами опять столкновение противоположностей: легкомыслие в шестом куплете с, так сказать, тяжеломыслием в пяти предыдущих.
Что дает такое столкновение? Нельзя ли подумать, что, так сказать, геометрическая сумма столь разнонаправленных средств воздействия на нас дает в результате некое сожаление, что слишком уж земное объединяло лицеистов когда-то, и неплохо бы, чтоб оно перерастало в духовное, нетленное. Но... Нет того. А жаль.
Каков тут идеал? - Вот бы, мол, - высокодуховный консенсус...
Каким же и быть консенсусу между друзьями, как не высокодуховному.
К 1831-му году относится также стихотворение “Эхо”. Мне удалось разобрать его [3, 21] с применением принципа Выготского несколько лет тому назад (я докладывал здесь). Могу теперь с удовольствием отметить, что вскрытый тогда художественный смысл “Эха” вполне соответствует консенсусу, найденному сейчас “между строк” “Рославлева” и патриотических стихотворений 1831-го года.
Я не устаю повторять фамилию Выготского, и мне пеняют, что это надоело и - даже мешает. Возражаю. Римский сенатор Катон не уставал восклицать: “Карфаген должен быть разрушен!” и добился-таки войны и разрушения Карфагена. Понимание “в лоб” текстов художественных произведений, по-моему, не меньший враг для интерпретационной критики, чем Карфаген для Рима.
Литература
1.
Воложин С. И. Беспощадный Пушкин. Одесса, 1999.2.
Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы... Одесса, 1999.3.
Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса. 1998.4.
Губер П. Дон-Жуанский список Пушкина. Петроград, 1923.5.
Загоскин М. Н. Сочинения. М., 1988.6.
Лотман Ю. М. Пушкин. С.-Пб., 1995.7.
Слюсаь А. А. Проза А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Опыт жанрово-типологического сопоставления. Киев - Одесса, 1990.8.
Цявловский М. А., Петров С. М. Комментарии. В кн. А. С. Пушкин. Сочинения. М., 1949.Написано осенью 2001 г.
Не зачитано
Пушкин в 1833-34-м годах. Инерция идеала.
...старое представление, кажущееся таким естественным, неверно и неполно. В том и состоит прелесть и вечная молодость истинной науки, что предлагаемая ею картина мира постоянно меняется.
М. Д. Франк-Каменецкий
Я выступаю перед людьми, которые неоднократно слышали об эффективности такого моего инструмента постижения художественного смысла произведения, как Синусоида идеалов, - перед людьми, которых я не убедил в полноценности этого инструмента и которым он поэтому уже надоел. Тем интереснее, наверно, будет услышать признание, в какие тупики меня иногда заводит эта Синусоида.
Так случилось, что идеал консенсуса в сословном обществе,- чуть иначе называемый Лотманом -
социальным утопизмом [3, 120] - в отношении к Пушкину времен “Капитанской дочки”,- взят мною для объяснения творений первой болдинской осени, в 1830 году [1, 50; 2, 84]. И место этому идеалу консенсуса было определено мною - на начале поднимающейся к коллективизму дуги Синусоиды [2, 40].Когда мне довелось разбираться с произведениями второй болдинской осени (1833 года), я сделал два промаха: 1) не посмотрел, когда написана “История Пугачева” (почему-то думал, что одновременно она писалась с “Капитанской дочкой” после 1833-го) и 2) поверил Лотману насчет социального утопизма Пушкина в “Капитанской дочке”.
Поэтому мне казалось естественным, что вторая болдинская осень , на временно`й оси расположенная между временем создания “Повестей Белкина” и временем создания “Капитанской дочки”, должна быть ознаменована тем же идеалом, что названные повести и роман. Анализ “Пиковой дамы”, “Медного Всадника” и “Анджело” мои ожидания оправдал, о чем я здесь и доложил.
Каков же был мой ужас, когда я ознакомился с датами работы Пушкина над “Дубровским”, “Историей Пугачева” и “Капитанской дочкой”.
Ну, “Дубровский” еще ладно. Это 1832 год. Пушкин художественно проверял,- предположим,- не нужно ли консенсус все же уре`зать до согласия между передовым дворянством и крестьянством, до чего не додумались когда-то декабристы. Ладно. Проверял. Усомнился. Отбросил. И вернулся (в 1833 году) опять к консенсусу широкому. Тот ложный ход с “Дубровским” даже не требовал от меня никакого деформирования Синусоиды. Велика ли разница между общественным согласием, охватывающим всех и не всех? И то и другое - тенденция к коллективизму. И то и другое - поднимающаяся к коллективизму дуга Синусоиды. И только потом была вторая болдинская осень, плоды которой тоже тяготели к коллективизму.
Все было б еще хорошо, если б только после этой осени начались у Пушкина замыслы, связанные с Пугачевым, Шванвичем, Гриневым, Швабриным... Но в действительности-то было не так!
Первый план “Капитанской дочки” Пушкин набросал 31 января 1833-го.
“Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость. Подступает Пугачев. Шванвич предает ему крепость. Взятие крепости. Шванвич делается сообщником Пугачева. Ведет свое отделение в Нижний. - Спасает соседа отца своего. - Чика между тем чуть не повесил старого Шванвича. - Шванвич привозит сына в Петербург. - Орлов выпрашивает его прощение”.
Ладно. И это еще можно было пережить. Усомнился Пушкин в возможности политического единения дубровских с народом, зато возникла мысль о безнравственном единении худших из дворян с восставшими. Глядишь, со временем худший станет не худшим по мере продвижения по вариантам романа... И все это вернется к консенсусу еще до осени.
Но через 6 дней Пушкин “Дубровского” навсегда оставил и еще через 3 дня подал просьбу о доступе к следственному делу Пугачева. А летом уже готов черновой вариант “Истории Пугачева”. И в конце достославной второй болдинской осени “История...” закончена. И из нее - общепринято - следует, что никакого согласия между дворянством и крестьянством быть не может. И как же тогда консенсусными, как у меня вышло, оказались “Анджело”, “Медный Всадник” и “Пиковая дама”?
Накладка. Вот мне и Синусоида... Вот мне и положенная в ее основу логика и психология.
Мыслим ли какой бы то ни было утопизм после такого холодного душа, как “История Пугачева”?
Остаются только два спасения. Одно - что я зря поверил литературоведам, будто работа над “Историей Пугачева” привела Пушкина к убеждению в антагонистическом, непримиримом характере противоречий между сословиями. Ну, я проверю. И, если окажется, что “История...”рисует-таки совершенную непримиримость отношений и принципиальную невозможность консенсуса, то остается второе спасение - посчитать, что в перечисленных произведениях второй болдинской осени, да и в “Капитанской дочке”, - какой-то раненный, ущербный консенсус.
Проверим.
Начнем с “Истории Пугачева”.
Много раз приходилось читать, что Пушкину пришлось смириться с тем, что Николай I велел переименовать исследование в “Историю Пугачевского бунта”. И негативность к смуте, мол, проявляется сразу, и бунт, мол, дело менее обоснованное, чем нечто другое, понимай, неудавшаяся социальная революция, которую Пушкин-де по документам и другим свидетельствам обнаружил.
Однако читаю “Историю Пугачева” сам, и, на первый взгляд, нет таки там никакого фатализма неизбывной вражды крестьян с дворянами. В Предисловии Пушкин значение своего труда выставляет состоящим будто бы в том, что на его страницах упомянуты имена знаменитостей: “Екатерины, Румянцова, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина”. В эпиграфе из архимандрита Платона Любарского,- который помещен перед заголовком “Глава первая” и потому может быть признан как эпиграф ко всей “Истории...”,- главная мысль : “...от дерзости, случая и удачи зависели...” То бишь нет исторической необходимости революции. Да и монастырская должность архимандрит настраивает на примиренчество. Равенство и демократия, лишение которых в конце концов и привело к восстанию народа, выглядят, будучи описаны в первоистории существования яицких казаков как атрибуты древней старины, не выглядят как насущные интересы угнетенных. Расслоение на угнетенных и угнетателей замаскировано под “раздоры между войсковым атаманом Меркурьевым и войсковым старшиной Логиновым и разделение через то казаков на две стороны: атаманскую и логиновскую, или народную”. Самортизировано, что атаманская - антинародная. Вообще это внутреннее расслоение плавно переводится во внешнее, в давление петербургских назначенцев, “членов канцелярии, учрежденной в войске правительством”, давление, похожее на просто криминал: “удержание определенного жалованья, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли”. (Точно как наш теперешний беспредел: невыплачивание администрацией на госпредприятиях зарплаты всем работникам, кроме себя, и передел общественной собственности в частную - объясняется “демократами” типа Афанасьева как извращение демократических идеалов воровским менталитетом народа, делающего из директоров воров, а из приватизаторов прихватизаторов и т. д.) Присылаемые для разбора жалоб чиновники оказываются в пушкинской “Истории...” несостоятельными по нравственным причинам, а не закономерно. И лишь иногда выносят справедливые заключения. Но виновные “умели избегнуть исполнения приговора”. Откуда это умение или предыдущая несостоятельность чиновников - умалчивается. А справедливое возмущение притесняемых квалифицируется как преувеличенное благодаря ауре слова “принуждены”
: “генерал маиоры Потапов и Черепов (первый в 1766 году, а второй в 1767) принуждены были прибегнуть к силе оружия и ужасу казней”. Вероломство президента военной коллегии, обошедшегося, как с бунтовщиками, с теми, кто не бунтовал, а приехал с челобитной в Петербург, выглядит как изъян характера графа Чернышева - из-за того, хотя бы, что он назван по имени. Был бы, мол, другой на этой должности - не было бы такой безобразной несправедливости. Да еще к нарушенным коренным (экономическим) интересам присовокуплен яркий пример из области декорума: “повелено брить им бороду” - недовольным представителям народа, отправляемым (за непослушность) на военную службу в чужие места.Все обиняками описывается классовый антагонизм. И то же - с замешавшимися в эту котовасию обиженными калмыками, а потом - и с другими нерусскими Поволжья.
А когда пришла пора описывать успехи восстания, то идут бесчисленные перечисления предательств среди гарнизонов крепостей, к которым подходили восставшие, среди войск, перехвачиваемых пугачевцами в походе. И не рассматриваются ни разу причины предательств. Точно так же не рассматриваются причины притока в армию Пугачева помещичьих и приписанных к заводам крестьян из соседних территорий. И, наоборот, во многом объясняются отрицательными личными качествами командиров отступления и поражения правительственных войск, если существенного предательства в войсках и не случилось.
Лишь три из всех описанных сражений выиграно восставшими без того, чтоб кто-то им “передался” во время боя. Но только три! А 21 описанное победоносное военное действие обязательно сопровождалось изменой низов офицерам. А сколько - чувствуется - не описанных случаев! Не описанных потому, что не Пугачев лично там участвовал (исследование не зря названо “Историей Пугачева”).
9 случаев перехода на сторону Пугачева дворян и духовенства описано Пушкиным. Но зато обязательно по сословному признаку - отменно - расправлялся он с побежденными. Были, значит, причины мизерности одного и неизбежности другого. О них Пушкин молчит в тексте “Истории...” Лишь в следующем году после опубликования “Истории...”, в 1835-м, представил он царю “Замечания о бунте” как материал, который он <<не решился печатать>>, и лишь там обозначен корень выступления народа против дворян:
<<
...выгоды их были слишком противуположны...>>Такое впечатление, что Пушкин в “Истории Пугачева” маскировал классовый антагонизм от читателей, маскировал и в описании фактов и в выводах:
<<
...духовенство ему [Пугачеву] доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи>>.Откуда такой вывод? В тексте на иное натыкаешься:
“Оклады с икон были ободраны, напрестольное одеяние изорвано в лоскутья. Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим”.
“...вбегали в церкви и монастыри, обдирали иконостасы...”
Есть, правда, и следы сосуществования с духовенством. В Яицком городке попы не убежали в так и не взятую восставшими крепость и - не без строптивости - обслуживали даже самого Пугачева. И еще описан один факт в Саранске:
“Он [Пугачев] был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством...” - Исключение.
А Пушкин - в выводах - запутывал царя. Надо было, чтоб не запретил уже изданное произведение.
Да и чтоб не пожаловались на крамолу читатели, в основном тексте нужно было маскировать правду о классовом антагонизме. Вот и ублаготворяющие слова в конце его работы:
“Так кончился мятеж, начатый горстию непослушных казаков, усилившийся по непростительному нерадению начальства...”
И непроницательные цензоры и царь не заметили взрывчатости предложенного Пушкиным материала.
А Пушкин и не мог написать резче и определеннее - не прошло бы цензуру.
Но можно ли сомневаться, что собственное свое мировоззрение, идеал консенсуса, он своим исследованием сильно поколебал? - Нет сомнения.
Так что нужно мне переходить ко второму “спасению” Синусоиды идеалов - к ущербному консенсусу в произведениях второй болдинской осени.
“Анджело”.
Вспомним, что поэма публике не понравилась. И признаемся, что это можно понять. Какое время там изображено? - Не в том дело, что не современное и это одно уже может не так уж живо трогать читателей. Время там просто неопределенное. Вспомните, что приведены там к столкновению гуманизм с ингуманизмом, “принцип природы” с мрачным отвращением к нему - черты Раннего и Позднего Возрождения. То есть время - никакое. И совершенно естественно от такого столкновения противоречий озаряющий нас катарсис (желаемый в будущем консенсус, к которому в неком прошлом в шутливом порядке пришла - в конце - поэма), катарсис представиться теперь должен каким-то вневременным, сюрреалистическим.
“Медный Всадник”.
Я уже обращал внимание, что тут сталкиваются какие-то внесоциальные персонажи (памятник и сумасшедший, оба вне семьи и сословия), что это предваряет будущие внесоциальные мечты (религиозный социализм) разочаровавшегося в утопическом социализме Достоевского и в чем-то близких к Достоевскому его героев: Версилова и “смешного человека” с их снами о золотом веке, Мышкина с его утопической мечтой соединить в союзе любви Аглаю и Настасью Филипповну, Алеши, учреждающего общину мальчиков, помнящих о замученном Илюше. Такое сопоставление с Достоевским Пушкина ясно показывает, что последнего влекли в какой-то маньеризм следующие два обстоятельства: 1) невозможность отказаться от консенсуса и 2) невозможность консенсусу в обществе укорениться.
“Пиковая дама”.
Тут экспансия в жизнь зла через экстремизм пресекается совсем уж мистическим образом, от которого образ автора даже и не дистанцируется. Это с одной стороны. С другой - противостоящее экстремистскому в своем захватничестве и пропервичнокапиталистическому, скажем так, корпусу произведения противостоит слишком мизерное российско-застойное Заключение, слишком слабая альтернатива экспансии очень несимпатичного капитализма. Так в какую сомнительность читателя Пушкин зовет?!
В общем, я ошибся, когда видел во всех этих плодах второй болдинской осени усиливающийся идеал консенсуса в обществе. На самом деле консенсус тут какой-то болезненный.
А теперь перейдем к первопричине ошибки - к будто бы социальному утопизму в “Капитанской дочке”.
Абсолютно непригодный для идеала консенсуса сословий герой первого (от 31 января) наброска, закоренелый в аморальности на службе нессыльной, негарнизонной, может, развращающей петербургской, и потому - от аморальности - примкнувший к Пугачеву,- этот отрицательный герой (по мере появления других набросков) стал быстро хорошеть, потенциально обеляя и восставших, раз к ним идут хорошеющие дворяне.
5 августа Пушкин набросал введение к роману - обращение героя-рассказчика к своему внуку:
“...Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат пользе твоей. Ты знаешь, что, несмотря на твои проказы, я все полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею... ты уродился... в дедушку, и по-моему это еще не беда. Ты увидишь, что, завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава Богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство”.
Здесь, правда, герой лишь десятки лет спустя стал положительным. А когда-то был-таки беспутным и потому пристал к беспутным же в бытность пугачевцам.
Но вот Пушкин пишет,- предполагают, что осенью,- следующий набросок к плану. Отрывок:
“...Шванвич за буйство сослан в деревню, встречает Перфильева [сообщника Пугачева]
”.Теперь герой уже частное лицо, а не присягнувший царице военнослужащий. Такой более свободен в своих поступках перед вызовами бурного времени.
Следующий набросок плана (поздняя осень 1833-го):
“Крестьянский бунт. Помещик пристань держит, сын его.
Метель. Кабак. Разбойник вожатый. Шванвич старый. Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой. Мария Ал. сосватана за племянника, которого не любит. Молодой Шванвич встречает разбойника вожатого, вступает к Пугачеву. Он предводительствует шайкой. Является к Марье Ал. Спасает семейство и всех...”
Видите. Теперь невоенный Шванвич, сын помещика, держащего пристань, вступает к Пугачеву, чтоб спасти Марью Ал. от брака с нелюбимым то ли самим воеводой, то ли с его племянником. А воевода - это должность правительственная. Свобода крестьян от угнетателей-помещиков, свобода девушки-дворянки от угнетающих, получается, обычаев своего сословия, свобода героя от присяги - все соединяется в некий консенсус.
Тут вторая болдинская осень кончается. И я, получается, спасен. Не смотря на “Историю Пугачева” (которую Пушкин заканчивает в то же время), не смотря на ее объективные выводы о непримиримости сословий - в романе его неодолимо тянет в прямо противоположное.
Это,- в совокупности с получившимся ущербным, но все-таки консенсусным идеалом “Анджело”, “Медного Всадника” и “Пиковой дамы”,- означает только одно: идеал инерционен. Он не может изменяться слишком уж быстро даже под воздействием сильных внешних причин, таких как штудии исторических реалий крестьянской революции.
Вспомнив, что в следующем, 1834-м,- когда “Капитанскую дочку” Пушкин собственно писал и вчерне кончил,- он написал “Песни западных славян”, в которых (я докладывал) от консенсуса осталась неопределенность, вспомнив это, можно предположить, что и в романе найдем ту же неопределенность, перегиб Синусоиды идеалов, направленность идеала Пушкина в этот момент ни вверх, ни вниз. Вре`менное отсутствие идеала, а не
социальный утопизм.Так оно и есть, если не читать роман “в лоб”.
Кому оказалось передоверенным повествование? - Юнцу. Да еще такое впечатление, что этот юнец мало что плохо видел окружающую его крестьянскую революцию (пусть и из-за влюбленности в Машу), мало что и после революции этой немного в жизни видел (выйдя скоро в отставку, женившись и, по-видимому, подолгу живя в селе в Симбирской губернии), но и адресовал-то свою рукопись малолетнему внуку (как это виделось в цитировавшемся и неиспользованном Введении от 1833-го), причем писалась она, похоже, впадающим в сентиментальность сюсюкающим стариком.
Действительно. Пушкин не мог не надеяться, что читатели романа читали за два года до него изданную его же “Историю Пугачева”. Пугачев в “Истории...” показан злодеем по призванию. Там некто Пулавский, “родной брат славного конфедерата... из ненависти к России... присоединился” к Пугачеву, то есть по идейным соображениям: к врагу поработителей русского и других народов империи, а значит, и поляков. Так очень скоро этот Пулавский “отстал от Пугачева, негодуя на его зверскую свирепость”. Пусть приведенные в “Истории...” натуралистические описания зверств нельзя отнести к Пугачеву лично. “Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на щеке...” Харлова в такое состояние привели в бою. За боевую отвагу “Билову отсекли голову” после боя. Но не Пугачев. “С Елагина, человека тучного, содрали кожу” тоже не по приказу Пугачева. И так далее. Но он безобразию не препятствовал. И можно ожидать, что правдивые мемуары прапорщика Гринева отразят ужасы революции.
Не тут-то было:
“Меня притащили под виселицу. “Не бось, не бось”,- повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить”.
И других офицеров повесили без издевательств, и - за то, что отказались присягать императору-самозванцу.
Верить повествователю? - Сомнительно что-то.
Может, правда, не издевались, потому что лично офицеры никого из нападавших на крепость не убили. Из пушки выстрелил не офицер. Парламентера сразил залп солдат. Анонимность. Вообще изображено так, что боя как бы и не было.
Кстати, и другие бои в романе в подробностях не описаны. О вылазках под осажденным Оренбургом сказано вскользь и в общем. О походах Гринева после освобождения Маши - тоже. Не было без столкновения с ночным дозором при попытке Гринева попасть к Маше в Белогорскую крепость.
“Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду”.
Опять обошлось без жестокого натурализма. И больше нигде-нигде нет военных столкновений. - Зачем травмировать ребенка картинами жестокости боев, да? А ведь не заявлено, что перед вами книга для детского чтения.
И - Гринев как бы и не запачкан кровью восставших, хоть и участвует в подавлении восстания. И Пугачев как бы отдает этому должное и благоволит. - Нет тут натяжки?
Или эта в конце концов подстроенная совершенная невинность героя перед присягой и даже перед самим собой (“Совесть моя чиста. Я суда не боялся”). Ведь даже отлучка из Оренбурга это не побег, а почти вылазка для перестрелки или наездничество.
“Наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо”.
Таковы мысли-самооправдания Гринева. И правда, его ж с Савельичем никто не остановил при выезде из осажденного города. И было еще светлое время суток. Лишь после сказано: “Начинало смеркаться”. И лишь в “пропущенной главе” поехал он не на перестрелку, а прямо к Пугачеву в Бердскую слободу. В оставленной же и опубликованной - он отправился, хоть это и безумие, в Белогорскую крепость, за Машей.
Это как сиропные мечты-рассказы Белкину девицы К. И. Т.: выйти замуж и за богатого, и красивого, и по взаимной любви - для милой насмешки Белкина над девицей.
Только в “Повестях Белкина” эта насмешка максималиста Белкина сама сделана для милой же насмешки над ним реалистического, так сказать, утописта издателя. И в результате переживается катарсис мечты о консенсусе в обществе, где никогда не бывает идеальных замужеств.
А в “Капитанской дочке” между Гриневым и издателем никого нет.
Так как же нам относиться к этой, получается, детской книге, если серьезно? - А понять, что Пушкин несколько и посмеялся над читателями: не знаю, мол, я, с чем, святым и сокровенным, предстал я перед вами этим произведением.
Как же нам верить всему в нем? Как верить в великодушие Пугачева, в доброту Екатерины II? - Дедушкины сказки тут. Как же после всего этого верить Лотману, что социальный утопизм владел Пушкиным при сочинении “Капитанской дочки”?
А не верить. Верить только себе и феноменальной гибкости Синусоиды идеалов, взлетающую ветвь которой в 1834-м году нужно слегка прогнуть, притормозить, чтоб не рвалась так вверх, как в 30-м и 31-м, к коллективизму, консенсусу, соборности.
Литература
1.
Воложин С. И. Беспощадный Пушкин. Одесса, 1999.2. Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса, 1998.
3.
Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Книга для учителя. М., 1988.
Написано осенью 2001 г.
Не зачитано
Постижение Бродского
отталкиванием от Пушкина
Пушкин - камертон среди поэтов
Т. А. Савилова
Я был в восторге, когда наткнулся на статью максималиста Малько, утверждающего: <<
Ведущей функцией языка в тексте является, безусловно, не функция эмоционального воздействия...>> [2, 98], т. е. не обеспечение чтения “в лоб”; <<традиционный анализ художественных текстов не... учитывает [эту не “в лоб”] функциональную направленность>> [2, 98]; <<разработанный и апробированный Н. А. Рудяковым метод анализа художественных текстов, позволяющий “познать смысл литературно-художественного произведения...” пока неизвестен широкому кругу исследователей>> [2, 98]. Восторг мой объясним: я не один оказался в своей войне против чтения “в лоб”. Есть еще Малько, Рудяков...Но метод Рудякова оказался совсем не методом Выготского. <<
Согласно методике Н. А. Рудякова... нужно определить композицию лирического произведения, то есть: 1) его экспозицию, содержащую информацию о факте объективной действительности, послужившей поводом для создания произведения; 2) основную часть, заключающую в себе отношение автора к этому факту. Далее необходимо соотнести языковые средства экспозиции и основной части... [для] определения семантического сдвига в [этих языковых средствах. А в] семантическом сдвиге находит выражение новизна авторского отношения...>> [2, 99]И Малько демонстрирует этот метод на вот таком стихотворении Бродского:
Сад громоздит листву и
не выдает вас зною.
(Я знал, что я существую,
пока ты была со мною.)
Площадь. Фонтан с рябою
нимфою. Скаты кровель.
(Покуда я был с тобою,
я видел все вещи в профиль.)
Райские кущи с адом
голосов за спиною.
(Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?)
Ночь с багровой луною,
Как сургуч на конверте.
(Пока ты была со мною,
я не боялся смерти.)
Сначала Малько демонстрирует <<
невооруженным глазом>> обнаруживаемое.Первые части каждого четверостишия <<
лишены значения одушевленного субъекта действия, словно внешний по отношению к автору мир пуст и безлюден... Вещность - единственная реалия окружающей действительности>> [2, 100].Во вторых частях, обособленных скобками, <<
читатель узнает, что в прошлом мир представлялся автору иным: в нем было нечто такое, что составляло смысл существования героя; и пока оно было - вернее, она была, - автор ощущал полноту жизни, рассматривая саму жизнь в виде непрерывного неопределенно растянутого во времени процесса: “Я знал (прош. вр.), что я существую (наст. вр.)...” Жизнь, наполненная смыслом обещала быть долгой и счастливой, но оказалась опустошенной и безликой, лишившись этого смысла...>> [2, 100]Что ж предлагает Малько вооружившись методом Рудякова?
<<
Весь текст, за исключением двух последних строк, считать экспозицией, в которой передан факт объективной действительности - информация о том, как поэт ощущает жизнь [2, 100]. И, надо думать, теперь “сад” - благотворный, так как “не выдает вас зною”; “площадь”, “фонтан с рябою нимфою”, “скат кровель” - интересно экзотичны, увиденные в характерном, как “в профиль”, ракурсе; изгнание из рая - “Райские кущи с адом голосов за спиною” - интересно драматично; “Ночь с багровой луною, как сургуч на конверте” - интересно эстетична. Все хорошо. Так я понимаю намек Малько. Потому намек, что основную часть он подает как бы позитивно результирующей:<<
Основная часть... состоит из 2-ух последних строк; в них поэт говорит о том, что его жажда жизни была столь велика, что он не боялся умереть>> [2, 100].Разделил Малько на экспозицию и основную часть [2, 100] и теперь предлагает соотнести ключевые синтаксические единицы -
|
(Я знал, что я существую, пока ты была со мною |
экспозиция |
|
Пока ты была со мною, я не боялся смерти.) |
основная часть |
по семантическому сдвигу подчеркнутого. И что получается, мол?
<<
...в последней строке отрицается то, что выражено суммой буквальных значений слов, ее составляющих. В действительности поэт боялся смерти, т. к. знал, что существует до тех пор, пока действует очень важное для него условие>> [2, 100].<<
...возникает в художественном тексте скрытая от поверхностного чтения информация - тот образный смысл, ради выражения которого и создано произведение. На самом деле жизнь поэта никогда не была радостной, так как она была наполнена предчувствием и ожиданием смерти>> [2, 100].И вот теперь я начну спорить, как мне ни приятна агрессивность Малько к остальной массе интерпретаторов.
И начну с того нюанса, о котором Малько умолчал (его статья побольше моего ее изложения, но поверьте - умолчал).
Не обсудил он вопросительное предложение:
(Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?)
Кто, действительно?
По-моему больше некому, кроме Дьявола. Ад криков производит свита Бога, изгоняющего согрешивших из райских кущей. Они - “за спиною”. И вряд ли не с ними и сам Бог.
Ну не думать же, что “все время” это время процесса изгнания и упоминается оно лишь для того, чтоб “рядом” мы представляли себе гонителя.
А с Дьяволом таки интересно - для людей экстремистских. А без него - скучно.
И я вспомнил “Сцену из “Фауста”” Пушкина.
Фаусту там и с Мефистофелем скучно. И не только в начале. Но и в конце. Лишь в середине Фауст попробовал было развлечься воспоминанием о Гретхен. Да Мефистофель не дал ему самообмануться.
Да, он разозлился, Фауст, что Мефистофель его заземлил. Но он не со злости на дьявола,- а в сущности - на людей, естественно склонных привлекать дьявола,- не со злости велел он этому отродью потопить испанское судно с людьми все-таки. Как те ни уже виноваты, понимай, в ограблении колоний, как те ни стали бы виноватыми в завозе в Европу новой болезни, - все это Фауста не касается. Ни их жизнь, ни их смерть (его ничто не касается, ему скучно). Отослал он Мефистофеля чисто технологически: от того нельзя отделаться, не задав ему злого дела.
И не для того он отослал, чтоб беспрепятственно заниматься самообманами. Они тоже, действительно, скучны по большому счету.
А отослал его Фауст - по большому счету. Навсегда. Мефистофель ему больше не нужен. Экстремизм больше не идеал его, Фауста. Фауст остался вообще без идеала. Без ничего. Без никого, если идеал можно представлять персонифицированным.
Драматическая сцена,- с ее четким разделением на говорящих друг с другом, и больше ничего, кроме ремарок, не содержащая,- в сущности развоплощается в монолог осознавания утраты идеала. - Автором? - Нет. Героем. Автор потому и выбрал драматическую форму повествования об этой утрате, чтоб возвыситься над ней.
Может, Пушкин потому и пошел на драматическую форму, что его не удовлетворила лирическая форма предыдущего его сочинения:
Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.
Комментарий относит это стихотворение к Воронцовой. А вы, большинство, помните, что было перед концом в моей книге “Пушкин: идеалы и любови”. Воронцова в числе других демониц-изменниц нужна была Пушкину как противовес его экстремистским продекабристским залетам в виду поражений этих идей в Европе и слез девы воспаленной, Анны Гирей, выданной замуж за нелюбимого [1, 63-64]. От столкновения таких запредельностей родился пушкинский реализм, трезвость и некоторая отстраненность от р-р-романтических страстей, как страстей гражданского, так и эгоистического, байроновского романтизма.
Могло б случиться хуже. Он мог бы вообще лишиться какого бы то ни было идеала. И тогда - прощай муза, как это и было в 1820-м году. И факт отсутствия такого несчастья отразился в его “Сцене из “Фауста””. Автор находится над несчастным Фаустом, лишившимся в своей душе и Гретхен, и Мефистофеля, и науки - всего.
Бродский, чей лирический герой от него не отделен и тоскует от неналичия Дьявола рядом, в сравнении с Пушкиным образца 1825-го года представляется противоположностью. И... исключением из тех правил, какие я себе сформулировал для постижения художественного смысла произведений искусства.
Бродский, получается, феномены искусства не перестал создавать и после утраты идеалов. Ведь ни у кого не повернется язык процитированное его стихотворение назвать околоискусством. Да? - А чем оно вдохновлено?
По Малько - всегдашней боязнью смерти. То бишь - жизнелюбием.
А по-моему это психологический нонсенс. Боящийся смерти о ней старается не думать и, тем более, не писать, не иметь в виду в художественном смысле своих творений.
Малько ошибся в разбиении стихотворения на экспозицию и основную часть. 2 последних строки вовсе не итог (<<
его жажда жизни была столь велика, что он не боялся умереть>> [2, 100]). А все предыдущие строки вовсе не слагаемые, позитивно окрашенные для такого итога. Уж скорее там <<мир пуст и безлюден>> [2, 100]. А Малько это отвергает лишь в полемическом задоре против <<поверхностного чтения>> [2, 100].Ну правда. Нужно очень хотеть, чтобы “адом голосов” счесть
безлюдье, чтоб утолять жажду жизни в фонтане “с рябою нимфою”, чтоб возвышало сравнение багровой луны с сургучом на конверте.Может, неверная теория пронзительного чтения по Рудякову сбила Малько. Может, она и не совсем неверна - теория (если она вскрывает еще один вид столкновения противоположностей: экспозиции с основной частью). Может, лишь плохо Малько ту теорию применил.
А на самом-то деле Бродский тут столкнул человеческое со сверхчеловеческим, два первых и последнее четверостишие - с третьим, где вдруг появились рай, ангелы и Дьявол. И от столкновения этого осталось ничто: ни людей, ни ангелов, ни Дьявола - отсутствие идеала. Если в терминах уже известной вам Синусоиды идеалов, то ни вылета вниз, ни вылета вверх, ни всего, что между ними, то есть выход в безыдеалье.
И нету какого-то там персонажа, как Фауста у Пушкина, а есть лирический герой, от автора не отличимый.
Это особенно заметно, если обратить внимание, что привлеченное Малько к синтезирующему анализу произведение есть часть стихотворения “Мексиканский романсеро”, а оно - часть более крупного образования из семи озаглавленных вещей под общим названием “Мексиканский дивертисмент”, а тот - часть сборника из более двух десятков озаглавленных произведений.
Но вы ошибетесь, если упрекнете, что нельзя ж вырывать часть из стихотворения и судить о нем, словно об отдельном. Этак, мол, можно строфу “Евгения Онегина” или группу строф, например, сон Татьяны, вырвать и получить, что Татьяна - демонистка в глубине души, которой люб Онегин-разбойник.
Вы ошибетесь. В “Евгении Онегине” строфы пронумерованы. Это одно лишает права вырывать части из целого. А у Бродского иначе. Есть у него в сборнике озаглавленные произведения с пронумерованными частями, есть и такое, что каждая из пронумерованных частей сама состоит из куплетов, разделенных пробельными строками. Но зато есть и такая, озаглавленная, что каждый ее подраздел напечатан на отдельной странице и сверху, где бывает заголовок, - три очень крупные точки. Понимай, это довольно самостоятельные вещи. И название - характерное: “Часть речи”. Не в грамматическом, конечно, смысле. Так вот кусок, выбранный Малько,- “озаглавленный”, так сказать, подобной же,- только одной, а не тремя,- очень крупной точкой,- есть один из семи подобных частей “Мексиканского романсеро”. То есть - тоже часть речи. Да и весь сборник называется “Часть речи”. И понять это можно, что Бродский имеет в виду свое разорванное сознание в те времена, когда он покинул СССР и стал жить-скитаться на Западе. И само,- задуманное еще им, при жизни,- собрание его сочинений названо многозначительно - “Перемена империй”. Сменил шило на мыло...
И Малько не погрешил, взявшись разбирать одну из “частей речи” этого разорванного сознания.
Теперь вернемся к мысли о минимуме дистанции между автором и лирическим героем.
Когда читаешь “Испанского романсеро”, видишь, что описывается туристическое путешествие по Мексике (а читая всю “Часть речи”, видишь скитания по свету) неприкаянного Бродского. И в “Романсеро” - виды столицы, Мехико-Сити, и - касающиеся или не касающиеся видов переживания автора. Именно автора. Все очень прозаично. Даже строчные буквы - в начале строчек стихов, как это бывает в прозе, если перед - не было точки.
И тогда, казалось бы, “райские кущи с адом / голосов за спиною” это не библейский мотив, идеализируемый всеми сверхчеловеками до и после Ницше, а просто летний пейзаж в перенаселенном мегаполисе, где все по-южному галдят, солнце палит немилосердно, а тень и дерево представляются раем.
Казалось бы... Только прочтите последние два четверостишия из последней части “Мексиканского романсеро”...
Жизнь бессмысленна. Или
слишком длинна. Что в силе
речь о нехватке смысла
оставляет - как числа
в календаре настенном.
Что удобно растеньям,
камню, светилам. Многим
предметам. Но не двуногим.
Нет. Такой поэт не боится смерти. Не боится ни тогда, когда с ним рядом Дьявол, ни тогда, когда рядом - никого. И Малько попал пальцем в небо, выведя, что слова “Пока ты была со мною, / я не боялся смерти” дают тот семантический сдвиг, что, мол, <<
этот страх постоянно преследовал поэта>>.Сдвиг таки есть. Но он в том, что никогда - а не “пока” - поэт “не боялся смерти”
.А что Дьявол был-таки когда-то с ним рядом, я докажу стихотворением его, написанным 13 лет ранее.
Был черный небосвод светлей тех ног,
и слиться с темнотою он не мог.
В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.
Не помню я чернее ничего.
Как уголь были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.
Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди,
как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.
Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.
Как будто он был чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал?
Зачем во тьме он сучьями шуршал?
Зачем струил он черный свет из глаз?
Он всадника искал себе средь нас.
По сюжету - не нашел. А по сути - нашел одного. Тот и сам-то думал, что “внутри у нас черно”. Но таился, пожалуй, от своего окружения, что сидело у костра. В 1962 году еще была хрущевская оттепель. Костер еще грел, и идеи Фрейда о коне-бессознательном и всаднике-сознательном еще не были популярными в нашей стране. И нужна была изрядная смелость даже перед самим собой - перейти на такую идеологию. Бродский имел такую смелость. Факт: он опоэтизировал черного коня. И хоть по сюжету стихотворения конь не нашел себе всадника, но дух произведения таков, что ясно: нашел.
А я б до всего этого не дошел, если б не Пушкин, никогда не доходивший до подобного идеала, находящегося на вылете субвниз с Синусоиды идеалов. Всюду Пушкин побывал, а на этом вылете - нет. И, зная это, я не мог не заметить Дьявола, промелькнувшего в стихотворении Бродского, выбранном для разбора аспирантом Малько с целью продемонстрировать не поверхностное, не “в лоб” прочтение литературных произведений.
Литература
1.
Воложин С. И. Пушкин: идеалы и любови. (Книга не для сердца - для ума). Одесса, 2001.2.
Малько В. Л. Принципы функционально-семантического анализа поэтического текста (на примере стихотворения И. Бродского). В журн. “Культура народов Причерноморья”, № 14, 2000.Написано в ноябре 2001 г.
Не зачитано
Казус
Я мало знаю. Член Пушкинской комиссии, я далеко не всего Пушкина прочел. Даже из его художественных произведений. И случилось так, что я не знал его “Талисман”, вещь, написанную по поводу первой после Одессы встречи с графиней Воронцовой в 1827 году [3, 871]. И я захотел его прочесть, прочитав газетную статью Н. К. Островской о том, что не Пушкин, а Раевский отец дочери Воронцовой, и та Пушкину изменила с Раевским [2]. А Пушкин у меня -
в однотомнике. Все там напечатано двумя колонками на странице. И колонка прерывается, не доходя до самого низа страницы, только тогда, когда на этой же странице - в виде заглавия - проставлен следующий год, в котором Пушкин сочинил следующие произведения. Ну и текст левой прерванной годом-заглавием колонки продолжается тогда вверху и уже в колонке правой. И я не заметил, что “Талисман” - из 4-х куплетов, а не из одного, первого. Я прочел его и усомнился в выводах Натальи Кузьминичны.Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
Получается - полное приятие героини. А прототип - графиня. Плюс - Пушкин до конца жизни запечатывал подаренным кольцом-печаткой свои письма. Вот тебе и изменница,- подумал я. А потом я все же обнаружил еще 3 куплета (прочтите их). И все сошлось.
Я читал на Пушкинской комиссии доклад о стихотворениях Пушкина о поэте и в нем показал, что в 1827 году идеал Пушкина был - соединение несоединимого. Он давно уже не продекабрист, но остался верен декабристским идеалам освобождения крестьян и конституции. Он надеется на царскую комиссию по положению крестьян и на прощение царем сосланных декабристов. Он рассчитывает влиять на царя в его политике в области просвещения. В общем, соединение несоединимого.
И вот доказательства Островской, что Пушкин понял, что у Воронцовой была к нему не любовь, а любовь-измена, прекрасно согласуются с соединением несоединимого в “Талисмане”. Да и нет - одновременно! Забудь изменницу, не пиши о ней стихов! - Нет. Кто старое помянет, тому глаз вон, Но кто старое забудет, тому вон оба глаза. - Вышвырни кольцо, подарок Воронцовой, раз она, любя тебя, изменила с Раевским! - Нет. Он кольцо хранит. Хранит, чтоб оно его хранило от других коварных любовей. И воспевает это в “Талисмане”.
Повторяю. Идеал Пушкина в 1827-м - мудрое сочетание крайностей. Это видно и по одному наброску того года, посвященному Одессе.
Я знаю край: там на брега
Уединенно море плещет;
Безоблачно там солнце блещет
На опаленные луга;
Дубрав не видно - степь нагая
Над морем стелется одна.
Какова аура у таких слов, как “уединенно”
, “опаленные луга”, “степь нагая”? - Негативная. Но она включена в ряд с противоположными оттенками: “море плещет”, “безоблачно”, “солнце блещет”.Возьмем “Гяура” Байрона:
О, дивный край, где круглый год
Весна природе ласку шлет.
Когда же путник утомленный
С высот Колонны отдаленной
Зрит ту страну, то веселит
Сердца ее счастливый вид,
С уединеньем примиряя,
Чуть-чуть волнуясь, гладь морская
Вершины отражает гор.
И прихотливый их убор,
И переливы красок чудных
В струях дробится изумрудных,
Что омывают этот край -
Востока благодатный рай.
Байрон, “убегая” на Восток от Европы, от обмана Просвещения, чтоб -
Сменить наперекор всему
На первобытный рай природы
Надменной Англии тюрьму! -
Байрон сплошь принимает Восток. Его эпитеты - субъективно-оценочные. Они такие потому, что душа поэта - такова. У Пушкина же в 1827 году его душа - на последнем месте. А тропы таковы потому, что такова - противоречивая - природа одесской степи. Они объективны. Природа соединяет несоединимое, плюсы и минусы. А Пушкин, как реалист в 1827 году, ничего не отвергает. И Одесса, с ее контрастами, сыграла свою роль в становлении у него такого умонастроения.
И спасибо Наталье Кузьминичне, что породила во мне мысль, подтверждающую прежние мысли. Вот только и она б вышла на художественный смысл, а не замыкалась бы на биографии, этом все-таки лишь подспорье для настоящего постижения гения Пушкина...
Написано летом 1999 г.
Не зачитано
Не зачитано случайно. И очень хорошо. Потому что зимой того же года я прочел у Краваль сильнейшие возражения, что не могла быть Воронцова прототипом героини “Талисмана” (который, талисман, и не печатка вовсе). А могла быть прототипом только татарка Анна Гирей, восточная женщина, с которой у Пушкина был совершенно из ряда вон выходящий роман еще в Крыму,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман... -
еще до знакомства с Воронцовой [1, 174]. И правда. Смотрите:
И, ласкаясь, говорила:
“Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.
И богатствами Востока
Он тебя не одарит
,И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя -
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!”
Как же теперь мне быть со своим “соединением несоединимого” у Пушкина в 1927 году?
А очень просто. Прототип стихотворения - обе. Воронцова, которую он только что (в октябре 1827-го) [3, 871] встретил впервые после трехлетней разлуки с нею, якобы его любившей, и после двух-с-половиной-летнего (весной 1825-го, после рождения Воронцовой ребенка) удостоверивания (что доказала Островская), что Воронцова ему изменила, когда говорила, будто его любит, и что, получается, не спасло его в 1824-м кольцо Анны, подаренное в 1820-м. А другой прототип - Анна, которая страстно желала, чтоб он никого больше так не любил, как ее, исключительно верную.
Ясно, что он обеих вспомнил и соединил несоединимое.
Литература
1.
Краваль Л. А. Рисунки Пушкина как графический дневник. М., 1997.2.
Островская Н. К. Дитя, не смею над тобой... В газете “Пресс-Курьер” от 18 марта 1999 г.3.
Цявловский М. А., Петров С. М. Комментарии. В кн. А. С. Пушкин. Сочинения. М., 1949.Написано в ноябре 2001 г.
Не зачитано
Конец второй интернет-части книги “О сколько нам открытий чудных…”
| К первой интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |