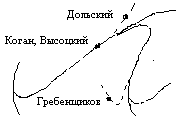
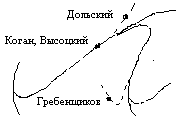
С. Воложин
Высоцкий, Гребенщиков, Левитанский,
Матвеева, Дольский, Коган.
Художественный смысл
| Самодеятельная песня: рождение, расцвет, вырождение и перерождение исходного идеала на фоне ошибок и кризиса социализма. |
Вторая интернет-часть книги “За КСП и против ВИА”
Солянка сборная
В гастрономии есть любители такого блюда... Сейчас я представлю его эстетическую аналогию соответствующим гурманам от искусствоведения, которым судьба не посылает на их книжный стол более изысканные кушанья. Итак, я посвящаю эту свою вещь непосвященным.
По польскому телевидению показали в детской программе мультфильм: лев, сидя в клетке, все мечтал о свободе, и вот однажды удрал он из зоопарка, переплыл море и оказался в родимой Африке. Далее так: захотелось ему есть - никак никого не может поймать, даже мышку. И вспомнил лев беззаботную жизнь в клетке, там ему подносили еду... Бросился он бежать обратно, переплыл море, добежал до города, до зоопарка, а там... в его клетке сидит уже другой лев и принимает мясо от служителя.
Я увидел этот мультфильм и пишу эти строки больше чем через год после начала забастовок в Польше. Не знаю, сколько там миллионов пришло к четкому желанию отказаться от социализма, якобы не способного дать вдоволь свободы и масла... Я пишу во время продолжающейся дезорганизации, которая постепенно приводит теперь поляков (если еще не привела) к осознанию тупика: действиями против власти, за другую свободу, добились лишь еще более голодной жизни и засилья хулиганов, и не лучше ли социалистическая неволя...
Возникают вопросы: а надо ли у нас, в Советском Союзе, рваться к большей демократии, надо ли заострять больные вопросы, если в перспективе борьбы - нечто вроде польского хаоса. Может, нужно себя убаюкивать, притуплять чувствительность, сглаживать углы, спускать на тормозах, выпускать пар, переводить в шутку?
Слыхивал я такие вопросы, и мне хочется ответить: “Нет”.
Нам нужно не спускать на тормозах, а заботиться - если можно так выразиться - о чистоте оппозиции. Чтоб не пробрались в лидеры критиков наших недостатков враги нашего общественного строя, враги социализма (как это случилось в Польше). Чтоб оппозиционеров в СССР не считали безусловно контрреволюционерами, агентами империализма, врагами народа (а по нынешнему - диссидентами) - я повторяю, чтоб не считали безусловно... как не считают обязательно революционной оппозицию в западных странах.
Может быть, может быть, это наивность, чистоплюйство, мечты карася-идеалиста, ничего не смыслящего в щучьей политике, которая - груба и не приемлет расчетов на тонкую работу с массами. Но в области искусства-то, по-моему, сам Бог велел держаться тонкости. Тем паче, что искусство - даже не публицистика. Оно меньше всего предполагает у своих адептов поведенческую реакцию сразу за просмотром, скажем, спектакля или кинофильма. Песню или картину можно не так уж бояться. А значит - им до`лжно быть резкими.
*
Успокоив себя этими рассуждениями, я теперь позволю себе обеспокоиться фальшивыми интонациями, на которых звучит порой самодеятельная песня - это искреннейшее явление искусства, искусства, не гнушающегося глубокого волнения за близкое и далекое будущее родины и социализма.
Но поначалу, наверно, нужно конкретнее назвать и показать,- а может, и доказать,- в чем она, самая характерная особенность самодеятельных песен. (Мало ли кто читать будет этот опус... Вдруг - невежда в этих самых песнях... или предубежденный...)
Так вот, в двух-трех словах сформулированная особенность самодеятельных песен, по-моему, такова: они выражают разочарование в настоящем и в близком будущем нашего общества и веру в его отдаленное будущее - коммунизм.
*
- Что происходит на свете?
- А что происходит на свете?
- Фа-минор.
“Что происходит на свете? А просто зима”.
- “Просто зима, полагаете вы?” - “Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
В ваши уснувшие ранней порою дома”.
- “Что же за всем этим будет?” - “А будет январь”.
- “Будет январь, вы считаете?”- “Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
Этот с картинками вьюги старинный букварь”.
- “Чем же все это окончится?” - “Будет апрель”.
- “Будет апрель! Вы уверены?” - “Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
Будто бы в роще сегодня звенела свирель”.
- “Что же из этого следует?” - “Следует жить.
Шить сарафаны и легкие платья из ситца”.
- “Вы полагаете, все это будет носиться?”
- “Я полагаю, что все это следует шить
.Следует шить, ибо сколько вьюге` не кружить,
Недолговечна ее кабала и опала.
Так разрешите же в честь новогоднего бала
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И карнавальные маски - по кругу, по кругу.
Вальс начинается. Дайте ж, сударыня руку,
И - раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три”.
Не очень качественная песня. Эти примитивные глагольные рифмы: полагаю - пролагаю, считаю - читаю, уверен - проверен, жить - шить, кружить - предложить. Вообще, ни одной неожиданной рифмы во всей песне. Эти повторяющиеся: “полагаете?”, “полагаю”, “считаете?”, “считаю”, “уверены?”, “уверен”... Я их списал, глядя в текст. Они не запоминаются. Все время путаешься, какая там последовательность...
Плохо, когда песня не запоминается сама собой.
Не стоило б говорить об этой песне, если б не извратили, точнее, не измельчили ее смысл, глобальный смысл: что происходит на свете. Но его измельчили.
На новогоднем телевизионном огоньке по поводу наступления 1981 года эту самодеятельную песню спели известные профессиональные артисты, в два голоса, он и она. На всю страну. Казалось бы, какой успех автора и песни. Но что с нею сделали!
Певцы своими ужимками и интонацией изобразили (довольно здорово, надо отдать им должное) обыкновеннейшее ухаживание на танцульках молодого мужчины за молодой женщиной, с которой персонаж, по-видимому, только что познакомился. И вот под банальный разговор о погоде и моде происходит молниеносно быстрое, как это и бывает на танцульках, сближение этой пары. Вся сила символов песни, намеков на многозначительность обращаются на таком опереточном фоне в предчувствие многообещающих последствий столь удачного знакомства на паркете. И все.
И как это ни огорчительно, я знаю достаточно много людей, которым понравилось игривое исполнение этой грустной песни. Но Бог с ними. Для восприятия песни характерно, что не вслушиваются в слова, в их смысл,- действует общее настроение. Слушателей можно оправдать. Хуже другое: если подумать, что такое исполнение было ведомо автору, и он не возразил, не воспрепятствовал... Почему?
*
В этом же году я по телевизору слышал неуместное исполнение другой из песен самодеятельных авторов - исполнение песни “Братские могилы” (Высоцкого) в очень старом фильме “Я родом из детства”.
(Это, конечно же, самодеятельная песня. Во-первых, ее автор - профессиональный актер, официально ни среди поэтов-песенников, ни среди композиторов-песенников не числившийся. Во-вторых, и это главное, смысл песни оппозиционный. Он направлен против нивелирующего личности - единства. Я об этом раньше, в другом опусе, уже достаточно писал и не буду теперь повторяться.)
И опять: в фильме “Я родом из детства” Высоцкий не только дал согласие использовать спетую им песню, но и сам сыграл в нем.
Ну, сам-то он сыграл достаточно симптоматическую для себя роль: как бы это сказать... не то чтоб разочарованного, но как бы сильно охлажденного жизнью молодого человека. То, что эта жизнь, волею сюжетных судеб, протекала (непоказанная, впрочем) в период отечественной войны и в западных странах, ничего по сути не меняет и вполне согласуется с превалирующим настроением самодеятельных песен.
Но сама песня “Братские могилы” звучит за кадром в
тот момент, когда в кадре идет то, что не суть песни выражает, а ее материал - народное единство. В кадре, по сюжету, конец войны, люди охвачены ликованием. А если и болью невозвратимой утраты, то какой-то обобществленной болью... И ничто индивидуальное не чувствуется в том общем плане сцены, когда толпы стихийно хлынули к братским могилам у древних стен города.Это лишает, практически лишает, песню Высоцкого отрицающего подтекста.
Так что? Высоцкий этого не понимал? Или он сам не осознал, что он за песню создал? Или это был единственный шанс увековечить ее в архивах официального искусства? Но зачем ему (ведь кому - Высоцкому!) официальное признание? Или он тогда молод еще был, не окреп еще в стоицизме?..
*
А еще немного спустя я посмотрел уже нашумевший и награжденный фильм Меньшова “Москва слезам не верит”, где в титрах среди авторов песен упомянуты такие барды, как Визбор, Сухарев, Левитанский... И звучит в фильме в таком же самом фальшивом исполнении, как на новогоднем огоньке, уже знакомая нам песня Левитанского “Разговор у новогодней елки”. Это в фильме-то, первая серия которого создает довольно-таки сильное впечатление, будто он повышенно правдив.
Правда. Как ощутимо воссозданы приметы 50-х годов, как беспощадно показано прямо какое-то классовое разделение нашего общества: профессора, кинозвезды - на одном полюсе и толпа, чернь, ничтожные девчонки-работницы из женского общежития - на другом полюсе. По инерции кажется правдой и вторая серия. Но там уже начинается фантастика, вернее, пропагандистское втирание очков, особенно усилившееся с появлением в кадре слесаря, сыгранного знаменитым Баталовым.
Бывает, когда невероятные вещи выглядят вероятными. Взять классический пример - “Женитьбу” Гоголя (я ее вспомнил, потому что фабула ее и роли Баталова в чем-то совпадают: человек решил жениться и неожиданно сбежал). (Я веду речь о телевизионном фильме Виталия Мельникова по гоголевской “Женитьбе”.)
Подколесин передумал жениться как раз в тот момент, когда почувствовал себя совершенно счастливым, оттого что, наконец, решился жениться. И этому веришь. Потому что Гоголь побеспокоился о тончайшей психологической мотивировке и правдиво изобразил диалектику души. Подколесин
тогда передумал, когда обуреваемый жениховским счастьем он высказывает совершенно уж крайнее мнение, мол, нужно бы дать закон, по которому каждый обязан был бы жениться, а в противном случае - в случае отказа - объявлен должен быть неблагонадежным человеком. Против такого абсурда нельзя не восстать, и сам же Подколесин, лишь чуть отстав от зрительской реакции, тут же ее перегоняет и за одну минуту переходит от сомнения к отказу от женитьбы, выпрыгнув из дома невесты через узкое окно со второго этажа. В этой пьесе все как-то экстремально, несуразно, несоразмерно. Все персонажи - какие-то дегенераты, то или иное отклонение от нормы. Но впечатление такое, словно Гоголь хотел показать, сколь мощна и страстна норма - натура русского человека.Товарищ Подколесина так увлекся сватовством, что добивается согласия своего протеже прямо-таки против подколесинской воли. Соискатели руки, соперники Подколесина, так увлекаются соперничеством, что забывают обо всех минусах женитьбы именно на данной девушке. Сам Подколесин настолько стеснителен, что никак не женится. А когда его, наконец, раскачали, он становится так стремителен, что хочет жениться тотчас же. И т. д. и т. п. Все перегибы, перехлесты, но ровно одинаково в одну и в другую сторону - так что чувствуется норма в подтексте.
Не то в фильме “Москва слезам не верит”. Здесь объектив оператора почти никогда не бывает субъективным. Ничего огромного, подспудного, непонятного для него нет.
Я опять вернусь к “Женитьбе”. Когда Агафья Тихоновна первый раз вышла к женихам и поначалу вообще не заметила Подколесина, это просто видно как бы ее глазами: Подколесин нерезок, почти сливается с темным фоном тени, в которой он стоит.
Что подобное имеется в “Москве...”? Грязные сапоги слесаря, увиденные глазами брезгливой к грязной обуви директрисы? - Больше, наверно, нет случаев.
Когда лицо Подколесина, объясняющегося с Агафьей Тихоновной, показывают все более крупным планом, снизу, так что оно начинает деформироваться и пугать, когда в это же самое время он буквально мычит, не находя слов, не умея выразить переполняющие его чувства, мычит так, что становится страшно, то это - страх и непонятная притягательность страсти, воспринятые глазами Агафьи Тихоновны, а не Гоголя, или оператора экранизации.
А вот когда в убыстренном темпе показывают, как пожилой мужчина гоняется за юношей (и догоняет!!), то это точка зрения явно со стороны, а не участника только что закончившейся довольно опасной драки.
И вот поэтому фантастические ощущения, поданные через субъективность, через психологию - убедительны, а поданные как бы объективно - натянуты.
Можно разве поверить, глядя трезвым зрительским взглядом на натуру, снятую трезвым авторским объективом, будто положительный (очень положительный, на этом настаивают) человек, решивший жениться на нашей героине фильма (тоже очень положительной)... можно ли поверить, что мужчина, пролезший через пару недель к ней уже в постель, полюбивший ее нешуточно и, следовательно, сопричастный ее духовному миру, где ее завод занимает не последнее место - так вот, можно ли поверить, что он так и не узнал, что она - директор завода?.. А она - не знает его фамилию, адрес и место работы?..
В водевилях, в комедиях, в опереттах такую условность принимаешь как норму и не обсуждаешь. Но “Москва слезам не верит” - я повторяю - не похожа,- поначалу, по крайней мере, не похожа,- на легонькую милую кинокомедию. А ее все-таки довели до такого уровня. Фокус лишь в том, что довели без предупреждения, вдруг и очень быстро, так что за смехом от мизансцен вокруг Баталова не успеваешь заметить, что сменился жанр, что смех от нереалистических пикантностей сменился смехом от совсем нереалистических киношуток.
Вот немолодой слесарь заводит в электричке разговор с нашей директрисой и ведет этот разговор на уровне такой психологической пронзительности, которая присуща или ясновидцам, или, по меньшей мере, профессионалам человековедения - крупным писателям. (Мне приходилось встречать поразительно бойких и умных парней рабочих-москвичей, но до баталовского персонажа им как от земли до неба.)
Вот наш слесарь сходит с электрички не вместе с директоршей, а с какой-то бабулей, которой он помогает вынести и куда-то пристроить самовар; а потом этот слесарь успевает (без очереди?) схватить на площади у вокзала (у московского вокзала!) - схватить такси; потом он умудряется в толпе (у московского, опять же, вокзала!) отыскать (глядя из такси!) понравившуюся ему директрису и пригласить прокатить ее домой.
Вот он строптивую директоршину дочку двумя словами подчинил себе как глава будущей семьи.
Вот он войдя в чужую квартиру за пять минут в чужой кухне находит, что нужно, и приготавливает горячий ужин.
Вот он в совершенно незнакомом ему доме находит добровольца, готового помочь ему призвать к порядку хулиганствующих юношей, причем и сам он, и доброволец оказываются хорошо знакомыми с приемами самбо. Ну и двое пожилых мужчин, конечно же, оказываются способными сладить с четырьмя повседневно практикующимися в джиу-джитсу юношами.
А вот муж директоршиной подруги находит пропавшего жениха, зная лишь его имя и то, что он слесарь в каком-то НИИ (неизвестно при этом, в каком, а их в Москве - сотни).
Киношные возможности безграничны, и чтоб зритель не высмеял тут же зарвавшихся киношников, они дают все события с этой назревающей женитьбой в предельно быстром темпе и сами упреждают смехом - шутливой авторской точкой зрения.
И многие, очень многие, выходят из кинозала с ощущением: ах, как мило, как чудесно пошутили артисты. И немногие, только немногие, мельком думают дальше: мило и не больше.
Ну а я смею гордиться, что уже начиная со второго (календарного второго) появления Баталова-слесаря во мне уже начал действовать иммунитет ко лжи, привитый в большой мере самодеятельными песнями.
Под песню Левитанского “Разговор у новогодней елки”, но под песню, спетую, как на новогоднем огоньке, проходит пикник, организованный слесарем Гогой напоказ перед директоршей. Оказывается, он - не простой слесарь, а слесарь - как бы это сказать - академик. Его интересы сродни интересам кандидатов и докторов технических наук: и он, и они душу вкладывают в научные приборы. И слесарь Гога не только духовный аристократ, но и чисто внешне имеет вполне аристократические привычки и такт интеллигента. Например, он чутко предусмотрел, что для неподготовленных к охотничьему пикнику директорши и дочки нужно захватить раскладные стулья, кошму, чтоб укрыть ноги, а то осень - холодно. А кошма-то как смотрится на фоне блеклой осенней природы. О-о-о! Наконец-то, женщина нашла себе подходящего мужчину. Директорша - аристократа от рабочего класса.
Ах, как мило! Закадровый голос оптимистически предвещает, что ситцевые платья будут носиться... А то, что пока вокруг фальшивые карнавальные маски и фальшивый месяц - шар со свечою внутри - это поется уже не в лицах и другим тоном. Чтоб незаметно было негативное.
Ах, как мило!
Но почему один за другим продают за три сребреника кардинальный пафос самодеятельной песни самодеятельные авторы? Визбор, Сухарев, Левитанский... Неужели они думают, как и режиссер фильма?
Москва слезам не верит, - гласит поговорка. Это значит, что легкого раскаянья Москва не принимает. Ее большая лотерея дает, мол, выигрыш только тем, кто ставит на кон всю свою жизнь.
Ведь в фильме как? Легкомысленная Катеринина (директоршина) подруга и двадцать лет тому назад, и сейчас все пытается “чудесным” образом взлететь над своей средой, и ей это, конечно же, не удалось в нашей справедливой стране и столице. Она даже когда выскочила замуж за знаменитого спортсмена - проиграла: знаменитый спортсмен больше других знаменитостей имеет шансов спиться - и он исправно спился (для торжества киношной справедливости). И для этого же торжества он, уже разведенный, опять становится на твердую почву, уезжает из Москвы на родину, а его бывшая жена остается одна. Фатально лопаются все ее потуги отбить у жен какого-нибудь генерала или дипломата. “Чтоб стать генеральшей,- говорит ей какой-то третьестепенный персонаж,- да осесть в Москве, нужно выходить за лейтенанта да помыкаться с ним по гарнизонам по белу свету”. И еще кто-то кому-то говорит в ходе действия, мол, ишь вы, молодежь, все сразу хотите получить! Мы-де, пожилые, всей жизнью своей достигли того, что сейчас имеем. И другая подруга Катерины: если имеет дачу под Москвой, так потому, что двадцать лет назад сажала сама деревья да выращивала их все это время.
Ну, а если и выпадет женщине чудо: слесарь - золотые руки, панибрат ученым, аристократ по привычкам, всезнайки и всеумейка, сверхтактичный и сверхумный, сверхмужественный и сверхчуткий - идеал без недостатков, то выпадает этот чудесный “лотерейный билет” Катерине за выстраданность, как и директорский пост ее - тоже за выстраданность.
Справедливость Москвы - вот пафос фильма с
неореалистическим началом и нереалистическим концом. Вчерашняя и сегодняшняя справедливость Москвы - вот о чем лгут создатели фильма и к чему присоединяют свои песни наши барды.*
А может, я наврал на бардов, будто они искренни в горькой правдивости, будто они печалятся о наших вчерашних, сегодняшних, да и завтрашних язвах? - Да, я грешен. Но не во вранье, а в том, что все еще не доказал тут призвания самодеятельных песен.
*
Кто-то когда-то подметил, что явление наиболее определенно по своей сути в момент рождения его как нового качества. Впоследствии оно дробится на рукава и течения, противоречащие друг другу. И потом уже трудней в его сути разобраться. А в момент рождения новое качество стоит один на один со своим непосредственным противником. И это противостояние контрастно проявляет новое качество. (Впрочем, особенно хорошо это качество видно`, если названный момент рождения рассматривать из исторического далека...)
Посмотрим же на одну из первых самодеятельных песен и на время и обстановку ее появления. Но сначала цитата.
<<
Вспомните: в конце 50-х вдруг все запели - в общежитиях, скверах, во дворах и подъездах. Гитара стала инструментом номер один, тысячи молодых людей, овладев тремя знаменитыми аккордами, как бы приобщились к неведомому доселе миру романтики.По радио все еще бодро звучали голоса Бунчикова и Нечаева: “У московских студентов горячая кровь, неподкупные души и честные лица...” А в студенческих компаниях пелись песни потише, подушевнее: “Надоело говорить и спорить, “Люди идут по свету”, “Дым костра создает уют”.
>>Вот и разберемся с первой из названных песен.
Бригантина
(Песня)
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина поднимает паруса...
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас...
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют.
Так прощаемся мы с серебристою,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы
По крови, упругой и густой.
И в беде и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза.
В флибустьерском, в дальнем море
Бригантина поднимает паруса.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют,
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою.
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса...
*
Посмотрели. И что видим?
Правда, это плохо сказано - посмотрели. Надо слушать.
А голос поющих выделяет: “Надоело...” “Надоело” - это ключ песни, доминанта настроения, выраженная в слове. Надоело топтаться на месте, хочется на волю, в открытое море. Хочется свободы от общества, как свободны были встарь от законов своей родины пираты.
Так что это: эстетизация зла?
В ответ я даю длиннейшую цитату из Плеханова.
<<
У нас сильно распространена та умилительная легенда [Плеханов это писал до революции], что в 1826 году Николай I великодушно “простил” Пушкину его политические “ошибки молодости” и даже сделался его великодушным покровителем. Но это было совсем не так. Николай и его правая рука в делах этого рода, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф, ничего не “простили” Пушкину, а их “покровительство” ему выразилось для него в длинном ряде нестерпимых унижений. В 1827 году Бенкендорф доносил Николаю: “Пушкин после свидания со мной с восторгом говорил в английском клубе о вашем величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье вашего величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно”. Последние слова этого отрывка раскрывают перед нами тайну оказанного Пушкину “покровительства”. Из него хотели сделать певца существующего порядка вещей... Николай ждал от него “патриотических” произведений в духе пьесы Кукольника “Рука всевышнего отечество спасла”. Даже неземной поэт В. А. Жуковский, бывший очень хорошим придворным, старался образумить и внушить ему уважение к нравственности. В письме от 12 апреля 1826 года он говорил: “Наши отроки (то есть все зреющее поколение), при плохом воспитании, которое не дает им никакой подпоры для жизни, познакомились с твоими буйными, одетыми прелестью поэзии, мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый - это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто. Главное: величие нравственное...” Согласитесь, что, находясь в таком положении, неся на себе цепь такой опеки и выслушивая такие назидания, вполне позволительно было возненавидеть “нравственное величие”, проникнуться отвращением ко всей той “выгоде”, которую может принести искусство, и воскликнуть по адресу советчиков и покровителей:Подите прочь - какое дело
Поэту мирному до вас?
Другими словами: находясь в таком положении, Пушкину вполне естественно было сделаться сторонником теории искусства для искусства... Если все это правильно, то перед нами намечается следующий вывод:
Склонность к искусству для искусства возникает там, где существует разлад между художниками и окружающей их общественной средою.
Можно сказать, разумеется, что пример Пушкина недостаточен для обоснования такого вывода. Я спорить и прекословить не буду. Приведу другие примеры, заимствуя их из истории французской литературы, то есть литературы той страны, умственные течения которой, по крайней мере до половины пушкинского века, встречали самое широкое сочувствие на всем европейском материке
>>.Далее Плеханов дает неопровержимые доказательства на примере романтиков, парнасцев, первых французских реалистов... И еще я выпишу.
<<
Это еще не все. Пример наших “людей 60-х годов” [речь идет о времени первой революционной волны в России], твердо веривших в недалекое торжество разума... показывает нам, что так называемый утилитарный взгляд на искусство, то есть склонность придавать его произведениям значение приговора о явлениях жизни и всегда его сопровождающая готовность участвовать в общественных битвах, возникает и укрепляется там, где есть взаимное сочувствие между значительной частью общества и людьми, более или менее деятельно интересующимися художественным творчеством.До какой степени это верно, окончательно доказывается вот таким фактом.
Когда грянула освежающая буря февральской революции 1848 года, очень многие из тех французских художников, которые держались теории искусства для искусства, решительно отвергли ее. Даже Бодлер, которого Готье приводил впоследствии как образец художника, непоколебимо убежденного в необходимости безусловной автономии искусства, немедленно принялся за издание революционного журнала “Le salut public” (“Общественное спасение”). Журнал этот, правда, скоро прекратился, но еще в 1852 году в предисловии к “Chansons” (“Песни”) Пьера Дюпона Бодлер называл теорию искусства для искусства ребяческой (puйrile) и возвещал, что искусство должно служить общественным целям. Только победа контрреволюции окончательно вернула Бодлера и других художников, близких к нему по настроению, к “ребяческой” теории искусства для искусства. Одно из будущих светил “Парнаса”, Леконт де Лиль чрезвычайно ясно обнаружил психологический смысл этого возвращения... Мы читаем у него, что поэзия уже не будет более порождать героические действия и внушать общественную добродетель...
Чтобы покончить с этой стороной вопроса прибавлю, что всякая данная политическая власть всегда предпочитает утилитарный взгляд на искусство, разумеется, поскольку она обращает внимание на этот предмет. Да оно и понятно: в ее интересах направить все идеологии на служение тому делу, которому она сама служит. А так как политическая власть, бывающая иногда революционной, чаще бывает консервативной или даже совсем реакционной, то уже отсюда видно, что не следует думать, будто утилитарный взгляд на искусство разделяется преимущественно революционерами или вообще людьми передового образа мыслей. История русской литературы очень наглядно показывает, что его отнюдь не чуждались и наши
[царские, разумеется] охранители. Вот несколько примеров. В 1814 году появились три первые части романа В. Т. Нарежного: “Российский Жильблаз, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова”. Роман этот тогда же был запрещен по почину министра народного просвещения графа Разумовского, который по этому поводу высказал следующий взгляд на отношение художественной литературы к жизни:“Часто бывает, что авторы романов, хотя, по-видимому, и вооружаются против пороков, но изображают их такими красками или описывают с такой подробностью, что тем самым увлекают молодых людей в пороки, о которых полезнее было бы вовсе не упоминать. Каково бы ни было литературное достоинство романов, они только тогда могут являться в печати, когда имеют истинно нравственную цель”.
Как видите, Разумовский считал, что искусство не может служить само себе целью.
Совершенно так же смотрели на искусство те слуги Николая I , которым, по их официальному положению, нельзя было вовсе обойтись без какого-нибудь взгляда на искусство. Вы помните, что Бенкендорф старался направить на путь истинный Пушкина
>>.Вот как обстоят дела с эстетизацией безнравственного.
*
Посмотрим теперь, что могло привести Павла Когана (это он автор “Бригантины”) к разладу с окружающей общественной средою и к эстетизации пиратов.
Стихотворение написано им в 1937 году. Что к тому времени накопилось объективно негативного - за два десятилетия советской власти?
Свои разыскания я буду иллюстрировать стихами того же Когана.
Вот отрывок из неоконченного романа, романа в стихах. (В этом романе образ автора целиком сливается с образом рассказчика и Володи.) Первый отрывок - из воспоминаний Володи о своем детстве:
В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики...
[20-е годы]
...А грузовик не шел. Володя
В окно глядел. Губу кусал.
На улице под две мелодии
Мальчишка маленький плясал.
[
Видимо, духовые оркестры, вышедшие на демонстрацию, перебивают друг друга.]А грузовик не шел, не ехал,
Не ехал и не шел. Тоска.
На улице нам на потеху
Мальчишка ходит на носках.
[Тот мальчишка, видно, не детсадовский, раз на воле в праздник.]
И тетя Надя, их педолог,
Сказала: “Надо полагать,
Что выход есть и он недолог,
И надо горю помогать.
Мы наших кукол, между прочим,
Посадим там, посадим тут.
Они - буржуи, мы - рабочие,
А революции грядут.
Возьмите все, ребята, палки,
Буржуи платят нам гроши;
Организованно, без свалки
Буржуазию сокрушим”.
Сначала кукол били чинно,
И тех не били, кто упал,
Но пафос бойни беспричинной
Уже под сердце подступал.
И били в бога и в апостола
И в христофор-Колумба-мать,
И невзначай лупили по столу,
Чтоб просто что-нибудь сломать.
Володя тоже бил. Он кукле
С размаху выбил правый глаз,
Но вдруг ему под сердце стукнула
Кривая ржавая игла.
И показалось, что у куклы
Из глаз, как студень, мозг ползет,
И кровью набухают букли,
И мертвечиною несет,
И рушит черепа и блюдца,
И лупит в темя топором
Не маленькая революция,
А преуменьшенный погром.
И стало стыдно так, что с глаз бы,
Совсем не слышать и не быть,
Как будто ты такой, и грязный,
И надо долго мылом мыть,
Он бросил палку и заплакал,
И отошел в сторонку, сел,
И не мешал совсем. Однако
Сказала тетя Надя всем,
Что он неважный октябренок
И просто лживый эгоист,
Что он испорченный ребенок
И буржуазный гуманист.
(...Ах, тетя Надя, тетя Надя,
По прозвищу “рабочий класс”,
Я нынче раза по три на день
Встречаю в сутолоке вас...)
А вот другой отрывок из стихотворения “Монолог” (1936), как мне кажется, отрывок касается перехода от нэповского отступления к наступлению коллективизации.
...Мы отступили. И тогда кривая
Нас понесла наверх. И мы как надо
Приняли бой, лица не закрывая,
Лицом к лицу и не прося пощады.
Мы отступали медленно, но честно,
Мы били в лоб. Мы не стреляли сбоку.
Но камень бил, но резала осока,
Но злобою на нас несло из окон
[Я понимаю, что речь идет о мещанской реакции на ликвидацию НЭП-а и о кулацкой - и частично середняцкой - реакции на коллективизацию.]
И горечью нас обжигала песня.
Мы кончены. Мы понимаем сами,
Потомки викингов, преемники пиратов:
Честнейшие - мы были подлецами,
Смелейшие - мы были ренегаты...
Я где-то слышал (кажется по одному из западных радиоголосов), что за время правления Сталина было убито 10 миллионов человек (это включая те 3 миллиона, которые за ним официально - со слов Хрущева - числятся с начала ежовщины)...
Мы сами не заметили, как сразу
Сукном армейским начинался год,
Как на лету обугливалась фраза
И черствая романтика работ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О, пафос дней, не ведавших причалов.
Когда еще не выдумав судьбы,
Мы сами, не распутавшись в началах,
Вершили скоротечные суды!
Опять - 1937 год... Зная про те 3 или 10 миллионов, из нашего исторического далека, эти строки кажутся потрясающей исповедью.
И еще отрывок из романа в стихах. Говорит Олег, бывший друг Владимира, а теперь - идейный враг, идейный, но не более.
Ты знаешь сам - я им не враг,
Ты знаешь, папа арестован.
Но я не вру и я не врал,
И нету времени простого,
Он адвокат, он наболтал,
Ну, анекдотец - Брут на воле.
В них стержня нет, в них нет болта.
Мне лично больно, но не боле...
А Владимир через некоторое время отвечает:
“Пока внушительны портьеры,
Как русский довод - “остолоп”
И мы с тобой не у барьера,
Мы говорим. Мы за столом...”
А сестра Олега, Марина,- Владимиру:
- Какой ты трус! Какой ты жалкий!
И я такого! Боже мой!.. -
И с яростью и сожаленьем
Отходы руша и ходы:
- Ничтожество. Приспособленец.
Ты струсил папиной беды! -
И хлопнет дверью. И растает
В чужой морозной темноте.
?
О молодость моя простая,
О чем ты плачешь на тахте?
Даже если бы Коган ничего не написал бы, кроме этих выборок, он должен был бы войти в историю советской литературы как образец кристальной честности, которая не могла молчать, когда молчала о репрессиях над невиновными вся советская литература.
Что из того, что писатели и поэты в то время еще не знали, что репрессии несправедливы? Ровно ничего. Коган тоже не знал, но предчувствовал, как и полагается чуткому человеку, а тем более - литератору.
Что из того, что Коган не публиковался при жизни, что все это вышло в свет через 30 лет, во времена цензурного хрущевского потепления. Что из того? У других-то в это же время ничего подобного не обнаружилось, чтоб опубликовать post factum!
Итак, Когану в 1937 году было в чем разочароваться и наметить разлад с окружающей общественной средой.
*
Но плюнуть в лицо нужно тому, кто только разлад в Когане и увидит, а заодно - и во всем движении самодеятельных песен.
Я опять призову в свидетели самого же Когана. Вот продолжение того рассказа о преуменьшенном погроме в детском саде:
Володя промолчал дорогу,
Старался не глядеть в глаза...
...Но возле самого порога,
Сбиваясь, маме рассказал
Про то, как избивали кукол,
Про “буржуазный гуманист”...
На лесенке играл “Разлуку”
Слегка в подпитьи гармонист.
Он так играл, корявый малый,
В такие уходил баса,
Что аж под сердце подымалась
Необъяснимая слеза.
?
А мама бросила покупки,
Сказала, что “теряет нить”,
Сказала, что “кошмар” и - к трубке,
Скорее к Любочке звонить.
(Подруга детства, из удачниц,
Из дачниц. Все ей нипочем,
Образчик со времен задачников,
За некрасивым, но врачом.)
А мама, горячась и сетуя,
Кричала Любочке: “Позор,
Нельзя ж проклятою газетою
Закрыть ребенку кругозор.
Ведь у ребенка “табуль раса”
(Да ну из фрембелевских, ну ж),
А им на эту “табуль” - классы,
Буржуев, угнетенных. Чушь.
Володя! Но Володя тонкий,
Особенный. Не то страшит.
Ты б поглядела на ребенка -
Он от брезгливости дрожит.
Все мой апостол что-то ищет.
[Это, наверное, уже она о своем муже-идеалисте (“Тех предпоследних донкихотов особый, русский вариант”) - о, так сказать, о беспартийном большевике.]
Ну, хватит - сад переменю,
Ах, Надя - толстая бабища,
Безвкуснейшая парвеню”.
´
Володя слушал, и мокрица
Между лопаток проползла,
Он сам не ведал, что случится,
Но губы закусил со зла.
Какая-то чужая сила
За плечи тонкие брала,
Подталкивала, выносила...
Он крикнул: “Ты ей наврала,
Вы обе врете. Вы - буржуи,
Мне наплевать. Я не спрошу,
Вы - клеветуньи. Не дрожу и
Совсем от радости дрожу”.
Он врал. Да так, что сердце екнуло.
Захлебываясь счастьем врал.
И слушал мир. И мир за окнами
“Разлуку” тоненько играл.
Лирический герой Павла Когана разлучился с мещанским брюзжанием разом на все - прошлые, настоящие и будущие - ошибки строительства социализма в нашей стране (и где бы то ни было) и завещал наследникам, в том числе и самодеятельной песне, не случаться с антикоммунистами ни при каких обстоятельствах.
Коган понимал, конечно, как пагубна инерция разочарования:
...Но хрипя, отвечает тень:
“Прекрати. Перестань. Не надо.
В мире ночь. В мире будет день.
И весна за него награда.
Мир огромен. Снега косы,
Людям - слово, а травам - шелест.
Сын ты этой земли иль не сын?
Сын ты этой земли иль пришелец?
Выходи. Колобродь. Атамань.
Травы дрогнут. Дороги заждались вождя.
...Но ты слишком долго вдыхал болотный туман.
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя”.
Нужно было быть бдительным вдвойне: чтоб, отталкиваясь от брюзжащего мещанства скрыто или явно буржуазного толка, не прийти к небрюзжащим, приспособившимся мещанам советского образца, которые опасны тем, что их - большинство, а ты от них - советских - отличаешься (своей, хоть и советской тоже, но оппозиционностью).
У каждой ночи привкус новый,
Но так же вдребезги храпят
И спят, откушав, Ивановы,
В белье, как в пошлости, до пят.
А я один. Живи в пустыне.
Иди, главы не нагибай,
Когда бараньим салом стынет
Их храп протяжный на губах.
Куда идти, куда мне деться!
От клизм, от пошлости, от сна!
Так выручай, простое детство
И лермонтовская сосна.
[Для тех, кто забыл, напомню: “На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...”]
И не уйти. Меня за локоть
Хватает мир их, и, рыгнув,
Он хвалит Александра Блока,
Мизинец тонко отогнув.
Я бы наотмашь, и мгновенно
Он внешне переменит суть,
Он станет девушкой надменной,
Пенснишки тронет на носу.
И голосом, где плещет клизма,
Пенснишки вскинув, как ружье,
Он мне пропишет десять “измов”
И сорок “выпадов” пришьет.
[Это уже об антисоветских, мол, выпадах речь.]
Я рассмеюсь, я эту рожу
Узнаю всюду и всегда.
Но скажет милая: “Быть может”,
И друг мне руку не подаст...
Это на таких подруг и друзей опирался Ежов, когда именем Сталина расстреливал Якира и Тухачевского.
Но чудо, русское чудо, вернее, советское чудо заключалось в том, что никак не переводились люди, готовые, как Якир, за миг до расстрела воскликнуть: “Да здравствует Сталин!”, имея в виду: “Да здравствует коммунизм!”.
И поэтому во имя Будущего, перешагивая через интуитивно чувствуемые миллионные (физические и моральные) жертвы коллективизации (перегибов коллективизации), Коган выбирает для эстетизации тот момент, когда жертвой является человек, вершащий это Будущее сегодня.
...Честнейшие - мы были подлецами,
Смелейшие - мы были ренегаты.
Я понимаю все. И я не спорю.
Высокий дух идет высоким трактом.
Я говорю: “Да здравствует история!”...
И головою падаю под трактор
.Что из того, что жертв среди сторонников коллективизации было намного меньше, чем жертв среди ее врагов. Сочувствие - всегда на стороне жертв. И если Коган на стороне социализма, то воспевать ему - если по-шолоховски - Давыдова, а не кулаков. Так он и делает.
И я не напутал, свалив-де в одну кучу репрессированных: Якира и кулаков.
О мальчики моей поруки!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы ели тыквенную кашу,
[Дешевая.]
Видали Родину в дыму,
В лице молочниц и мамаши
Мы били контру на дому.
Двенадцатилетние чекисты,
Принявши целый мир в родню,
Из всех неоспоримых истин
Мы знали партию одну.
И фантастическую честность
С собой носили как билет...
[Это написано между 1939 и 40-м годами, и если понять это как некое оправдание репрессий, но уже не над молочницами и мамашами, а над якирами и тухачевскими - и не со стороны двенадцатилетних чекистов, а со стороны в два раза старших товарищей,- то сложность отношения к происходящему возрастает фантастически.]
И фантастическую честность
С собой носили как билет,
Чтоб после, в возрасте известном,
Как корью ей переболеть.
Но, правдолюбцы и аскеты,
Все путали в пятнадцать лет.
Нас честность наша до рассвета
В тревожный выводила свет.
[Они не виноваты, что их честностью воспользовались темные силы, вроде Ежова, и, прикрываясь дорассветной темнотой, заставили, можно сказать, заставили их сделаться неправыми палачами.]
Нас честность наша до рассвета
В тревожный выводила свет.
На Украине голодали,
Дымился Дон от мятежей,
И мы с цитатами из Даля
Следили дамочек в ТЭЖЭ.
[И всего-то,- скажет читатель.- Зачем же дело шьют?
А вот и шью. Потому что роман в стихах - это не протокол свидетельских показаний. Здесь все - на ассоциациях. А они - ох, как навязчивы. Вот - пожалуйста: дальнейший текст.]
Но как мы путали. Как сразу
Мы оказались за бортом,
Как мучились, как ум за разум,
Как взгляды тысячи сортов.
[Что это, как не смятение от вдруг обрушившихся репрессий?]
Как нас несло к чужим. Но нету
Других путей. И тропок нет.
Нас честность наша до рассвета
В тревожный выводила свет.
О Родина! Я знаю шаг твой,
И мне не жаль своих путей.
Не правда ли, последние две строчки вполне бы мог крикнуть Якир в лицо расстреливающим его.
А конец цитируемого отрывка такой:
О Родина! Я знаю шаг твой,
И мне не жаль своих путей.
Мы были совестью абстрактной,
А стали совестью твоей.
Это одновременно сказанное “нет” и “да” истории своего времени. И больше “да”, чем “нет”. “Да”, несмотря ни на что!
...Плохо,
Как плохо, если десять лет.
[Двенадцатилетних чекистов можно не только понять, но и простить. 20-летнее общество нового типа - тоже.]
Есть гордость временем своим,
Она мудрей прогнозов утлых,
Она тревогой напоит,
Прикрикнет, если перепутал...
[Говорит Владимир своему идейному врагу.]
...Есть мир, он, право, не чета
Твоей возвышенной пустыне...
[Олег бежит от действительности в искусство для искусства.]
...В нем так тревога начата,
Что лет на триста не остынет.
Крушенье личности и Трой,
Суровая походка грома!
Суровый мир, простой, огромный,
Распахнутый для всех ветров...
Вот как нужно гордиться своим временем, принимая на себя лично - все его грехи. Вот это - по-коммунистически: быть умом, честью и совестью нашей эпохи. Совестью!
И тут самое время и место привести вот этот гвоздевой отрывок из “Лирического отступления” Когана:
Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков
Наверно плакать будут ночью
О времени большевиков...
Это самые известные, после “Бригантины”, стихи. Даже не знающих ни строчки больше из Когана этот стих поражает. Во всяком случае, я в свое время был поражен. Но, уверен, не один я. Надо было слышать интонацию того, кто мне их декламировал... И нас не двое. Так уж устроен человек: малейший намек на откровение волнует больше, чем само долгожданное откровение. Потому что эмоция это (извиняюсь за сухость) механизм дальнего предвидения удовлетворения потребности. Если выразиться проще и в ином плане: наиболее счастлив не тогда, когда достиг, а когда предчувствуешь достижение.
Кто-то из ученых когда-то под Новый год в газетном интервью пожелал советской литературе большей искренности... Наткнувшись на “Лирическое отступление”, я ощутил: такое пожелание небезнадежно. И правда. Существуют целые россыпи искренности - самодеятельные песни, особый род городского народного искусства. Нужно только правильно подавать их в профессиональном искусстве, правильно освещать, будь то свет рампы или кинотелевизионных юпитеров в ночь на Новый год...
Хотя, впрочем, истина себя все равно докажет. Четверостишие из “Лирического отступления” Когана западает в душу без никаких пояснений, пусть даже они и достаточно тонки и неоскорбительны - в виде обрамления из других когановских произведений. А все же как приятно удесятерить силу его воздействия на разум (я на чувства не посягаю), предварив это четверостишие другими стихами Когана...
*
Теперь, в свете обстоятельно, надеюсь, продемонстрированного творчества Когана, станет заметным вот что: ведь в “Бригантине” героями песни являются не люди с бригантины, не люди Флинта, не пираты, не вырвавшиеся из тягостного общества. Герои песни - те, кто остался на берегу, кто лишь душой, так сказать, с ушедшими в море, кто лишь пьет за них да запевает особую песенку. Когановское “надоело” и эстетизация пиратства роднит-таки его с искусством для искусства, с искусством тех, кто в разладе с общественной средой. Но когановский отказ уплыть, а значит, практическое статус кво, продолжение “любить усталые глаза” - роднит его с приверженными к общественной пользе искусства. То есть он отличается от романтиков прошлого века (и от Лермонтова, к чьей сосне декларативно прибегал он давеча как к убежищу). Даю и в этом доказательства, опять же, из стихов самого Когана.
Уже знакомый Владимир пришел к Олегу. Какая-то кошка между ними раньше уже пробегала, но они еще друзья. Во всяком случае, еще откровенны друг с другом. Владимир прочел Олегу свою поэму. Олег критикует... Владимир отвечает на критику...
(Я не стесняюсь длиннейших выписок: во-первых, они мне очень нравятся, и я их хочу донести до своего читателя, во-вторых, таким огромными выписками не пренебрегал даже незабвенный Виссарион Григорьевич Белинский.)
Итак...
Уже дочитаны стихи.
Олег, закуривая, стоя:
“Ну что ж, пожалуй, неплохи,
А только и плохих не стоят.
А пахнут, знаешь, как тарань,-
Приспособленчеством и дрянью.
Того гляди и трактора
Бравурной песенкою грянут.
[Неужели Олег услышал то, что через 20 лет будут петь Бунчиков и Нечаев: “У московских студентов горячая кровь”?..]
И тут же, “не сходя с местов”,
Безвкусицей передовицы
Начнут высказывать восторг
Орденоносные девицы.
Ты знаешь сам - я им не враг,
Ты знаешь, папа арестован.
Но я не вру и я не врал,
И нету времени простого,
Он адвокат, он наболтал,
Ну, анекдотец - Брут на воле.
В них стержня нет, в них нет болта.
Мне лично больно, но не боле.
Но транспортиром и мечом
Перекроив эпоху сразу,
Что для искусства извлечет
Опальный человечий разум!
Боюсь, что ничего. Взгляни:
Французы, что ли?
Ну лавина!
А что оставили они -
Недопеченного Давида.
Ну что еще? Руже де Лиль?
Но с тиною бурбонских лилий
Его навеки отдалил
Тот “Ягуар” Леконт де Лиля.
Искусство движется теперь
Горизонтально. Это горько,
Но выбирай, закрывши дверь,-
“Виргиния” или махорка.
Ну что же, опростись пока,
Баб щупай да подсолнух лускай,
А в рассужденьи табака
Лет через сто дойдешь до “Люкса”.
Без шуток. Если ты поэт
Всерьез. Взаправду. И надолго.
Ты должен эту сотню лет
Прожить по ящикам и полкам.
Росинкой. Яблоком. Цветком.
Далеким переплеском Фета,
Волос девичьим завитком
И чистым маревом рассвета...”
Но ведь это как раз искусство для искусства, к которому я, переписывая Плеханова, подводил когановскую эстетизацию пиратства. А то, что написал лирический герой Когана - Владимир - взойдет в будущем к парадности ложной
и ходульности, которой через 20 лет будет противостоять “Бригантина”.Так в чем дело? Коган раздвоен?
*
Есть у меня совершенно окольный путь, которым я не побрезгую, ибо он очень хорошо покажет единство и Когана и его Владимира. Этот путь открыл для меня некий Португалов, преподаватель на уроках слушания музыки в одной из московских школ. Для меня, вслед за его слушателями, ключом для понимания советского музыкального искусства 30-х годов оказались массовые песни того времени.
Португалов пишет: <<
Первый урок после зимних каникул я мог бы назвать и самым лучшим (это мнение всей моей группы), и самым неожиданным, и центровым, и я уже даже не знаю каким. Наверно, просто самым важным. Ведь речь шла о том, что как будто бы всем давно известно, а именно этот урок и стал самым большим откровением, заставил на многое взглянуть другими глазами.[На уроке звучали 27 песен: Покрасс, “Дан приказ ему на запад...”; Блантер, “Песня о Щорсе” (“Шел отряд по бережку...”); Арманд, “Тучи над городом стали”; Книппер, “Полюшко-поле”; Дунаевский, “Каховка”; Шостакович, “Нас утро встречает прохладой”; Дунаевский, “Легко на сердце от песни веселой”; Блантер, “Молодость” (“Много славных девчат в коллективе...”; Дунаевский, “Молодежная” (из к/ф “Волга-Волга”), “До свиданья, девушки...”, “Ну-ка, солнце, ярче брызни...”; Богословский, “Спят курганы темные...”; Дунаевский, “Марш энтузиастов”, “Ах ты, сердце...”; Богословский, “Любимый город”; Милютин “Чайка”; Пушков, “Лейся, песня, на просторе...”; Блантер, “Катюша”, “В путь-дорожку дальнюю...”; Захаров, “Вдоль деревни”; Покрасс, “Три танкиста”; Хайт, “Все выше...”; Покрасс, “Если завтра война...”; Милютин, “Все стало вокруг голубым и зеленым...”; Покрасс, “Москва майская” (“Кипучая, могучая, никем непобедимая...”; Хренников, “Песня о Москве” (из к/ф “Свинарка и пастух”); Дунаевский, “Широка страна моя родная...”.]
Что же произошло на уроке, что поразило ребят, а иных буквально потрясло?
Вот как вспоминает об этом спустя восемь лет Саша Бодров: “Почти все песни, звучавшие тогда на уроке, я знал раньше. Они мне нравились, точнее - их мелодии и те радостные чувства, что они несли в себе. Но вот Константин Петрович начал урок.
- Возможно, все эти песни вам хорошо известны. Только сегодня попробуем их послушать по-другому. Задумывались ли вы, ребята, над тем, что по тому, о чем и как поют многие люди, можно составить некоторое представление о том времени, в которое они жили? Почувствовать настроение людей того времени? Давайте сейчас, слушая эти песни, постараемся понять и почувствовать то главное, что характеризует 30-е годы,- один из удивительных периодов в истории нашей страны...
Тогда, 14 января 1965 года, я ощутил только то, что урок получился. Но насколько он получился, я даже не подозревал. Готовясь к нему, я прежде всего ставил перед собой локальную задачу: сделать все, чтобы ребята приняли эти песни, чтобы они для них стали родными, близкими и понятными, чтобы они их восприняли не просто как хорошие и даже очень хорошие песни, но чтобы в них непременно прозвучал рассказ о том времени, чтобы они ощутили сами дух энтузиазма 30-х годов. Ребята пошли дальше. После этого урока все произведения Шостаковича и Прокофьева, Мясковского и Хачатуряна, Кабалевского и Хренникова - все, написанное в 30-е годы, они воспринимали через призму этих песен, либо как что-то им противоположное, ярко контрастное, говорящее совсем о другом, на что в этих песнях даже намека не было
[и что было - от себя скажу - в стихах Когана]. И все это ребята делали самостоятельно. А тот урок оказался лишь мощным начальным толчком.Последовавшие сразу же за ним уроки, посвященные Четвертой, Пятой и Шестой симфониям Шостаковича, произвели на ребят огромное впечатление. Как это ни покажется странным, но именно песни 30-х годов во многом помогли им понять то, о чем говорила музыка Шостаковича. В ней ребята услышали то, что помогло им составить более полное и глубокое представление об этом сложном времени
>>.Далее Португалов, может, не без цензурных соображений делает как бы отвлечение от темы, а потом уже - дает выдержку из сочинения одного из учеников по поводу фортепианного Квинтета Шостаковича:
<<
Сочинение делится на те же пять частей, что и Квинтет. Впечатление от Прелюдии Женя укладывает в четыре короткие фразы:“Человек и природа... Раздумья. Человек ищет что-то новое, свежее, искреннее. Но где все это найти?”
О Фуге в двух словах не скажешь
[пишет Женя, и я воспользуюсь и опущу его]...”Скерцо, по всей вероятности, Женя воспринял как драматический центр произведения, его драматическую кульминацию. По крайней мере, таким оно выглядит в его сочинении. Здесь и поставлен главный вопрос.
“Но тут врывается что-то ненатурально веселое. Какая-то тема, совершенно противоположная тому, что было в музыке первых двух частей. Это что-то суетное, раздражающее, что не дает человеку спать, мыслить... Это то, чего он не понимает, не принимает, против чего он протестует. Вернее, пытается протестовать. Он не верит в эту веселость. Это крушение. Человек на распутье.
Только-только он вырвался из общего потока, идущего за той ненатуральной темой. Только что он впервые по-настоящему задумался над тем, что это такое. Но внутри человека борются какие-то совершенно противоположные чувства. Пусть он не верит. Но ведь вокруг-то все верят! Все окружающие идут с тем потоком. Все ошибаются? Все идут не в ногу, в ногу идет только он? Протестовать? Высказывать свои взгляды?
Но что же дальше? Человек мечется. Надо решиться. А чтобы решиться, надо все понять. Но попробуй пойми!”
Женя очень точно уловил неразрешенность третьей части и ее противопоставление двум предыдущим и двум последующим. Поэтому не случайно он кончает разбор Скерцо вопросом, на который должен быть дан ответ в Интермеццо и Финале.
“Но как он мог забыть о природе... Вот откровение. Вот что настоящее. И он снова углубляется в созерцание. Все внешнее, остыв, отступило. Осталось только непосредственное восприятие...”
[Неужели: как говорил когановский Олег Владимиру?
Ты должен эту сотню лет
Прожить по ящикам и полкам.
Росинкой. Яблоком. Цветком...]
...Остается еще часть - Финал
[вмешивается и отвечает Португалов]. Он вытекает из предыдущей части (в музыке они идут без перерыва).“...Музыка становится отрывистее. Она как бы отрезвляет, приводит к действительности.
И опять возникают старые заботы, опять приходит давешняя тревожная тема. Но теперь она не такая, как прежде. Она мягче. В нее как бы влилась щедрая часть тепла природы...”
Если бы меня
[опять вмешивается Португалов] попросили выразить в двух словах мое понимание Финала Квинтета, я бы, пожалуй, ответил так: “просветленное успокоение”, а одним словом - “прояснение”>>.А словами Когана,- добавлю я,- это бы звучало так:
Я понимаю все. И я не спорю.
Высокий век идет высоким трактом.
Я говорю: “Да здравствует история!” -
И головою падаю под трактор.
Это как после трагедии. На сцене все умерли, а зритель уходит из зала с просветленной душой...
А ученики Португалова еще добавляют по-своему: <<
“Герой Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Шостаковича - человек 30-х годов. Это не автор, не какой-то один определенный человек, а собирательный образ. Мир, окружавший композитора, заставлявший его страдать и быть счастливым, ежеминутно задававший вопросы и требовавший ответа на них, непременно должен был отразиться в музыке такого композитора, как Шостакович.[
Думаю, после предшествовавшего разбора Квинтета эти слова не покажутся необоснованными.]Это было не то время, чтобы писать симфонии только о своей личной судьбе...
[
А я добавлю, что именно потому кричал Якир: “Да здравствует Сталин!”, а Коган писал: - Я говорю: “Да здравствует история!” - и головою падаю под трактор.]...Может быть [
продолжает португаловский ученик], больше, чем когда-либо, людям нужен был откровенный разговор о том, что мучило их, на что необходимо было найти им ответ. Конечно, Шостакович в своих симфониях не собирался разрешить все проблемы, встававшие перед обществом 30-х годов,- смешно было бы требовать этого от одного человека. Но так же важно было показать людям их современника, “героя их времени”, чтобы люди могли увидеть в жизни героя их музыки отражение своей жизни. Герой симфоний Шостаковича, несмотря на то, что эти произведения глубоко личные, олицетворяет все лучшее, что видел композитор в людях 30-х годов.Может быть, это обобщение произошло благодаря чутью композитора, может быть, это был гениальный замысел...
...Уродливые образы внешнего мира болезненно ранят героя Шостаковича. Его чуткое сердце отзывается на каждый диссонанс жизни, но неколебимая вера в будущее, за которое нужно бороться, словно яркий луч света, не дает ему заблудиться в жизни...”
>>Хватит цитировать прозу! Пора сочинять свою. Хотя, впрочем, моя роль была не только в переписывании, но и в компоновке. Это второе сочинение у Португалова опять было отделено от первого менее ершистыми этюдами. (У Португалова-то - подцензурное издание, а у меня - нет.) И с моей подачи, надеюсь, особенно ясным станет и то, почему Шостакович натерпелся в жизни от музыкальных властей, и то, почему Коган не печатался. А кому еще не совсем ясно, так я еще дополню: симфонии и квинтеты не так доходчивы до масс, как песни. Поэтому Шостакович мог себе позволить печататься, а Коган - не мог. И именно вследствие своей цельности Шостакович, грубо говоря, в соответствии с финалами Квинтета и Четвертой, Пятой и Шестой симфоний - вступил-таки в партию большевиков. А Коган - написал необычайной силы стихи о времени большевиков.
Пример Шостаковича яснее ясного показывает, каким цельным поэтом был Коган.
Интересное совпадение, кстати: в промежутке между сочинениями учеников о Квинтете и симфониях Португалов поместил одно - о песнях 30-х годов, в котором цитируется когановское “Есть в наших днях такая точность...”
И еще совпадение. Не помню где, но мне довелось слышать или читать, мол, Шостакович - совесть нашего века. Как же тут не повторить еще раз Когана:
О Родина! Я знаю шаг твой,
И мне не жаль своих путей.
Мы были совестью абстрактной,
А стали совестью твоей.
Нет. Коган был не раздвоенным, а цельно-сложным. И такими же были положительные герои его стихотворений, в том числе и те, что не вышли в море на бригантине.
*
И все-таки поэзия Когана противостоит массовой песне 30-х годов, как его “Бригантина” противостоит бравурным песням 50-х годов.
Вслушаемся в ответ Владимира на Олегову критику:
“...Я знаю все. И как ты куришь,
А в рассужденье грез и лир,
Какую точно кубатуру
Имеет твой особый мир.
И как ты скажешь: “В январе
Над городом пылает льдинка,
Да нет, не льдинка, погляди-ка,
Горит как шапка на воре”.
И льдинка вдрызг. И на осколках
Ты слово это надломил,
От этой вычурности колкой
Мне станет холодно на миг.
Философ. Умница. Эстет,
Ты издеваешься над щами.
Ты знаешь, что на свете нет
Страшней, чем умные мещане.
Чем чаще этот род у нас,
Чем суть его умнее лезет,
Тем выше у меня цена
На откровенное железо.
[Чем, казалось бы, не перекличка со сталинской теорией о том, что чем больше успехи социализма, тем ожесточеннее классовая борьба, тем более возможно появление врагов народа. Казалось бы...
Но...]
Да, транспортиром и мечом
Перекроив эпоху сразу
Он в первой грусти уличен,
Опальный человечий разум.
Так, сам не зная почему,
Забыв о верности сыновней,
Грустит мальчишка. И ему
Другие горизонты внове”.
Итак, мальчишка все же грустит. Итак, своего Владимира Коган все же числит среди опальных. А песни 30-х годов по определению португаловских учеников “
удивительно светлы и жизнеутверждающи и как будто светятся изнутри счастьем и радостью”. - Явное противостояние.И именно это противостояние дало силу через 20 лет тихой “Бригантине” отвоевать себе души московских студентов у очень громких песен о московских студентах.
Но об этом никто не смеет заявить публично. Публично же пишут так:
<<
Мелодии были незатейливы, слова порою более чем просты, а поди ж ты - все это волновало, находило самый живой отклик в сердцах молодежи. Да и время было такое - восторженное, горячее, слегка наивное. Целина, первые великие сибирские стройки, студенческие отряды. Наверное тогдашним бардам в чем-то удалось выразить живое биение времени>>. - Это о конце 50-х годов в журнале “Смена” 81-го года.Чего в этой цитате больше: вранья или правды?
Мелодии были незатейливы? - Пусть! (Я не смогу оценить затейливость-незатейливость.) Но слова (если откинуть осторожное “
порою”) - разве были просты?Я специально показал на примере творчества Когана, какие глыбы скрываются за таким маленьким штрихом, что
Капитан...
Вышел в море, не дождавшись нас...
Что же такое сложность, если не это?
И время было не восторженное, а отчаянное - в сельском хозяйстве, по крайней мере. Это было время разоблачения культа личности или, по крайней мере, - время, требовавшее от Хрущева разоблачить этот культ. Это было время сомнения, которое еще за 30 лет до того предвосхищал Шостакович, а 20 лет до того - Коган:
...так тревога начата,
Что лет на триста не остынет.
Для великих сибирских строек и студенческих отрядов как раз бунчиковские и нечаевские громогласные московские студенты годились, а не провожающие бригантину, ушедшую в море кое без кого...
*
Что ж это за фальшь опять? На этот раз - в критике о самодеятельных песнях.
Или за прогресс считать, что хоть что-то критическое об этих песнях появилось (раньше-то вообще замалчивали)?
Или считать, что конец им подходит: упечь могут в тюрьму парочку-другую бардов в назидание другим, чтоб молчали и не слушали?.. А чтоб этого не случилось, считать что ли, что в “Смене” защитник этих песен объявился. Показать хочет, что они, мол, свои, не надо, мол, так уж круто - в тюрьму... (Насчет тюрьмы - не моя выдумка, а слух, и, может быть, не очень уж далекий от истины.)
Так или иначе, есть гораздо более пригодное средство для интегрирования, так сказать, самодеятельных песен с нашим общественным строем. Это средство дано еще до революции, дано Плехановым, и заключается оно в формуле о
безнадежном разладе художника с действительностью.*
О разладе я уже много писал, цитируя Плеханова, но что поделаешь - нужно цитировать еще: о
безнадежном разладе.<<
Я сказал, что восставая против буржуазных вкусов и привычек, романтики ничего не имели против буржуазного общественного устройства... Общее правило было таково, что, восставая против буржуазной пошлости, романтики в то же самое время весьма недружелюбно относились к социалистическим системам, указывающим на необходимость общественной реформы. Романтикам хотелось изменить общественные нравы, ничего не изменив в общественном устройстве. Само собою разумеется, что это совершенно невозможно... Романтическое восстание против “буржуа” было совершенно бесплодно в практическом отношении...К романтическим кружкам принадлежали молодые буржуа, ничего не имевшие против названных [
буржуазных] отношений, но в то же время возмущавшиеся грязью, скукой и пошлостью буржуазного существования. Новое искусство [романтизм], которым они так сильно увлекались, было для них убежищем от этой грязи, скуки и пошлости. В последние годы Реставрации и в первую половину царствования Луи Филиппа, то есть в лучшую пору романтизма, французской молодежи тем труднее было свыкнуться с буржуазной грязью, прозой и скукой, что незадолго до того Франция пережила страшные бури великой революции и Наполеоновской эпохи... Когда буржуазия заняла господствующее положение в обществе и когда ее жизнь уже не согревалась более огнем освободительной борьбы, тогда новому искусству осталось одно: идеализация отрицания буржуазного образа жизни... Романтики старались выразить свое отрицательное отношение к буржуазной умеренности и аккуратности... Но... они не ждут и не желают перемен в общественном строе в современной им Франции. Поэтому их разлад с окружавшим их обществом совершенно безнадежен>>.По аналогии можно рассматривать Когана, а вслед за ним и самодеятельные песни. Коган тоже вовсе ничего не имел против социализма как экономической формации - распределение по труду. Ему лишь не нравились некоторые ошибки его построения в нашей стране, вроде, излишней жестокости и досадной темноты тех, кто является базой такой жестокости (вспомнить хотя бы тетю Надю). Его начал уже слегка коробить тот “партмаксимум”, который автоматически,- раз член партии,- а не по действительным заслугам, начал воцаряться в государственном устройстве. И еще его заметно беспокоит снижение идеала у большинства - у Ивановых (самая распространенная фамилия). То есть такая же скука и пошлость его не удовлетворяет, как когда-то романтиков. Вот он и провозглашает тост:
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Но, повторяю, Коган за социализм как строй. И его герои “Бригантины” остались пока на берегу, опять же - повторяю, чтобы “любить усталые глаза
”.Его протест против опошления социализма вполне безнадежен, совсем по Плеханову. И в полном соответствии с этим плехановским положением его песня неминуемо грустная и петь ее нужно потише, чем Бунчиков и Нечаев о московских студентах.
И совершенно то же относится почти ко всему движению самодеятельных песен. То, что было поначалу уделом одиночек, самых чутких, постепенно с ходом жизни становится достоянием многих.
Так, неопубликованная в 30-х годах поэзия Когана выплескивается через 20 лет популярнейшей “Бригантиной”.
Что же происходит на свете? - если спросить словами Левитанского,- что за зима?
Сейчас уже можно ответить обобщенно. Например, у лекторов общества “Знание” проскальзывают мысли, мол, да, мы несравненно меньше изучили закономерности построения социализма, чем закономерности жизни его врага - капитализма. Поэтому, мол, социализм все преподносит и преподносит нам сюрпризы: то венгерские события, то чехословацкие, то Китай, то Польшу, то культ личности, то уже скоро полувековое полукатастрофическое отставание сельского хозяйства и т. д. и т. п.
Неясные перспективы и сомнительные повороты генеральной линии партии, то обещание вот-вот коммунизма, то вот нынешнее просто отсутствие программы КПСС - начали просматриваться давно. Во времена Когана это было противоречие между декларированным построением социализма, с одной стороны, и нарастанием, с другой стороны, классовой борьбы, почему-то якобы толкающей на предательство даже якиров и тухачевских.
Во времена “Бригантины”- песни декларировалось восстановление народного хозяйства после военной разрухи, тогда как минимум о сельском хозяйстве этого нельзя было сказать.
И до сих пор пищи для разочарования и недовольства буднями социализма хватает. Взять ту же Польшу, с которой начался этот опус. Когановский “партмаксимум” разросся в Польше в 18% товаров, пускаемых в закрытую продажу по пониженным ценам для представителей партийной и государственной власти, и этот “партмаксимум” явился одним из фитилей, подпаливая который хотят уничтожить социализм в Польше.
Есть, есть, в общем, отчего быть в безнадежном разладе с обществом художникам, идейно приверженным к коммунистическим идеалам. И плехановская формула совершенно не отторгает их от социализма.
*
Но плехановская формула совершенно не в ходу у нашей официальной критики.
Посмотрим сначала, почему это так, с официальной точки зрения.
*
Тут я должен извиниться за то, что ввергаюсь в чисто теоретический спор, и за то, что он может оказаться сложным для моего читателя, а заодно - еще за то, что я, возможно, незаметно для себя и читателя лишь якобы побеждаю в споре. Но... попытка - не пытка. Внимательно следите, кто прав.
Плехановскому двухтомнику “Литература и эстетика” некий Буров предпослал статью, в которой, в частности, есть такое:
<<
...получается, что, с одной стороны, художник, стоящий на позициях “чистого искусства”, подвергает суровой критике нравственность своего собственного класса, а с другой - удаляется в “сферу высших интересов”, то есть отрешается от всякой реальной борьбы.Так столкнулись в непримиримом противоречии два принципа истолкования Плехановым общественного смысла теории “чистого искусства”
>>.А на самом деле ничего противоречивого здесь нет. Например, Пушкин в душе подвергает суровой критике нравственность своего класса, своего окружения, которое с разгромом декабристов сразу “
пало и стало грязнее, раболепнее”. Но вслух он этого сказать не может: не кому. И вот он удаляется в “сферу высших интересов”, то есть выражает свое осуждение косвенно, а не прямо.Или вот Бурсов пишет: <<
Искусство действительно выражает общественную жизнь и философскую мысль, ибо ничего другого оно не может выражать. Весь вопрос, по Плеханову, в том, как относятся художники к этому выражению общественных и философских идей своего времени. Если это выражение является для художника само себе целью, то их искусство будет “чистым искусством”, если же они преследуют в своем творчестве какие-либо практические цели, то их произведения не будут принадлежать к “чистому искусству”.Уступка Плеханова кантианству здесь очевидна. Нет надобности особо разъяснять, что творческая деятельность всякого художника не может не преследовать каких-либо практических целей
>>.Просто болваном каким-то предстает Плеханов в глазах Бурова. Можно подумать, что Плеханов всерьез говорит о приверженцах “чистого искусства” как о людях, творящих, каждый, для самого себя. Ну действительно: если цель - выразить свое время, выразить и не более, то это значит выразить и никому даже не показать (тем паче, что некому - вокруг чужие). Я повторю: цель - достигнута, выражение - произошло. В пустоту... Общественный, как выражается Буров, смысл такого искусства, надо согласиться, равен нулю.
Но разве существует в таком виде современное искусство? Застольное или дорожное пение в таком виде существует, но оно <<
не относится к собственно искусству в его современном виде. Современный вид искусства предполагает разделение творчества и восприятия (это разделение есть один из необходимых результатов развития)>>.А разбираемые Плехановым приверженцы “чистого искусства”: романтики, парнасцы, первые французские реалисты - никак не представляли собою застольную компанию. Они печатали свои книги, и этим уже все сказано. Ибо <<
конечная цель такого процесса - сформировать в сознании читателя модель поведения>>.Другое дело, что круг людей, к которым адресовались эти художники, был невелик, элитарен, но он был, предполагался существующим. Как пишет сам Плеханов, <<
если они и печатали свои произведения, то, по их словам вовсе не для широкой читающей публики, а только для немногих избранных, “для неизвестных друзей”, как выражается Флобер в одном из своих писем>>. Т. е. у неизвестных друзей они формировали в сознании модель поведения.Так что, читатель, не ломится ли Бурсов в открытую дверь: нет, мол, надобности разъяснять, что художник не может не преследовать каких-либо практических целей? И если в открытую дверь он ломится, так что за кантианство (какое-то, по Бурсову, ругательством отдающее слово) у Плеханова?
Но предположим, Что Бурсов нечаянно запутал дело, что вместо слов “
выражение как самоцель” ему нужно было применить слова “исключительная забота о форме” произведения в пику общественной его пользе. Однако и тогда нельзя Бурсову простить, что он забывает, что Плеханов все время пишет о в кавычках чистом искусстве.Вот плехановские слова: <<
Произведения, авторы которых дорожат только формой, всегда выражают известное - как объяснено мною раньше, безнадежноотрицательное отношение их авторов к окружающей их общественной среде. И в этом заключается идея, общая им всем вместе и на разные лады выражаемая каждым из них в отдельности... нет художественного произведения, совершенно лишенного идейного содержания>>.Итак, Бурсов на лопатках. Но я его еще и убивать буду...
Он пишет: <<
...в постановке проблемы наследства в эстетике Плеханова есть, как сказано... свои крупные недочеты. Плеханов безусловно ошибается, когда он противопоставляет как наиболее ценное в художественном отношении те произведения искусства, в которых, по его словам, слабо выражен “элемент эпохи”, произведениям, в которых этот последний играет большую роль (портреты [раз] и картины [два] французского художника Давида>>. (Как выразился когановский Олег, “недопеченного Давида”.)Однако, прочтем, что сам Плеханов пишет о сравнении портретов с картинами Давида.
<<
...портрет... занимает исключительное положение между родами живописи. Он, конечно, тоже не независим от влияния времени, но на нем эти влияния оставляют менее заметный след. Возьмите, например, портреты, писанные Давидом, и сопоставьте их с теми его картинами, которые наиболее отражают на себе понятия, господствовавшие в среде революционной французской буржуазии конца XVIII века. Портреты Давида и до сих пор вызывают всеобщие похвалы, а по поводу его “Брута” и его “Горациев” теперь многие пожимают плечами.[Я тут вмешаюсь в речь Плеханова и обращу внимание: многие. Не он лично, а многие. И еще: это написано по поводу выставки в Венеции, происходившей в 1905 году, и под многими понимаются венецианцы и вообще западноевропейцы.]
...многие пожимают плечами.
Почему это так? Да очень просто! -
продолжает Плеханов, вживаясь в психологию окружающих его на выставке западноевропейцев. - Многим из наших современников не только чужды, но прямо антипатичны вдохновлявшие Давида революционные идеи, и еще более совершенно чужд всем нам ряд тех понятий и вкусов, с которыми эти великие революционные идеи ассоциировались в головах тогдашних французов.[
Тут я опять вмешаюсь. Если революционер Плеханов явно не причисляет себя ко многим нереволюционным в 1905 году западноевропейским посетителям музеев, то к кругу людей, чуждых античной истории (о Бруте, Горации), он бы себя причислить мог. Такими людьми могли быть необразованные, недостаточно образованные революционеры, в числе других, т. е. вместе с буржуазной публикой, читающие его, Плеханова, отчет о выставке. Вот откуда это “чужд всем нам ряд понятий” - античных,- с которыми французы когда-то связывали свои революционные переживания.]...чужд всем нам ряд тех великих понятий и вкусов, с которыми эти великие революционные идеи ассоциировались в головах тогдашних французов. “Горациям” и “Бруту” вредило в глазах наших современников [
в основном, буржуазных - добавлю я] именно то, чем особенно восхищались современники Давида. А в портретах, написанных Давидом, этот элемент эпохи гораздо менее заметен,- главным достоинством портрета всегда все-таки является его сходство с подлинником. Поэтому он гораздо менее скрывает от наших современников огромный, мужественный и правдивый, при всей его ригористичности, талант Давида, и поэтому же французы конца XVIII века, наоборот, гораздо менее восхищались написанными Давидом портретами, чем его “Брутом” и “Горациями”. Наконец, поэтому же вы [я замечу: нереволюционные буржуа] не ошибетесь, если, желая оценить талант данного живописца, [Давида] прежде всего постараетесь познакомиться с написанными им портретами>>.Ну вот. Разве для себя формулировал свой рецепт Плеханов, для таких разве, как он, образованнейших революционеров? Разве не дал он этот рецепт для “многих”, чуждых революционным идеям? И не поклеп ли возвел Бурсов на Плеханова?
То, что рекомендовал относительно Давида Плеханов для русских революционеров выглядит совсем иначе:
<<
...когда Давид был... членом [революционного] конвента, он в своем докладе этому собранию говорил: “Все виды искусства только и делали, что служили вкусам и капризам кучки сибаритов с карманами, набитыми золотом... ” По мнению Давида, искусство должно служить народу, республике. Тот же Давид был решительным сторонником классицизма... - только по форме. Содержание же его [классицизма] было насквозь пропитано самым революционным духом.Одной из наиболее характерных в этом отношении и наиболее замечательных картин Давида был его “Брут”. Ликторы несут тела его детей, только что казненных за участие в монархических происках; жена и дочь Брута плачут, а он сидит, суровый и непоколебимый, и вы видите, что для этого человека благо республики есть в самом деле высший закон. Брут... это отец семейства, ставший гражданином. Его добродетель есть политическая добродетель революционера... Выставленный в 1789 году, в том году, когда началось великое революционное землетрясение, “Брут” имел потрясающий успех
>>.И Плеханов дает такую сноску: <<
“Брут” висит теперь в Лувре. Русский человек, которому случится быть в Париже, обязан пойти поклониться ему>>.Как хотите, а я понимаю так, что под русским человеком Плеханов разумел русского революционера, зачастую вынужденного жить за пределами царской России.
Теперь, мне кажется, я не только положил Бурсова на лопатки, но и убил его для моих читателей.
Но для читателей Бурсова финальными остаются его слова: <<
Корень ошибки Плеханова [относительно превознесения портретов Давида] очевиден - это его убеждение в существовании, наряду с “заинтересованным” искусством, искусства “незаинтересованного”>>.И хоть я не льщу себя иллюзией, что я толковый теоретик искусства, но я принципиальнее других. Другие, многие, наверное, тоже о себе-теоретиках не больше мнят, но не осмеливаются проверять бурсовскую клевету и не верить ему. И (я не знаю, впрочем) Бурсов, наверное, - не исключение. Наверно, много таких извратителей. К тому же, политическая репутация Плеханова для многих является подмоченной, раз он с Лениным что-то там не поделил. Вот и отсутствует в советской официальной критике правило о безнадежном разладе с окружающим обществом того художника, который не возражает против производственных отношений этого общества.
Такое правило дало бы теоретическую базу для положительной оценки существующего оппозиционного искусства. Но кое-кто не хочет, чтобы государственная муза в социалистическом государстве терпела, официально терпела, конкуренцию.
И поэтому Коган не печатался, самодеятельные песни - неофициальны, барды - преследуются и “Смена” делает жалкую попытку приобщить все же все это к официозу. А зато ренегатским выходкам широко открыты двери в кино типа “Москва слезам не верит”.
*
Если верить одному слышанному мною лектору (мне лень поверять по первоисточникам, и хоть он - подтасовщик-лектор, но здесь, думается, поверить можно), так вот:
Ленин, было дело, запретил, мол, выпуск газеты, призвавшей рабочих бастовать в поддержку оппозиционной партии - в знак протеста против (не важно каких) действий правительства.- Выпуск арестовать, и газету не выпускать, пока не будет держаться в рамках социалистической законности.
- Но, Владимир Ильич, это ведь ущемление демократии, свободы собраний, забастовочных собраний!
- Чушь! Что такое забастовка? Это средство борьбы рабочего класса с угнетающей его буржуазией. А у нас? Против кого они будут бастовать? Против меня? Мне власть не нужна. Я выражаю их же интересы. Если я это делаю плохо, пусть законным порядком смещают меня. А бастовать - это наносить удар по основе рабочей власти. Призывы к забастовке не могут быть допущены в качестве законных в рабочем государстве. Но если забастовка все же где-нибудь случится, там, на месте, нужно сменить всю верхушку власти, ибо безусловно она там что-то набедокурила.
Польские товарищи,- продолжал лектор,- год назад проявили вопиющую политическую безграмотность на уровне заместителя председателя Совета Министров [наверное же, не без ведома первого секретаря ПОРП он эту ошибку сделал]. В Польше были узаконены забастовки. Это привело социалистическую Польшу на грань краха.
Я признаю, что узаконить при социализме забастовки это чушь, вроде покушения на самоубийство, не доведенное до конца, а лишь испортившее здоровье.
Но искусство все-таки не жизнь, и как бы в конечном счете оно ни приходило к формированию в сознании людей модели поведения, положим, оппозиционного,- если эта оппозиция - во имя коммунизма, то ее допустить можно.
Я потому повторил мотивы начала этого опуса, что гарантией допустимости такой художественной оппозиции должен стать повышенный уровень как минимум честности в художественной критике, уровень, который, мне кажется, - извиняюсь за нескромность,- я демонстрирую.
Иными словами, если развитие нашей демократии не есть пустые слова, а явь, то рано или поздно плехановский безнадежный разлад будет реабилитирован официально, как реабилитированы были отцы когановских олегов после разоблачения культа личности Сталина.
*
А теперь, когда в моей неподцензурной книжице справедливость уже восторжествовала - плехановский принцип безнадежного разлада восстановлен в правах - теперь пора и к когановско-олеговому разладу присмотреться: нет ли там в чем-то правоты у Олега? И если есть, то как от этого Олега все равно все-таки отмежеваться, не пользуясь реабилитированным безнадежным разладом.
Я повторю слова Олега:
Но транспортиром и мечом
Перекроив эпоху сразу,
Что для искусства извлечет
Опальный человечий разум!
Боюсь, что ничего. Взгляни:
Французы, что ли?
Ну лавина!
А что оставили они -
Недопеченного Давида.
Поговорим-ка еще немного о Давиде. Он нам дает возможность разобраться в тончайших оттенках явлений искусства современного (ибо история - поучительна).
Но еще одному разговору о Давиде я предпошлю замечание о таком гигантском историческом факте. В результате французской революции в 1789-м произошел величайший взлет искусства (музыки, литературы), но произошел он не во Франции, а в Германии, где французская революция переживалась больше в головах, чем на деле. Самим же французам было не до искусства. Они революцию делали...
И еще крошечное психологическое отступление. Когда человек знает, что делать,- ему не до эмоций. Эмоции - механизм дальнего предвидения. А если человек включился в деятельность, например, в бой - ему может и страшно не будет, так как он занят (вспомнить хотя бы хемингуэевского мистера Макомбера в охоте на слонов)...
В общем, люди дела - суховаты и склонны к рассудочности.
То же - в применении к Давиду (со слов Плеханова) - уже мелькнуло в приводившихся цитатах (“
огромный... при всей его ригористичности [строгости] талант Давида”)...А вот плехановские мысли об этом вплотную: <<
Манерности и слащавости старой школы,- смотри, например, картины Ван Лоо [какого-то],- художники противопоставили суровую простоту. Даже недостатки [подчеркиваю: недостатки] этих новых художников легко объясняются господствующим среди них настроением. Так, Давида упрекали в том, что действующие лица его картин похожи на статуи. Этот упрек, к сожалению, не лишен основания. Но Давид искал образцов у древних, а для нового времени преобладающим искусством древности является скульптура. Кроме того, Давиду ставили в вину слабость его воображения. Это был тоже справедливый упрек: Давид сам признавал, что у него преобладает рассудочность>>.Вот вам, товарищи, “недопеченность” Давида.
А вот подробнее о связи рассудочности с революцией:
<<
Но рассудочность была самой выдающейся чертой всех представителей тогдашнего освободительного движения. И не только тогдашнего,- рассудочность встречает широкое поле для своего развития и широко развивается у всех цивилизованных народов, переживающих эпоху перелома, когда старый общественный порядок клонится к упадку и когда представители новых общественных стремлений подвергают его своей критике... Рассудочность является плодом борьбы нового со старым, и она же служит ее орудием. Рассудочность свойственна была также всем великим якобинцам. Ее вообще совершенно напрасно считают монополией Гамлетов>>.Так что же получается: что когановский Олег полностью прав?
А этот Олег продолжает:
А что оставили они -
Недопеченного Давида.
Ну что еще? Руже де Лиль?
Но с тиною бурбонских лилий
Его навеки отдалил
Тот “Ягуар” Леконт де Лиля.
Искусство движется теперь
Горизонтально. Это горько...
Руже де Лиль,- я поясню незнающим,- это автор “Марсельезы”:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с своих ног...
*
Не знаю, как чья, а моя душа что-то очень уж противится какой бы то ни было негативной оценке “Марсельезы”.
Олег, правда, Руже де Лиля не критикует, но... ассоциация с горизонтальным движением искусства однозначна: негативная ассоциация.
Я признаюсь: эта нестыковка с моим личным вкусом надолго прервала мой опус.
Как оправдать когановскую страсть в прогнозе о великом будущем искусства революции, искусства социалистической эпохи? - Вот его Владимир восклицает:
Горизонтально, говоришь?
Быстрее, чем ты напророчил,
Он дочитает буквари [рабочий класс]
,Он голос обретет и почерк.
Профессор мудрый и седой,
Колумб, который открывает
Цветенье новое садов,-
Его никто не понимает.
Но метод, стиль его побед -
В нем стиль и метод твой, эпоха.
Его не понимают? - Плохо,
Как плохо, если десять лет.
А ты, ты умненьким чижом
В чижином маленьком уютце,
Ты им враждебный и чужой,
Они пройдут и рассмеются.
Так отвечает Олегу Владимир, сливающийся с автором романа в стихах. И этому автору хочется верить. Хочется не только потому, что такова уж природа поэзии: лирическое “я” увлекает. Хочется еще почему-то.
Я нашел (по своему вкусу) сухое теоретическое обоснование “реабилитации” революционного искусства, вернее, искусства времен социальной революции:
<<
Революции [всех времен] требовали массового искусства. Но искусство, какое имелось в наличии, этой задачи выполнить не могло: оно было рассчитано на узкий слой представителей образованных классов. Перед лицом революционных масс, вышедших на площадь, оно выглядело слишком камерным...>>А ты, ты умненьким чижом
В чижином маленьком уютце,
Ты им враждебный и чужой,
Они пройдут и рассмеются.
И что ты можешь? Что ты мог?
Дымок по комнате протащишь,
В стихах опишешь ты дымок
И спрячешь в сокровенный ящик.
Души, душе, душой, душа -
Здесь мысль к пошлости околышек...
<<...
Оно [искусство] оказывалось не в состоянии возвысить свой голос до того уровня, на который поднялась революционная страсть восставшего народа. По сравнению с накаленными социальными страстями даже переживания трагических героев представлялись слишком рассудочными и искусственными>>.Стоп. Рассудочными...
Только что я честил рассудочными революционеров, а тут - наоборот...
*
Но все оказалось просто.
Это только в Великой Французской революции общество поляризовалось совершенно четко: дворяне и духовенство - за феодализм, третье сословие (все остальные) - за капитализм. Это только в той революции верхи уже не могли, а низы не хотели жить по-старому.
Во всех последующих - да и прежних - революциях такой поляризации не было, и в революционном лагере оказывались и те, кто знал, что хотел - люди дела, порождающие рассудочное искусство - и те, кто не знал точно, что он хочет, кто смутно что-то чувствовал, в ком оживлялся лишь механизм дальнего предвидения удовлетворения потребностей и кто порождал своим творчеством совсем не рассудочное, а страстно-чувственное искусство, по сравнению с которым рассудочным представлялось то, что было до того.
Все объяснилось.
*
Незнание
- вот (если одним словом выразить) то умонастроение, что царило в Германии в преддверии и после Великой Французской революции; незнание - определяло творчество французских романтиков, парнасцев и первых реалистов. Да что там говорить - все, пожалуй, вершины искусства вздыблены незнанием, колебанием, неуверенностью, сомнением в социальной сфере. Шекспир творил, когда в Англии зарождался капитализм и уже было очень сомнительно, что торгаши лучше аристократов. Достоевский и Толстой в России были в таком же положении, как Шекспир в Англии. Пушкин пережил поражение декабристов, Лермонтов застал результат этого поражения. Ну а Коган натолкнулся на культ личности, а самодеятельные авторы песен - на его последствия и другие затруднения социализма.Я не удержусь от цитаты (энгельсовской), иллюстрирующей то, что я подвожу под Незнание.
<<
Даже лучшие и самые сильные умы немецкого народа потеряли всякую веру в будущее своей страны.Но вдруг французская революция точно молния ударила в этот хаос, называемый Германией... вся буржуазия и лучшие представители дворянства в один голос радостно приветствовали Национальное собрание и народ Франции. Среди многочисленных немецких поэтов не было ни одного, кто бы не прославлял французского народа. Но это был энтузиазм на немецкий манер, он носил чисто метафизический характер и относился только к теориям французских революционеров. Но как только теории оказались отодвинутыми на второй план силой неоспоримых фактов, как только согласие французского двора и французского народа стало на практике невозможным, хотя в теории их союз был закреплен теоретической конституцией 1791 г., как только народ практически утвердил свой суверенитет “десятым августа”, и в особенности когда теорию окончательно заставили умолкнуть свержением жирондистов 31 мая 1793 г., - тогда этот энтузиазм Германии сменился фактической ненавистью к революции. Разумеется, этот энтузиазм распространялся лишь на такие события, как ночь 4 августа 1789 г., когда дворянство отказалось от своих привилегий; но добрые немцы никогда не думали о том, что такие действия имеют на практике последствия, весьма отличные от тех выводов, которые могут дать благожелательные теоретики. Немцы никогда и не думали одобрять эти последствия, которые, как всем хорошо известно, были для многих, кого они коснулись, довольно серьезны и неприятны. Итак, все эти восторженные друзья революции становились теперь ее самыми яростными противниками и... предпочитали свою старую спокойную священную римскую навозную кучу грозной активности народа...
>>Можно ли после этого удивляться, когда Энгельс о Гете пишет, что он был несвободен от изрядной дозы филистерства, а о Шиллере, что тот насаждал филистерскую наклонность помечтать о неосуществимых идеалах. Великие художники и... филистеры!
Удивляться можно только, что Незнание рождает великое искусство. Но это так.
Я выражаю это просто в грубой форме. Однако таково мое амплуа: то, что завуалировано обтекаемыми фразами, может не дойти до моего читателя, значит, нужно обнажить, высветить, в общем, огрубить.
Вот, например, как обтекаемо пишут об особом подъеме русского искусства перед первой русской революцией: <<
Если в предшествующий период искусство шло следом за социальной и философской мыслью своего времени, зачастую непосредственно ее выражало, и в этом была его сила, то теперь положение меняется... искусство теперь нередко отражает передовые социальные движения времени косвенно: в настроениях, порывах, эмоциональной атмосфере - тем более [здесь] повышается роль собственно эстетической выразительности художественного произведения>> (Недошивин, Сарабъянов, Стернин).Видите как: в прошлом - сила искусства, а в рассматриваемом - повышенная роль эстетической выразительности. Значит, в прошлом была пониженная роль эстетической выразительности! Зачем же мутить воду “силой”?
Ведь дело в том, что Россия на стыке XIX и ХХ веков была как бы совмещенной давидовской Францией плюс гетевско-шиллеровской Германией в одной стране. Интеллигенция, в общем-то, заблудилась: в предшествовавшем народническом идеале разочаровалась, а марксизм освоила лишь меньшинством. А революция назревает. Вот от Незнания и веет в произведениях искусства бунтарский дух, жажда обновления, иной жизни, неутоленной тревожности и в итоге <<
этот период дал такую интенсивность художественной жизни, какой, пожалуй, не знала ни одна предшествовавшая эпоха в истории культуры страны>>(Недошивин, Сарабъянов, Стернин). То есть пики искусства вырастают в общественных ситуациях, неясных для художников.Мелкая буржуазия, всегда поставлявшая большинство художников в Новое время, после Великой Французской революции потеряла историческую перспективу и, отворачиваясь как от капитализма, так и от социализма, неминуемо должна была порождать взлеты искусства.
*
Но была здесь и противоположная тенденция - упадничество. Именно к упадничеству приходит в конце концов художник, отрешившийся и от прогрессивных идей, и от реакционных, ибо он отрешается от идеала. А без идеала, без поэтичности, без эстетического отношения - дорога одна: к упадку. И если до этой конечной остановки и не доезжает конкретный какой-нибудь художник, то несет его именно туда. И это правило верно не только для мелкой буржуазии при капитализме, но и для bourgeois (мещан) при социализме, для тех людей искусства, образом которых в 30-е годы был когановский Олег, Олег, который и не враг большевикам и не друг. А еще - его антипод: сломленный вождь, атаман, “слишком долго вдыхавший болотный туман” и отчаявшийся.
Как же получается, что мечущегося под флагом Незнания когановского Владимира, сливающегося с самим автором, историческая кривая выносит наверх (успех “Бригантины”), а столь же пребывающего под Незнанием когановского же Олега и того, несостоявшегося вождя историческая кривая проваливает в безвестность?
Получатся это так: кто не порывает с верой в прогресс, в Историю, того История превозносит, а кто разочаровался сверх меры, того она топит для памяти потомков. Лишь в крайне реакционном окружении художнику позволяет История крайнее же и разочарование (как, например, Лермонтову при Николае I). Но этим она играет все в ту же дудку: отрицание отрицания ведь есть утверждение. Утверждение прогресса. Духовного прогресса.
И вот здесь - главное. Хлопоча о духовном прогрессе, История обеспечивает бессмертие тем, кто в эпоху классовых обществ борется с прогрессом экономическим, а в эпоху бесклассового общества (или в переходную эпоху) она увековечивает тех, кто за экономический прогресс.
Разберем.
Является ли война, угнетение - чем-то антидуховным? - Безусловно. Но без войн и угнетения не было бы рабовладения, феодализма, капитализма; не было бы концентрации богатства; не было бы все более мощного развития производительных сил ради создавания все большего количества этого богатства. Тем самым не было бы развития богатства человеческой природы.
А так,- благодаря аморальному и антидуховному социальному и экономическому прогрессу,- развиваются способности рода “человек” (Маркс).
Аморально то, что совершается за счет большинства человеческих индивидов. В целом аморальным был весь социальный прогресс от первобытного коммунизма до 1917 года. И едва ли не одно только искусство хлопотало все это время о сохранении верности вожделенному духовному прогрессу: социальной гармонии масс. Не религия с ее упованиями на Мессию, а искусство, сохраняющее в качестве идеала царство всеобщей гармонии на земле. Именно всеобщей. То есть, казалось бы, только демократическое тяготение могло быть тем компасом в море Незнания, который выводил художника на пик исторического бессмертия.
Когановский Олег с его сомнительным пиететом к “Марсельезе” и ее автору - Руже де Лилю - был обречен. Пусть его солнце-льдинка, горящее, как шапка на воре, не есть еще упадничество, пусть его описание дымка еще читабельно, но кончит он маразмом (пусть не он, так его последователи); кончит так же, как его предшественники: писатели дадаисты, художники беспредметники, музыканты какофонисты.
И в маразме же окажется и “слишком надышавшийся болотным туманом” радетель масс.
Маразм - для всех разочаровавшихся в Истории.
*
Мне кажется, я недавно воочию видел иллюстрацию этой тенденции.
Была традиционная осенняя выставка работ живописцев, графиков и скульпторов Каунаса.
Некий Жиргулис представил несколько вещей. Опишу полюсы.
Первый.
На литом бронзовом квадратном листе чуть дальше его центра стоит фигурка. Лист тонирован так, будто это какая-то каменистая пустыня. Фигурка - согбенная старуха. Она уже не может разогнуться - весь свой век тянула она лямку своей доли, шла против ветра по этой пустыне, падая вперед, чтобы преодолеть ветер и собственную усталость. Ее лоб и платок, складки платка прямо-таки отполированы сопротивляющимся ей ветром. И вот, наконец, она остановилась.
Она прошла большую часть квадрата. Перед ней есть еще какое-то пространство, куда еще можно бы ступать... Но она уже не ступает.
Вся скульптура очень невелика по размеру, сама фигурка - еще меньше, тем более - лицо и глаза на нем. Казалось бы, какое там может быть видно выражение лица?..
Но оно чувствуется. Как-то сделано, что угадывается взгляд. Тяжелый, тупой взгляд.
Инерция безостановочного движения перешла во взгляд. Старуха остановилась, только ее взгляд еще летит вперед. Но до чего же он туп, бессмыслен... Страшно. Она, пожалуй, еще сделает шаг-другой вперед, но... этот взгляд уже выражает какую-то безнадежную потерю. Так ли она начинала путь!?
Вещь названа “Надежда”...
И в свете вышесказанного (учитывая, что этот Жиргулис - советский все-таки художник) мне представляется совершенно закономерным появление тут же на выставке сделанной этим же Жиргулисом “Тишины” - это несколько металлических стержней, сваренных друг с другом так, что образуется несколько вертикалей, поддерживающих тонкую прогнувшуюся горизонталь.
Действительно, что-то очень хрупкое и изысканное видится в этой бессмысленной конструкции, названной “Тишина”, но все-таки это, по-моему, уже какая-то из ступеней маразма.
И я не удивляюсь. Ничем иным и не может кончить советский художник в условиях свободы самовыражения, если он честен (т. е. не может стать врагом большинства человечества) и если он не верит в коммунизм.
Разочарование мещанина советской действительностью, при неприятии им идей коммунизма, способно, на мой взгляд, особенно быстро приводить к маразму: на протяжении лишь нескольких лет. Очень уж сильный реактив - недостатки социализма, чтобы разочаровать в коммунизме, в этом царстве гармонии - естественном идеале художников всех времен и народов.
Но прошу обратить внимание: такая страшная участь, как упадничество, маячит не только лишь перед честным художником, перед чутким, который не может себя обмануть и стать врагом большинства человечества, которое курит махорку, а не “Виргинию”. Не только честным уготована эта участь да таким из честных, которые ни коммунистический идеал не приемлют, ни ему противоположный.
И менее чуткие и не приемлющие коммунизм от маразма не спасаются: хватаются за идеологию, враждебную коммунизму (все-таки идеал, а не его отсутствие...). Но антиидеал лишь иным путем приводит к упадничеству.
Однако речь пока - о, скажем так, демократически честных.
*
Я ни одной песни, советской песни, даже шире - советского эстрадного номера, в чем-то аналогичного жиргулисовской “Тишине”, не смогу продемонстрировать. И, думается, не потому, что я провинциален и далек от молодежи: какой-нибудь там кайфующей, балдеющей... Просто язык изобразительного искусства - за семью печатями для большинства. И произведения, выражающиеся на этом заповедном языке, никак не преследуются (или мало преследуются) нашим государством. А вот на эстрадных концертах (знаю доподлинно) сидят товарищи из КГБ и замечают себе, что поется со сцены, как реагирует зал, а порой они, товарищи, встают со своих мест в зале, идут за кулисы и вмешиваются в происходящее непосредственно сами. В общем, в песне в Советском Союзе дойти до маразма отчаявшемуся честному художнику трудненько.
Поэтому возможен пример только западного современного упадничества.
Только среди западных нигилистов и анархистов (впрочем, во второй половине ХХ века их называли иначе: битники, потом хиппи, новые левые, “рок” или “TV-поколение”, т.е. поколение, воспитанное телевизионной нянькой под звуки рок-музыки) - только среди этих протестантов против существующего общества эстетизация безнравственного, начавшаяся у нас когда-то когановской идеализацией пиратства, восходит, вернее, нисходит до жажды предельного опыта.
Что это за предельный опыт иллюстрирует, например, мюзикл “Волосы” (естественно, что я о нем говорю с третьих слов). <<
Как свидетельствует Пассмор, мюзикл этот являл совершенно непонятную картину: здесь было трудно отличить, кто мужчина, а кто женщина>>. И это - в произведении, посвященном живописанию экстазов “племенной любви”...Все знало человечество! Промискуитет знало - беспорядочные половые отношения мужчин и женщин независимо от возраста и родства и... публично.
Но такого, как в “Волосах” еще не было.
И все - логично, коль задуматься: если в протесте против земного ада требуют рай, да еще немедленно, то ясно, что для его осуществления мужчины и женщины <<
должны одинаково одеваться, одинаково вести себя, а в сексуальной сфере быть безразличными к полу партнера>>.Вот так.
<<
И даже более того: для удовлетворения эротических влечений, которые изображаются в “Волосах”, женщин, согласно Пассмору, вообще не требуется. Во имя “общины” и “племенной любви” в мюзикле совершается бунт против женского начала как разлагающего непосредственную “коллективность” сексуального общения, внося в эротическую сферу “незаконный” уже в далеком прошлом [в промежутках между промискуитетом?] (и тем более “устарелый” в настоящем) момент индивидуализации, избирательности, интимности и т. д. В этом бунте против специфической, если можно так выразиться, роли женщины в сексуальных отношениях участвуют в “Волосах” и сами женщины. Вместе с мужчинами они одержимы в этом мюзикле поисками абсолютного единения, тотальной общины, где все люди мыслят и чувствуют, “как единое существо”. На путях, столь темпераментно указанных “Волосами”, видится новым мистикам полное и окончательное решение проблемы “некоммуникабельности”. Для того, чтобы разбить глухие стены, отделяющие людей друг от друга, исключающие возможность их взаимопонимания, необходимо им собраться (в количестве не меньше трех человек) и... раздеться донага>> (Ю. Давыдов).*
Пусть не покажется это клеветой на хороших людей: хиппи или, там, новых левых,- как клеветали когда-то насчет общих жен при коммунизме. И пусть не покажется жупелом для запугивания нашей молодежи. А так же пусть не скажут, мол, в семье не без урода. И Коган, мол, тоже прощал кое-какие крайности социализму; так простим же, мол, заскоки отдельных хипейцев.
Я не приемлю всяческих таких оговорок.
Есть такой метод познания: доведение до крайности, до парадокса. При таком доведении положение сразу становится четким, как на контрастной фотографии. Это типизация, если хотите.
Так вот ошибки построения - типичны для социализма, потому что он строится в условиях, когда познан основной закон развития общества: классовая борьба; но не познаны еще многие другие законы (развития социализма, в первую очередь). А ошибки построения капитализма, например, в городах-государствах Италии XVI века - чушь. Произнесешь такое - и смешно. Не может быть речи об ошибках, когда не известен закон. Не бывало ошибок построения капитализма, хоть он и потерпел крах в упомянутых городах-государствах и возродился лишь века спустя.
Итак, ошибки построения социализма - типичны, но именно как ошибки, но не как социализм. И поэтому Коган прав, их прощая.
А вот скатывание в упадничество - типично для лишившихся идеала.
И доведение до крайностей противостоящих друг другу зародышей - есть сильнейший, контрастнейший реактив. Для проявления неясной фотографии нынешнего положения вокруг самодеятельной песни этот реактив, конечно же, применим. Ну а с теми, кого я не убедил в пользе парадоксального мышления, поспорим отдельно и в другой раз.
*
А теперь вернемся к явлению самодеятельных песен, к Павлу Когану, открывшему для этого явления эстетику сложного, вернемся к тому, кто первым под знаком социального Незнания выступил против массовой советской песни 30-х годов, отражавшей социальное якобы знание, выступил против наивности и простоты оптимизма. Вернемся к Павлу Когану, под знаком верности массам изначально закрывшему себе путь от социального Незнания к огульному критиканству, а в плане эстетическом - не только не скатившемуся в пропасть упадничества, но сумевшему указать потомкам, КАК можно массовую песню вывести на ступень так называемого высокого искусства.
Теория гласит, что заигрывание с революционной массой не проходит бесследно для искусства: эстетическая рамка искусства расширяется, публика, с которой приходилось иметь дело искусству, после каждой революции увеличивается в количественном отношении и изменяется качественно.
Что пела до революции наша городская провинция? Романсы? Застольные? А массовая песня 30-х годов эту тихую заводь всколыхнула - гражданственностью (хоть и методом упрощенства и наивности). И следующим шагом стала самодеятельная песня.
Ничего, что аудитория последней поуменьшилась по сравнению с массовой широковещательной песней 30-х годов. Это сказалась тенденция возвращения после революции к форме “ученого” искусства.
Да. Это, если хотите, опять возврат к некой элитарности. Так это дело и переживают сами, так сказать, адепты движения КСП. Вот пример:
Они в городах не блещут
Манерой аристократа...
...Но грустную нежность песни
Ласкают сухие губы,
И самые лучшие книги
Они в рюкзаках хранят.
Но если это и элита в какой-то мере, то гораздо более широкая, чем дореволюционные - тоже не последние в обществе - разночинцы.
Не надо возражать, что этакое расширение сферы полусвета - результат просто поступательного развития образования. Сама образованность - следствие революции.
И предлагаю не сомневаться, что страсти романсов под гитару ниже теперешних песен под гитару.
В любом искусстве есть ранжир. Есть он и в песнях. И строятся они “по порядку номеров” в зависимости от той функции, какую они главным образом исполняют.
Развлекательная и коммуникативная - низшие для любого искусства функции. И для песни - тоже. Я уж писал (здесь, раньше), что застольное и дорожное пение, когда не разделено творчество и восприятие - это детская стадия песенного искусства. На этой стадии коммуникативная функция превалирует.
И если песня с помощью новой техники, например, с помощью телевидения, станет отрабатывать эту функцию (коммуникативную) в качестве главной пусть даже на всю страну - такое ее исполнение (песни исполнение) все же ущербно. Это впадание в детство песенного искусства.
<<
В заключительной программе “Песня-76” Муслим Магомаев, исполняя “Надежду” А. Пахмутовой, приглушил голос, как бы приглашая к песне зал, который с видимым удовольствием ее подхватил. Это было не совсем то удовольствие, которое получают зрители при концертном исполнении песни. На первый план в эстетическом переживании выступило ощущение эмоциональной солидарности, которое при всех прочих случаях лишь сопутствует восприятию, оттеняя или подчеркивая исполнительское искусство. В данном же случае исполнитель жертвует своими вокальными возможностями и другими выразительными средствами...>>Ясно, что это - понижение художественной ценности песни.
А вот если песня только начинает свою жизнь со, скажем, дорожного пения, например, туристского, а потом распространяется по всей стране в магнитофонных записях, то здесь - не деградация функций, а развитие.
Какую же главную функцию исполняет самодеятельная песня? Может, так называемую компенсаторную, восполняющую?
Грезы, мечтания, выраженные красиво, способны ведь утешить... расслаблять... как действуют, например, песни такого рода:
Волны бегут, белый песок лаская,
Клочья травы всюду с собой таская.
А в глубине тихо лежит морская
Странно большая, очень большая раковина.
Вижу ее в солнечную погоду,
Вижу - прилив над ней подымает синюю воду.
И в глубине (ах, глубина какая) -
Великанья раковина;
Как росинка маковая,
Кажется она.
То пропадет, то под водой проглянет.
Море сожмет, море ее растянет.
Но оттого ближе она не станет.
Как далека в небе звезда, так и она.
Вижу ее в пасмурную погоду,
Вижу - прилив над ней поднимает темную воду.
Кто мне ее, кто мне ее достанет?
Водолазил водолаз -
Водолазу не далась
Раковина.
Послушаешь подряд несколько таких песен - и, ей-богу, можно задремать.
Но истинная суть самодеятельной песни не такова. Истинная суть самодеятельной песни это отправление высшей функции искусства - испытание сокровенного мироотношения человека. Когда твою совесть испытывают, когда душа твоя рвется на части: в одно и то же время и порывается, положим, к людям Флинта (то бишь вон из общества) и фактически прощается “серебристою, самою заветною мечтой” с желанием удрать с людьми Флинта - тут не задремлешь.
Наверно, кто-нибудь скажет, что в подтверждение мысли об испытательной функции самодеятельных песен нужно взять и пересчитать, каких больше. Но количество - величина в данном случае относительная. Всех - не пересчитаешь, да и каждую - куда отнести.
Вот песня Матвеевой о раковине ведь в чем-то такая же, как “Бригантина” - тоже полуразочарование-полуочарование. Только чуть акценты переставлены в мелодии и словах - и она оказалась мягче, умереннее, чем “Бригантина”, стал удельный вес компенсаторной функции у нее побольше. А в “Бригантине” эта компенсаторная - тоже ведь есть:
И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою
-но только поменьше здесь утешения, чем в “Адриатике” Матвеевой.
Так что, для меня по крайней мере, остается одно: в разветвленном дереве явления под названием “самодеятельная песня” найти ствол и даже глубже - распознать корень.
И вот как этот корень я обозначу.
Ничего, что самодеятельная песня как таковая (с мелодией, исполнителями и слушателями) родилась через 20 лет после стихотворения Когана “Бригантина”. Это он дал подзаголовок своей “Бригантине” - “Песня”. Тем самым это он первый нащупал выход в массовость без упрощения, назвал ту форму, какая способной оказалась продвинуть современную высокую поэзию к миллионам современников. Назвав “Бригантину” песней, он обозначил ту тему, на развитии которой массовая песня поднялась до испытания более широкой сферы сокровенного мироотношения, чем, скажем, романс.
А мое сочинение о корнях самодеятельной песни призвано не перебирать все песни, чтобы вычленить главные (это физически невозможно), а перебрать все задатки (гены) зародыша, чтобы уметь разбираться потом в направлении ветвей разросшегося дерева: какая ближе к стволу, соединяющему корень с вершиной.
*
Читатель, может быть, заметил, что я лишь вскользь коснулся впадания в маразматическое искусство демократически нечестных когановских олегов.
Да. Я дал примеры упадничества только со стороны демократически честных - по Когану это те самые несостоявшиеся вожди, что привержены массам, но слишком надышались болотного тумана.
Элитарное, рафинированное искусство олегов, понятное лишь немногим, как бы спряталось на нарисованном мною фоне левой конркультуры.
Однако пора уже от аристократствующего Олега отмежеваться окончательно и бесповоротно.
Пусть Флобер, который был решительным противником всеобщего избирательного права, который возмущался тем, что число здесь господствует над умом, образованностью и даже над деньгами, сто`ящими больше, чем число, который всеобщее избирательное право называл стыдом человеческого ума - пусть такой вот Флобер до маразма в искусстве так и не дошел, но он открыл туда дорогу - натуралистам. <<
Их объективное отношение к изучаемой ими среде означало, собственно, отсутствие сочувствия к ней. И конечно, они не могли сочувствовать тому, что, при их консерватизме, одно только и было доступно их наблюдениям: “мелким помыслам” и “мелким страстям”, родящимся в “тине нечистой” обыденного мещанского существования... Общественный интерес отсутствовал у французских реалистов. Вследствие этого изображение “любовной связи первого встречного виноторговца с первой встречной мелочной лавочницей” в конце концов сделалось неинтересным, скучным и даже просто отвратительным... Натурализм, которому [Флобер и другие] положили первое начало... скоро попал в “тупой переулок”. Он мог сделать своим предметом все до сифилиса включительно. Но для него осталось недоступным рабочее движение>> (Плеханов). И если это еще не маразм, то уже первая заявка на него. (Недаром теоретики подозревают, что с натурализма начался в литературе декаданс - упадничество.)Пусть Вагнер, этот аристократ духа, свою жажду высшей власти утоливший в музыке, да в такой музыке, что укрепляла в героическом пессимизме всех сверхчеловеков, начиная с его времен до немецких фашистов, и помогла им “быть честными даже во зле” (Давыдов) и не утрачивать себя, подчиняясь лицемерной традиционной якобы справедливой и гуманной морали. Пусть такой вот Вагнер не дошел еще в своем искусстве до маразма. Но он - как Флобер в литературе - открыл дорогу декадансу в музыке.
Уже его (Вагнера) в его время называли декадентом - за то, что он превратил музыку в род наркотика, <<в сильнейшее возбуждающее средство, от которого могут встрепенуться даже полумертвые, в средство оглушать человека, потрясать его, доводить до упоения, до судорожных рыданий>> (Давыдов), т. е. за то, что его музыка лучше всего призвана обслуживать декадента, человека угасающих жизненных сил. А ведь эту характеристику его произведений вполне можно приложить и к сегодняшней музыке упаднического западного искусства.
<<
Вагнер,- заявляли,- представляет собою величайшую порчу музыки. Он отыскал в ней средство возбуждать истощенных и оживлять полумертвых. Он мастерски владеет всеми приемами гипнотизера... Этого эффекта Вагнер добивается, во-первых, путем замены ясности и отчетливости... “миром смутных чувств”, хаосом еще не народившихся идей, предчувствием будущих. В музыке Вагнера мир изображен таким, каким он был еще “до сотворения его богом”,- в виде чего-то хаотического, чего-то еще только предстоящего... Так расшифровывается... идея [лейтмотива, вагнеровской] “бесконечной мелодии”... Здесь... заключен секрет воздействия вагнеровской музыки. Он чисто физиологический. Это секрет “пленять спинной мозг”, сведя все к окраске звуков... Ведь главное - в “опьяняющей силе предчувствия” самого по себе... Причем в сочетании с физиологическим воздействием вагнеровской музыки на слушателя [ее] страсть... превращается в “пляску безобразия по канату дисгармонии”>> (Давыдов).И если это даже слишком сильно сказано и если неправомерно обвинен Вагнер в подсознательном воздействии, без которого никакое искусство не бывает, но все равно - вы чувствуете, читатель, - зерна горькой правды и применимости к нынешним декадентам в той оценке Вагнера все же есть. Вагнер, по меньшей мере, дал прототип к будущей первой заявке на маразм в музыке.
И вот - пример того, как подобная тенденция элитарного искусства реализовалась.
В меру своей ненависти к пошлой буржуазии, которая уже более полутысячелетия утверждает себя (и не безуспешно) на путях пользы, упорядочивания, рационализации, калькулирования и математизации, отвратительных искусству, но все же проникающих в него, в том числе и в музыку - в виде окостеневших форм и правил гармонии, выражающих, мол, суммарно - буржуазную идеологию; в меру этой своей оппозиционности капитализму - композитор оценивает мир как противоестественный и дисгармоничный и выражает это в своей музыке диссонансами.
Но и диссонантная музыка, рожденная в оппозиции буржуазной идеологии, оказывается идеологией (а значит, мол, обманом), оказывается антибуржуазной идеологией. Например, когда такая музыка ополчается против буржуазного лицемерия о правовом, якобы, равенстве и гуманизме и откровенно, до цинизма откровенно, утешает сверхчеловеков в их злых деяниях - тогда эта “
пляска безобразия по канату дисгармонии” попадает под крылышко идеологии социал-социалистов, то бишь фашистов. А когда дисгармоничная музыка ополчается - разрешите для краткости и ясности так выразиться - против ошибок построения социализма (как у Шостаковича) и во славу их преодоления, тогда эту диссонантную музыку под крылышко берет (в конце концов берет) социалистическое государство.А аристкратствующий Олег ведь никому в услужение не пойдет, исповедуя искусство для искусства. Отсюда вывод (Теодора Адорно): <<
Единственные художественные произведения сегодня, которые могли бы считаться таковыми, суть произведения, которые не являются более никакими произведениями>>.Да. Вот так: отказ создавать произведения искусства в точном смысле этого слова...
И если верить Адорно, в музыке это и сделал Арнольд Шенберг. Он сделал все, чтобы его музыка “
не симулировала бы страстей”, не давала б никаких образов рациональных, а если и давала бы, то давала б образы “телесных порывов бессознательного, шоков и травм”. Для этого он изобрел атональность - бессмысленное, бессвязное, хаотическое последование звучаний. (Так пишут в нашем советском старом ортодоксальном музыкальном словаре об атональности. Но и идеолог ее, Адорно, пишет почти то же: “Двенадцатитоновая музыка... отказывается от всякого в себе сущего смысла в музыкальном произведении”.)А это есть маразм.
Теперь только он достигнут уже не слева - в приверженности к массам, к коммуникативности,- а справа,- в презрении к массам.
*
Вот какие пропасти слева и справа окружают путь к вершинам искусства; и все это: и пропасти, и хребет, и вершина - как земная кора - располагается над горячим ядром - Незнанием.
*
Что ж остается? Остается теперь для полноты обзора ландшафта, на котором разбросаны массивы такой “горной породы”, как самодеятельная песня, посмотреть, как хребет и пропасти понемногу переходят в переносном и в прямом смысле в плоскую низменность, в массовое искусство в худшем понимании этих слов, в искусство, порождаемое и потребляемое - если по Когану - сытыми Ивановыми, что в пошлости до пят.
Но ругать нечто средненькое и серенькое, эту плоскую низменность искусства - неблагодарное занятие, да и не под силу мне (квалификация не та). Гораздо удобнее хвалить холмы этой местности, давая лишь понять, что похвалы даны на низменном, так сказать, уровне.
И одной из главных похвал будет признание, что иногда эти холмы расположены в сейсмичной зоне с ее относительной близостью (не такой, как в горах, но все же - близостью) к горячему земному ядру Незнания.
Вот, к примеру, такой “холм” - упоминавшаяся уже “Надежда” композитора Пахмутовой и поэта Добронравова.
Пахмутову я ставлю на первое место, потому что музыка сделала эту песню массовой и потому что музыка сообщила ей расширительный смысл романтической песни молодежи, осваивающей Сибирь и Север. Кроме того, имя Пахмутовой, по-моему, настолько прочно связано (навязано) с амплуа соавтора романтических молодежных песен, что одно соседство ее имени с названием песни уже дает ключ к ее восприятию.
Поэтому лично я из песни “Надежда” запомнил только часть одного предложения и один куплет с припевом, показывающие, что “Надежда” - песня комсомольско-романтическая:
Там... ждут замысловатые сюжеты...
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы.
Припев: Надежда - мой компас живой,
А удача - награда за смелость.
А песни...
довольно одной,
Только б о доме в ней пелось.
Последняя строчка припева, правда, сбивала меня: при чем тут дом, оставленный где-то в центре, в европейской части Союза...
Но я отмахивался. Главное же - общее впечатление. (Я уже в начале этого пространного опуса отмечал такое психологическое явление, как невнятность восприятия слов в стихах и песнях, невнятность за счет улавливания общего настроения.) А это общее настроение, общее впечатление было совершенно ясным: гражданственным, патриотическим, романтически-комсомольским и даже чуть ли не героическим, когда “Надежду” на телевидении исполняли едва ли не как гимн - при общем воодушевлении зала.
Теперь, имея перед собой все слова, я понимаю, что помимо музыки, имени Пахмутовой и апофеозной манеры исполнения действовал еще и, например, сам набор слов:
компас;
взлетные огни аэродрома;
удача - награда за смелость;
туманы и дожди;
холодные рассветы;
на неизведанном пути
ждут замысловатые сюжеты -
и все это - под сенью многократной надежды и незнакомой звезды
.Не только у меня одного (я проверил) сложилось мнение о “Надежде” как об одной из звуковых эмблем, с которыми в Сибири выходят “в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то, зеленый, молодой народ
”.И это правильно, что песни воспринимаются расширительно. Такая вот:
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая... -
это ж не просто будит заспавшуюся девушку некто...
В том достопочтенном фильме “Москва слезам не верит”, песня Левитанского “Разговор у новогодней елки”, спетая за кадром, где в самом кадре блаженствовала приглашенная на охоту директриса Катерина, кажется, нашедшая себе, наконец, избранника,- в том фильме та песня тоже трактовалась режиссером расширительно. И на новогоднем телевизионном огоньке тоже дело шло не только о погоде и моде, а еще и о счастье.
Вот так же и в “Надежде” Добронравова и Пахмутовой.
Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома,
Снова между нами - города,
Взлетные огни аэродрома.
Здесь у нас туманы и дожди,
Здесь у нас холодные рассветы.
Здесь на неизведанном пути
Ждут замысловатые сюжеты....
Ты поверь, что здесь, издалека,
Многое теряется из виду.
Тают грозовые облака,
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые телеграммы.
И забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то не допели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели.
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник надежде.
Надежда - мой компас живой,
А удача - награда за смелость.
А песни...
довольно одной,
Только б о доме в ней пелось.
Однако... у Добронравова на бумаге речь идет о молодом (скажем так, для определенности) парне москвиче, не в первый раз (снова) рассорившемся с обладателем милых усталых глаз (с мамой или с любимой). Он нелепо обиделся, посчитал тучи над своей головой за грозовые и уехал к холодным туманам, дождям и рассветам, не в силах, однако, забыть все, что не допели с усталоглазой и надеясь допеть, если выучиться ждать, быть спокойным и упрямым. Тогда взаимная (или односторонняя) обида в разлуке забудется (настоящая любовь в разлуке еще больше разгорается), и придет скупая телеграмма из Москвы от “жизни”, мол, возвращайся домой. А он и рад, ибо только одну песню - о доме - и пел все это время, только о доме и мечтал, а замысловатые сюжеты и неизведанные пути были лишь средством забыться о недопетом в синие московские метели с обладательницей милых усталых глаз.
(Как, оказывается, этот романтический материал здорово отличается от когановского “Надоело любить усталые глаза”!..)
И, все же, ничего. Повторяю: главное - общее настроение. От песни (если это не самодеятельная песня) очень часто и не требуется особого содержания. А есть такие песни, в которых ни смысла, ни логики - одно чувство.
Сошлюсь на Белинского: <<
Так, например, многие русские народные песни удерживаются в памяти народа не содержанием своим (ибо в них почти совсем нет содержания), не значением слов, из которых состоят (ибо соединение этих слов лишено почти всякого значения, и, при грамматическом смысле, не имеют почти ничего логического), но музыкальностью звуков... Другие лирические пьесы, не заключая в себе особенного смысла, хотя и не будучи лишены обыкновенного, выражают собою бесконечно знаменательный смысл одною музыкальностию своих стихов... Вот песня Дездемоны......”О ива, ты, ива, зеленая ива!”
Зеленая ива мне будет венком.
“О ива, ты, ива, зеленая ива!”
Скажите, какое отношение имеет здесь ива к предмету стихотворения - страданию Дездемоны?..
>>Какое отношение имеет “
обыкновенный смысл” антисибирского устремления героя стихов Добронравова к просибирскому “знаменательному смыслу” песни “Надежда”?Я нахожу, что, например, такие строчки, как: милые усталые глаза
, синие московские метели - с их большой концентрацией мягких гласных и согласных, работают так же, как “и” и “е” песни Дездемоны.Но “Надежда”, конечно, не крайний фланг лирической песни. Это романтическая, то есть в значительной мере идеологическая песня, песня о разлуке, о трудном счастье, которое еще - в будущем, и о благотворном влиянии на это будущее далекой земли, холодных туманов, дождей и рассветов - Сибири. Как бы там ни было, а радость приходит через Сибирь - по Добронравову и Пахмутовой. И раз песня - гражданственная, то я вправе задать авторам риторический вопрос: почему по их воле радости - скупые и бывают - только порой?
Я тут же поясню, почему такой вопрос я считаю правомочным только к авторам гражданственной песни.
Взять у того же Добронравова песню “Ты не печалься”...
Там, где сосны, где дом родной,
Есть озера с живой водой.
Ты не печалься, ты не прощайся -
Все впереди у нас с тобой.
Как кукушке ни куковать,
Ей судьбы нам не предсказать...
Ты не печалься, ты не прощайся,
А выходи меня встречать.
Над равниной встает заря,
Синим светом полны моря...
Ты не печалься, ты не прощайся,
Ведь жизнь придумана не зря!
Будет радость, а может, грусть...
Ты окликни, я оглянусь...
Ты не печалься, ты не прощайся -
Я обязательно вернусь.
Фабула этих стихов почти такая же, как в “Надежде”. Тоже разлука двоих любящих и естественное беспокойство по этому поводу; тоже не совсем гладкое счастье и в прошлом, и в настоящем, и в будущем: живой водой - раны смачивают, на кукушку загадывают - от неуверенности в будущем. И будущее-то сулит “радость, а может, грусть”... И финал все-таки так же, как и в “Надежде”,- тоже, в общем-то, обнадеживает: позитивный. И тоже грядет возвращение.
Но здесь нет уже такого подбора слов, как в “Надежде”, который мог бы внушить, что речь здесь - о романтическом подвижничестве на благо родины вопреки собственным сложностям в личной жизни.
Над равниной встает заря.
Синим светом полны моря...
...жизнь придумана не зря!
Этих слов слишком мало и слишком они сосредоточены в одном месте, чтоб превратить песню во что-то вроде гимна и апофеоза. И музыкальная строка слишком коротка, и мелодия наивна... “Ты не печалься” остается чисто лирической песней о возможном, очень даже (хотя и не на все 100%) возможном счастье вдвоем.
И здесь действительно никакой кукушке не предсказать “им” процесса и исхода “их” романа, хотя у него и есть - чувствуется - все задатки окончиться благополучно. И о такой песне было бы идиотизмом спрашивать автора, почему все печалится и печалится девушка, от припева к припеву провожающая, встречающая и опять провожающая юношу. Таково уж молодое дело - тревожиться в любви. Любовь никогда не бывает без грусти, и это закон.
А с авторов гимнов и знаменоносных песен спрос другой.
“Надежда” возносит на щит концепцию трудной жизни, трудного счастья, то есть что-то совсем не такое, что воспевали в песнях 30-х годов.
Любовь никогда не бывает без грусти,
А это приятней, чем грусть без любви...
Это - песня 30-х годов. Но эти слова поются на такую ликующую мелодию, так настойчиво подается это ликование как счастливый удел всех и вся, что эту песню невозможно не воспринимать расширительно.
А что за грустинка затесалась в расширительно, по-гражданственному воспринимаемую “Надежду”?
Мы уже знаем (по самодеятельным песням), что это за грустинка - Незнание... И я берусь утверждать, что в меру того, сколько Незнания сюда, в гражданственность, проникло, столько выигрыша получила она. Даже воспринимаемая как оптимистическая комсомольская, “Надежда” довольно многим еще нравится в таком качестве, чего не было бы, будь она так безоглядно бодрячески фальшива, как та песня о московских студентах, которые, если уж любят, то не иначе, как Ромео - Джульетту.
И пусть мне скажут, что Пахмутова просто конъюнктурщица с относительно тонким чутьем, я буду продолжать говорить, что ее “Надежда” - холм в сейсмической зоне.
Луначарский как-то подразделил формализм преемственности на формализм собственно преемственности и на формализм шарлатанной преемственности. Первый - делает закономерные выводы из работы предшественников, из изучения содержательности старых форм и пытается прибавить что-нибудь органическое - иногда, может быть, великое - к тому, что создано человечеством. А формализм шарлатанной преемственности - это когда “творец” не имеет в себе истинного содержания, потрясающего его, но зато научился формам и создает произведения, которые производят обманом социальные сдвиги, то есть кажутся содержащими в себе переживания.
Так или иначе, а “творец” этот сколько-то эффективен в духе времени, и если Пахмутова относится даже и к таким, то под “холмом” ее “Надежды” земное горячее ядро все же поближе находится, чем под каким-нибудь другим “холмиком”.
<<
Такой “творец”, однако,- продолжает далее Луначарский,- не может идти впереди остального общества>>. Но я тут же перебью, напомнив читателю, что с вершин искусства и с хребта мы ведь уже спустились в равнину...*
Настало время, наверно, объяснить, чем же мне не “вершина” - “Надежда”, причем “Надежда”, которая воспринимается как гражданственно-патриотически-романтическая песня.
Низкий уровень такой “Надежды”, по-моему, в том, что в ней как-то мало беспокойства за конечный результат, который я определяю как личное и трудовое счастье молодых строителей коммунизма - не меньше,- раз уж песня - гражданственная. Мало беспокойства!
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым
(!)Оно, конечно, если в общем-то все оптимистично, то не о чем особенно волноваться. Можно быть спокойным. Надежда, однако, здесь больше к уверенности склоняется, чем к собственно надежде, больше к знанию, чем к Незнанию, и это значит (в системе моих сравнений), что “холм” это - “Надежда” Пахмутовой - не в горах, а на равнине, где дальше, чем в горах, до горячего земного ядра, сотрясающего землю.
А если заменить эти расплывчатые сравнения терминами эстетики, то “Надежда” (понятая опять повторю - по-гражданственному) - в достаточно малой степени испытывает сокровенное мироотношение слушателя, то есть вызывает небольшое по амплитуде колебание чувств: сочувствия и противочувствия. (О последнем в подлиннике я предлагаю читать у Выготского в “Психологии искусства”, а о приложении этих терминов к песням - другие мои опусы, не этот.)
От “Надежды” веет душком завербованности государством ее авторов. А в голове нашего государства на 70% - люди социалистически аморальные, лишь на словах коммунисты. И такому руководству от молодежи, конечно же, требуется не свойственная ей <<
особая психологическая предрасположенность к наиболее совершенным, справедливым формам социалистического устройства>> и, следовательно, недовольство ошибками в строительстве нового общества. 70% такого руководства строят коммунизм из-под палки, которую держит в руках идейно сильные остальные 30%. От этой силы тридцати процентов - итоговый оптимизм “Надежды”, от этих семидесяти процентов - приспособленчество, спокойствие и приятие редкостности радости. А от того и другого вместе в “Надежде” преобладает успокаивающая функция, и потому она устраивает и руководство, и массы, хорошо соответствующие своему руководству. Главное, чтоб было тихо!Можно ли теперь возразить мне, если я скажу, что эта песня - для тех когановских Ивановых, что в пошлости до пят. Они
могут притвориться любителями Александра Блока (этого чувствилища революции), притвориться, “мизинец тонко отогнув”, как притворяются коммунистами 70% руководителей, как притворяются романтиками те, кто уехал на восток от неурядиц дома, в центре.Кстати, эти 70% не с потолка взяты и не из пальца высосаны. Пока я писал сей опус, кончились польские события, с которых я опус этот начинал. Войцех Ярузельский, подытоживая беды Польши (опубликовано в наших газетах), заявил, что 70% польского политического руководства и 50% местного руководства вынуждены были отойти от управления, потому что эти люди - во главе с самим Гереком - запятнали свое звание коммунистов. Наверно, такой же процент социалистически аморальных можно перенести и на оценку нашего руководства. У нас в народе только послушания побольше, вот мы и не вскрыли все, как поляки.
В области песенной эстрады вскрывают лишь самодеятельные песни. Да и то не все, а лишь те, что поближе к хребту, поближе к Незнанию, подальше от утешительства, иллюзий и грез.
А катиться под гору, однако, тянет и этих самородков:
Мне звезда упала на ладошку,
Я ее спросил: “Откуда ты?”
“Дайте мне передохнуть немножко,
Я с такой летела высоты”.
А потом добавила, сверкая,-
Словно колокольчик прозвенел:
“Не смотрите, что невелика я,
Я умею делать много дел.
Вам необходимо только вспомнить,
Что для вас важней на свете,-
Я могу желание исполнить,
Я все время занимаюсь этим”.
Знаю я, что мне необходимо,
Мне не нужно долго вспоминать:
“Я хочу любить и быть любимым;
Я хочу, чтоб не болела мать;
Чтоб на нашей горестной планете
Только звезды падали с небес;
Были все доверчивы, как дети,
И любили дождь, цветы и лес;
Чтоб траву, как встарь, косой косили;
Каждый день летали б до Луны;
Чтобы женщин на руках носили;
Не было б болезней и войны;
Чтобы дружба не была обузой;
Чтобы верность в тягость не была;
Чтобы старость не тяжелым грузом -
Мудростью бы на сердце легла;
Чтобы у костра, пропахнув дымом,
Эту песню тихо напевать;
А еще хочу я быть любимым
И хочу, чтоб не болела мать”.
Говорил я долго, но напрасно.
Долго, слишком долго говорил.
Не ответив мне, звезда угасла -
Было у нее немного сил.
Видите, каков? Как десять Маниловых враз... Сытый Иванов ненасытный. (Пусти свинью за стол - она и ноги на стол.) Чтоб каждый день летали до Луны... Так много желаний у этого героя песни Дольского, что никакой коммунизм, никакой Хоттабыч его не удовлетворил бы. А посему, если серьезно, так надо быть спокойным и, пожалуй, ничего не хотеть... И будет тихо...
И интимный перебор гитарных струн и мягкий голос нравятся массам ивановых, и они отдали Дольскому пальму первенства среди самодеятельных авторов...
И достаточно было оступиться Рязанову и сочинить успокоительную песню “У природы нет плохой погоды” (а эта песня расширительная, а не только о погоде), как и она оказалась при каком-то голосовании первой в каком-то году. Не то, что его фильм “Гараж”. (“С легким паром”, правда, оказался тоже первым, но это уже потому, что в этом фильме Рязанов к гражданственности не подошел - как Добронравов в песне “Ты не печалься”.) Зато первыми оказываются такие фильмы, как “Москва слезам не верит”. (Я, кстати, совсем не удивляюсь, что “Москва слезам не верит” получила американского Оскара. В Америке есть свои ивановы, в том числе и в жюри оскаровской премии, и им понятны талантливо исполненные охранительные, компенсаторные функции искусства.)
Но компенсаторная функция, как мы уже говорили (кто помнит), если она превалирует - не создает из произведения вершину, создает лишь холмик на равнине. И наоборот, чем более жестоко песня испытывает слушателя, тем выше он ее оценивает.
В случае с “Надеждой” Пахмутовой и Добронравова я обнаружил смешное подтверждение этому правилу.
Проверяя, совпадает ли мое восприятие этой песни как гражданственной с восприятием ее другими и обнаруживая поголовно единомышленников, я наткнулся на одну женщину, у которой, можно сказать, как бы отсутствовал орган восприятия социалистической гражданственности. И она, естественно, не заметила комсомольского ореола вокруг “Надежды”. Для нее это была песня о любви в разлуке и ничуть не более; вроде как для меня (и, думаю, для других) - песня “Не печалься”.
А эту последнюю я считаю в своем ряду (негражданственном ряду) отличной песней. Так я считал раньше. Так считаю и сейчас. Только сейчас я еще знаю, почему это: потому что, так сказать, развоплощается материал. В данном случае речь идет все время о разлуке и печали по этому поводу, а выходит-то, что о непобедимости любви. То есть совсем по тому же Выготскому, об идеях которого я тут распространяться не буду. Ну, разве что два примера для неинтересующихся подлинником: развоплощается камень толщенных стен готического собора (через его вытянутость) в дух парения ввысь, к Богу...
То же и в “Надежде”, понимаемой буквальнее обычного: один и другой раз - нелепые обиды и разлука, а любовь (через надежду) - торжествует победу.
Но достаточно было моей знакомой узнать,
что большинство воспринимает “Надежду” как символ порыва в холодные туманы,
рассветы и дожди,- как для нее отсутствие в песне развоплощения страданий от
этих неблагоприятных климатических факторов, отсутствие противочувствия делает
(для нее, повторяю) песню неинтересной и разонравившейся. И она права, хотя,
конечно же, не знает и не сознает механизма психологического действия
искусства. *
*
*
Мне может, однако, указать внимательный читатель, что (как я сам признавался) я высоко ставлю такие страстные гражданские песни, как “Марсельеза”, совесткие песни 30-х годов, которые не вызывают никакого противочувствия, а одно лишь цельное сочувствие. Такие песни как день от ночи далеки от всяческих сомнений, колебаний и, в общем, от Незнания. И такой читатель будет совершенно прав, потребовав от меня объяснений.
А я буду не прав, если скажу, что я доподлинно все знаю и все могу объяснить. Но не прав буду и в том случае, если не попытаюсь объяснить. Потому прошу еще раз извинить за теоретизирование.
Противочувствие в произведении искусства нужно не само по себе, а для приведения раскачанных чувств к разряду, к катарсису, к возвышению чувств. Испытание сокровенного мироотношения нужно не само по себе, а с целью усовершенствования человечества, приближения его к идеалу.
И вот такие произведения, как “Марсельеза” и советские песни 30-х годов, как раз имеют непосредственное отношение к идеалу, идеалу социальному.
Революционный пафос социального движения и пафос искусства революции основывается, главным образом, на идеальном предвосхищении будущего строя. Это предвосхищение может быть рассудочным (давидовским, так сказать, если оставаться в системе ценностей этой статьи) и нерассудочным, страстным (как у Руже де Лиля в “Марсельезе”).
Я признаюсь, что нечетко прежде провел разницу между ними. Я свел все нерассудочные искусства к Незнанию и нерассудочные искусства революции - в том числе. Мол, кто неточно знал, что он хочет, кто смутно чувствовал - тот порождал страстное нерассудочное искусство. И Незнание, таким образом, стало полновластным царем.
Но я уже и тогда упоминал вскользь об эмоциях как об инструменте дальнего предвидения удовлетворения потребностей. А в этом инструменте-то сейчас и все дело.
Очень хорошо, что мы подробнейше разобрались с Незнанием. Тем удобнее будет разобрать теперь такой его частный случай, как дальнее предвидение. Согласитесь, что
дальнее предвидение в чем-то сродни Незнанию. Да. Только в чем-то, правда. А вообще оно - антипод Незнания. Вот на этом сходстве-противоположности и держится непротиворечивость моей,- если смею так выразиться,- эстетики (которую, впрочем, я насобирал - с миру по нитке - у других, истинных теоретиков).Нужно очень резко забежать вперед, в будущее, в утопию, и тогда оторвешься от рассудочности.
Скажете, Дольский тоже резко оторвался - как десять Маниловых. Но желания в той песне Дольского (как и мечты Манилова) не относятся к социальному утопизму. Чтобы не было войны - это у него не утверждение коммунизма на всей планете, одно решающее проблему кардинально. Чтоб не было болезней - тоже у него не означает утверждение чего-то социального, устраняющего, как социализм, например, такую социальную болезнь, как туберкулез. У Дольского таки гражданское фантазирование в той песне, но оно и не касается строя и оно - негативно.
А искусство революции связано больше не с негативизмом, а с <<
продуктивной способностью воображения проникать в будущее>>. Искусство вообще - царство свободы. Искусство революции - высшее царство свободы, это уже сам действующий вулкан на хребте шедевров искусства, вулкан, через который горячее земное ядро Незнания являет себя как дальнее предвидение.Есть мечты - и мечты, иллюзии - и иллюзии. Свобода может быть “от” и свобода “для”.
Воображение могут-таки некоторые отождествить <<
с одной лишь способностью отрицания образов, навязываемых реальной и зачастую чуждой действительности>>. Но это - целиком негативное воображение. Это именно то воображение (и порождаемое им искусство), что позволяет <<иллюзорно отстраниться от неистинной жизни>>, что выполняет чисто компенсаторную функцию. Такое искусство - это царство свободы “от”.И нельзя не признать, что искусство дальнего предвидения, искусство свободы “для” - в чем-то схоже с искусством свободы “от”. Да. Схожи. Но разнонаправлены.
Свобода “для” - в отдаленное будущее. И Великая Французская революция и Руже де Лиль с “Марсельезой” боролись не только за капитализм, но и больше - за социализм и коммунизм в чем-то. Лишь история показала, что якобинская “земля обетованная” оказалась в значительной степени иллюзией, в той степени, в какой капиталистическое равенство не есть равенство коммунистическое. И Великая Октябрьская революция и порожденное ею эхо - советские песни 30-х годов - тоже породили иллюзии, в той мере иллюзии, в какой социализм не есть коммунизм. Но направлены обе революции (и их искусство) - по большому счету - к одному полюсу - в царство социальной гармонии - коммунизму. И в этом прелесть тех песен и революций. Неувядаемая прелесть.
А свобода “от” направлена или на прошлое (“золотой век”), или на настоящее. Компенсаторное, убаюкивающее искусство показывает и воспевает вот сейчас якобы достижимый идеал.
Нет в монополистическом капитализме равных для всех возможностей преуспеть, нет независимого предпринимательства, крайне редкими сделались случаи стремительного честного продвижения из “низов” в “верхи”. Тем более распространяются современные “жития святых” - биографии быстрого делового успеха. Лишь будто бы из опыта рядового, не слишком удачливого индивида, исчезли взлеты. Но по-прежнему обнаруживают, мол, они себя в опыте людей незаурядных, более полно и последовательно реализующих максимы частного предпринимательства. А за несоответствие дарования и продвижения должны-де нести ответственность нечестные бизнесмены. И, пожалуйста: другие жития - уголовные хроники современного рэкета, мафиозных действий в экономике. В условиях же честного равнопартнерского соревнования, мол, правда восторжествует, коль скоро будет усилен правительственный контроль над соблюдением законов конкуренции.
И вот - голливудские и голливудоподобные фильмы об успехе: в любви, в дружбе, в признании индивида средой - фатальные happy end, которые устанавливают равновесие между заслугой и удачей.
И вот - фильмы об успешных изобличениях живущих не по закону, с неизбежно наступающей ситуацией открытой схватки, когда до сих пор преуспевающий злодей оказывается лицом к лицу с честным искателем выгоды и вынужден вступить в легендарное равнопартнерское состязание с ним: поединки, драки, гонки, торжествующие шерифы, полисмены, детективы (Э. Соловьев)
.И наш, убаюкивающий на идее равенства и справедливости, фильм “Москва слезам не верит” (в противоположность западным с их быстрым, а здесь - с долгим и потому справедливым, успехом), этот фильм не то что недалеко от голливудских фильмов ушел, а просто им подобен и потому, повторяю, получил американского Оскара.
Вот вам и похожесть свободы “от” на свободу “для”. Равенство как будто бы воспевают обе свободы. Но для одной - сейчас, а для другой - в будущем, которое оказывается (но только исторически оказывается) - далеким.
Пели: “Всюду жизнь привольна и свободна, словно Волга полная течет...” А в это время по ночам ежовские приспешники арестовывали якиров и тухачевских.
Но это ничего. Мы уже знаем (а по примеру “Надежды” Пахмутовой - конкретно знаем), что слова могут быть об одном, а дух песни, собственно песня,- о другом. Так вот, песни 30-х годов - о скором, очень скором построении коммунизма, как песни 20-х годов - о скорой мировой революции. И как ни скоро это казалось осуществимым, но это было резким рывком вперед.
Наш паровоз, вперед лети?
В коммуне остановка...
*
Вот, в итоге,- два негоризонтальных (если по Когану) пути для искусства нашего, а может, и не только нашего времени: в неразочаровавшееся окончательно Незнание и в дальнее предвидение.
Второе сейчас пока, видимо, не проходит. Остается одно. Этим единственным путем в песенной гражданственной эстраде идет, в основном, лишь самодеятельная песня. Та, впрочем, которая не скатывается под откос.
Каунас. Сентябрь 1981 - июль 1982.
Критика на критику
Книга Высоцкого “Нерв” выпущена достаточно малым тиражом, чтобы ее переписывать. Но меня интересует лишь преамбула Роберта Рождественского. И в переписке я ограничусь только ею.
<< От составителя
Эта книга
не песенник.Хотя, составляя ее и перечитывая стихи Владимира Высоцкого, я все время слышал его голос. За каждой строкой слышал, за каждым словом.
И даже тогда, когда мне встречались абсолютно незнакомые стихи, все равно где-то далеко в глубине возникала и звучала мелодия. И голос Высоцкого звучал. Голос, который продолжает жить...
Давно уже замечено, что когда умирает известный человек, то число его “посмертных друзей” сразу же начинает бешено расти, в несколько раз превышая количество друзей реальных, тех, которые были при жизни. И объяснить это явление, в общем-то, можно: ведь всегда находятся люди, жаждущие погреться в лучах чьей-нибудь славы, хотя бы и посмертной. Тем более, что обладатель этой славы уже не в силах никому возразить, не в силах что-либо опровергнуть.
Поэтому и витийствуют в табачном дыму застолий новоявленные “близкие друзья” и “закадычные приятели”, поэтому они и “вспоминают”: “Шли мы как-то с Владимиром Высоцким по Басманной...”, или: “Забегаю это я однажды к Высоцкому, а он мне и говорит...”, или еще хлеще: “А с Володькой мы были водой не разольешь!..”
Я знаю, как много таких “вспоминателей” объявилось теперь у Высоцкого. Ну да бог с ними, пусть потешатся!.. Я не о них.
Я - о том, что у Высоцкого и у его песен и в самом деле великое множество истинных, серьезных друзей. Тех самых друзей, ради которых он работал и для которых жил.
Наверное, у каждого человека, знакомого с песенным творчеством Владимира Высоцкого, есть, так сказать, “свой собственный Высоцкий”, есть песни, которые нравятся больше других. Нравятся потому, что они чем-то роднее, ближе, убедительнее.
“Свой Высоцкий” есть и у меня.
Был такой вроде бы неплохой фильм - “Вертикаль”. Был и прошел. А песни, написанные Высоцким для этого фильма, остались.
Были еще фильмы, были спектакли, которые “озвучивал” Высоцкий, и очень часто песни, созданные им, оказывались как бы на несколько размеров больше самого фильма или спектакля. Каждый раз у этих песен начиналась своя отдельная (и очень интересная!) жизнь. Они сразу же шли к людям, шли, будто бы минуя экран или сцену.
И особенно ясно это понимаешь, когда вслушиваешься в песни, написанные Владимиром Высоцким о войне...
Почему все не так? Вроде все как всегда:
то же небо, опять голубое,
тот же лес, тот же воздух и та же вода,
только он не вернулся из боя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
он всегда говорил про другое,
он мне спать не давал, он с восходом вставал,
а вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь,- не про то разговор,
вдруг заметил я: нас было двое...
Для меня словно ветром задуло костер,
когда он не вернулся из боя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нам и места в землянке хватало вполне,
нам и время текло для обоих...
Все теперь одному, только кажется мне,
это я не вернулся из боя.
На мой взгляд, песня “Он не вернулся из боя” одна из главных в творчестве Высоцкого. В ней, помимо интонационной и психологической достоверности, есть и ответ на вопрос, почему поэт, человек, который по своему возрасту явно не мог принять участия в войне, все-таки пишет о ней, более того, не может не писать?
А все дело в судьбе. В твоей личной судьбе, которая начинается вовсе не в момент рождения человека, а гораздо раньше. В личной человеческой судьбе, которая никогда не бывает чем-то отдельным, обособленным от других людских судеб. Она, твоя судьба,- часть общей, огромной судьбы твоего народа. И существуешь ты на земле, продолжая не только собственных родителей, но и многих других людей. Тех, которые жили до тебя. Тех, которые когда-то защитили твой первый вздох, первый крик, первый шаг по земле.
Песни Высоцкого о войне - это, прежде всего, песни очень настоящих людей. Людей из плоти и крови. Сильных, усталых, мужественных, добрых.
Таким людям можно доверить и собственную жизнь и Родину. Такие не подведут.
Сегодня не слышно биенья сердец.
Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец,
подумать успев напоследок:
“На этот раз мне не вернуться.
Я ухожу - придет другой.
Мы не успели, не успели, не успели оглянуться,
а сыновья, а сыновья уходят в бой”.
Именно так и продолжается жизнь, продолжается общая судьба и общее дело людей. Именно так и переходят от родителей к детям самые значительные, самые высокие понятия...
У Владимира Высоцкого есть песни, которые чем-то похожи на роли. Роли из никем не поставленных и - более того - никем еще не написанных пьес.
Пьесы с такими ролями, конечно, могли бы быть написаны, могли бы появиться на сцене. Пусть не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но дело в том, что ждать до завтра Высоцкий не хотел. Он хотел играть эти роли сегодня, сейчас, немедленно! И поэтому сочинял их сам, сам был режиссером и исполнителем.
Он торопился, примеряя на себя одежды, характеры, судьбы других людей - смешных и серьезных, практичных и бесшабашных, реальных и выдуманных. Он влезал в их заботы, проблемы, профессии и жизненные принципы, демонстрировал их способ мыслить и манеру говорить. Он импровизировал, увлекался, преувеличивал, был дерзок, насмешлив, дразнил и разоблачал, одобрял и поддерживал.
Причем все это он делал так талантливо, так убедительно, что иные слушатели даже путали его с теми персонажами, которых он изображал в своих песнях. Путали и - восторгались. Путали и - недоумевали.
А Высоцкий вроде бы и не обращал на это никакого внимания. Он снова и снова выходил на сцену, продолжая сочинять и петь свои - всегда неожиданные, разноплановые, злободневные - “песни-роли”. И в общем-то это уже были не роли, а, скорее - целые пьесы со своими неповторимыми характерами, непридуманными конфликтами, точно выстроенным сюжетом.
Исполняя их Высоцкий мог быть таким грохочущим, таким штормовым и бунтующим, что людям, сидящим в зале, приходилось, будто от сильного ветра, закрывать глаза и втягивать головы в плечи. И казалось: еще секунда - и рухнет потолок, и взорвутся динамики, не выдержав напряжения, а сам Высоцкий упадет, задохнется, умрет прямо на сцене... Казалось: на таком нервном накале невозможно петь, нельзя дышать!
А он пел. Он дышал.
Зато следующая его песня могла быть потрясающе тихой. И от этого она еще больше западала в душу. Высоцкий, который только что казался пульсирующим сгустком нервов, вдруг становился воплощением возвышенного спокойствия, становился человеком, постигшим все тайны бытия. И каждое слово звучало по-особому трепетно:
Я поля влюбленным постелю
пусть поют во сне и наяву!
Я дышу - и, значит, я люблю!
Я люблю - и, значит, я живу!
Высоцкий пробовал себя в разных интонациях, он искал для своих “пьес” все новые и новые краски, новые детали, и поэтому его песни имеют несколько авторских вариантов, изменений, сокращений. И в этом - тоже он, Высоцкий,- его натура, его неудовлетворенность собой, его способ творчества.
Можно сказать, что дверь в его “творческую лабораторию” была постоянно распахнута. Он был весь на виду. Со всеми своими удачами и неудачами, находками и проколами, сомнениями и убежденностью.
Он написал много песен. И, конечно, не все они ровные.
Но это всегда - неровности дороги, ведущей к постижению истин, к открытию людей и, значит,- к открытию самого себя...
Он никогда не пел свои песни свысока, никогда не стоял над зрителями, над слушателями. И эстрада (впрочем, так же, как и сцена, и съемочная площадка) была для него не пьедесталом, а местом, откуда его просто-напросто лучше видно и лучше слышно. А еще она была местом его работы. Работы - с полной самоотдачей. На износ. Всегда и во всем...
Много раз я слышал, как его песни исполняли другие - порою очень хорошие - певцы. Не могу сказать, что эти певцы недостаточно старались. Нет, они вкладывали в каждую песню все свое умение, весь свой темперамент и опыт!
А песня все равно получалась какой-то другой, разученной, взятой напрокат. Она - будто одежда с чужого плеча - то морщила на спине, то жала в груди, то вообще расползалась по швам.
И дело тут даже не в своеобразной исполнительской манере Высоцкого. Ведь в конце концов любую манеру можно скопировать.
Манеру - можно, а душу - нельзя...
Он был невероятно популярен. Достать билет на его выступление было намного труднее, чем “пробиться” летом в сочинскую или ялтинскую гостиницу.
Но если для нормальных людей Владимир Высоцкий был своим близким, необходимым и любимым актером, то для мещанствующих снобов он, прежде всего, был “модным”.
Я ненавижу публику так называемых “престижных” премьер.
Не всю, конечно, публику, а ее самодовольную (кстати, не такую уж и малочисленную) снобистскую часть. Ненавижу типов, которые появляются на премьерах вовсе не потому, что в каждом первом спектакле (или концерте) есть, как в рождении ребенка, какая-то щемящая торжественность, соединение боли и радости, достигнутого и недостижимого.
Нет, быть на премьере - для снобов не самое главное, для них главное -
попасть туда! Попасть, чего бы это ни стоило, “отметиться”, хотя бы только для того, чтобы после обзвонить “не попавших”: “Как, вы не были?! Ну-у, много потеряли!.. Там была такая-то с таким-то... И этот был... И та... Нет, честное слово, жалко, что вас там не было! Мы, например, всегда ходим...”Именно такие мещанствующие снобы распускали о Высоцком нелепые, почти фантастические сплетни и слухи, и в то же самое время заискивали и лебезили перед ним. О, как им хотелось, чтобы он - Высоцкий - стал бы и для них “своим в доску”, “рубахой-парнем”, закадычным “дружком-приятелем”!
А он ненавидел мещан. И снобов - презирал. Любых.
Недаром есть у него горькая и злая песня, которая заканчивается такими словами:
Не надо подходить к чужим столам
и отзываться, если окликают.
Однако, когда Владимира Высоцкого окликали не снобы, а люди - просто люди,- он поворачивался к ним охотно, поворачивался всем корпусом, а отзывался всем сердцем!
Вспомните, к примеру, его “сказочные песни”. Те самые, которые он писал для “Алисы в стране чудес”, для кинофильма “Иван да Марья” и просто так - для себя.
Дети, общаясь со взрослыми, моментально распознают, кто из взрослых с ними - на равных, а кто только “прикидывается” ребенком.
Так вот, сочиняя свои “детские сказочные песни”, Владимир Высоцкий ребенком никогда не прикидывался. Он просто был им.
За хриплым напряженным голосом и жесткой манерой пения до поры до времени скрывалась восторженная и добрая ребячья душа, прятался человек, гораздый на выдумку и озорство, умеющий верить в чудо и создавать его...
Догонит ли в воздухе, или шалишь,
летучая кошка летучую мышь?
Собака летучая - кошку летучую?..
Эти “вечные вопросы” детства задает себе Алиса, и слезы ее текут, конечно же,- в “Слезовитый океан
”...А вот как трогательно и вместе с тем категорично звучит серенада влюбленного Соловья-Разбойника из другой - более взрослой - сказки:
Выходи, я тебе посвищу серенаду,
кто тебе серенаду еще посвистит?
Сутки сряду могу, до упаду,
если Муза меня посетит.
Я пока еще только шутю и шалю,
я пока на себя не похож,
я обиду стерплю,
но когда я вспылю,
я дворец подпалю,
подпилю,
развалю,
если ты на балкон не придешь...
Ну, кто, по-вашему, сможет устоять перед такими доводами влюбленного? Да никто на свете!..
В одной из “сказочных песен” Высоцкий задает вопрос, удивительный по своей “детскости” и мудрости.
...что остается от сказки потом,
после того, как ее рассказали?..
А действительно - что?
Могу сказать: когда я впервые услышал эти песни, у меня долго не проходило какое-то особое ощущение свежести, улыбки, доброты. И я еще больше поверил в истину: даже тогда, когда в начале сказки все “страшно, аж жуть!”,- в конце ее все страхи обязательно исчезают, там непременно светит солнце и торжествует добро!
Так что после того, как сказку рассказали, остается многое. В том числе и чисто профессиональное уважение к Высоцкому. Ведь по этим стихам видно, как
радостно он работал над ними, буквально “купаясь” в теме! Я даже вижу, как он улыбался, записывая лихие, частушечные, виртуозно сделанные строки:Много тыщ имеет кто -
тратьте тыщи те.
Даже то, не знаю что,
здесь отыщете...
Так поют скоморохи на сказочной ярмарке. А вот как начинается песня царских глашатаев.
Если кровь у кого горяча -
саблей бей, пикой лихо коли.
Царь дарует вам шубу с плеча
из естественной выхухоли...
Такого раскованного и - одновременно - точного обращения со словом, непринужденного владения разговорными интонациями в стихах добиться очень трудно. А Высоцкий добивался.
Но он умел быть не только добрым. И не только покладистым.
Когда некоторые “весьма специфические” зарубежные доброхоты пробовали его “на излом”, то Высоцкий, оставаясь самим собой, разговаривал с ними жестко и однозначно. Родину свою в обиду он не давал никому.
Помню, как в октябре 1977 года группа советских поэтов приехала в Париж для участия в большом вечере поэзии. Компания подобралась достаточно солидная: К. Симонов, Е. Евтушенко, О. Сулейменов, Б. Окуджава, В. Коротич, М. Сергеев, Давоян. Был в нашей группе и Владимир Высоцкий.
Устроители вечера явно сэкономили на рекламе. Точнее, она отсутствовала напрочь! И, конечно же, нам говорили: “Стихи?! В Париже?! Абсурд!.. Вот увидите - никто не придет!..”
Мы увидели. Пришли две с половиной тысячи человек.
Высоцкий выступал последним. Но это его выступление нельзя было назвать точкой в конце долгого и явно удавшегося веера. Потому что это была никакая не точка, а яростный и мощный восклицательный знак!..
Так кем же он все-таки был - Владимир Высоцкий? Кем он был больше всего? Актером? Поэтом? Певцом?
Я не знаю.
Знаю только, что он был личностью. Явлением. И факт этот в доказательствах уже не нуждается... Высоцкий продолжает свою жизнь. Его сегодня можно услышать в городских многоэтажках и сельских клубах, на огромных стройках и на маленьких полярных станциях, в рабочих общежитиях и в геологических партиях.
Вместе с нашими кораблями песни Высоцкого уходят в плавания по морям и океанам нашей планеты. Вместе с самолетами взмывают в небо. А однажды даже из космоса донеслось:
Если друг оказался вдруг
и не друг и не враг, а так.
Если сразу не разберешь,
плох он или хорош.
Парня в горы тяни - рискни.
Не бросай одного его.
Пусть он в связке одной с тобой.
Там поймешь, кто такой...
Эту песню пел звездный дуэт космонавтов В. Коваленка и А. Иванченкова. И надо сказать, что здесь все было на высоте - и песня, и исполнение!..
Лучшие песни Владимира Высоцкого - для жизни. Они - друзья людей. В песнях этих есть то, что может поддержать тебя в трудную минуту,- есть неистощимая сила, непоказная нежность и размах души человеческой.
А еще в них есть память. Память пройденных дорог и промчавшихся лет. Наша с вами память...
Когда-то он написал:
...Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой
на заслуженный, но нежеланный покой...
Правильно написал!
Роберт Рождественский
>>Итак, я представил опус Рождественского и теперь начну свой, который будет собой представлять критику Рождественского.
Странен, возможно, я буду тем, кто умеет читать между строк. Они, чего доброго, понимают дело так, что Рождественский просто не мог написать иначе, чем написал: а то цензура бы не пропустила ни его предисловия, ни всей книги Высоцкого.
Они прочтут последний пассаж составителя и поймут: Рождественский хотел сказать, что Высоцкий себя обессмертил.
Они прочтут предпоследний пассаж - оценку пения космонавтов - и примут за нарочитую двусмысленность: мол, пели-то те на высоте физической, а не исполнительской, ибо не им - мещанам во дворянстве, псевдоаристократам нашей страны - суметь искренно спеть демократа Высоцкого.
Они прочтут пред-предпоследний пассаж - о завершающем выступлении Высоцкого на вечере советской поэзии в Париже - и сообразят, что “
восклицательный знак” - это символ, которым Рождественский выразил то, что еще при жизни Высоцкого признал (говорят) Вознесенский - что первым поэтом России и СССР в наше время является Владимир Высоцкий.Или вот,- скажут добрые люди,- восторгается Рождественский раскованностью, точностью, непринужденностью слов о “
естественной выхухоли”. Так думаете,- скажут,- он только формой и восторгается. Нет, мол. Он, мол, и идеей здесь пленен, да еще и ее злободневностью: идеей о, по сути, продажности военной опоры властей предержащих... Вот, мол, от чего Рождественский особенно восторгается, хотя и не пишет прямо.И когда он цитирует куплет с именно вот таким словами:
Даже то, не знаю что,
эдесь отыщете...
то восторг Рождественского подогревается не только
лихостью и виртуозностью строк, но и лихостью с виртуозностью пощечины вещистскому мещанству, так разъедающему наш строй и государство.Вот так и можно,- скажут добрые люди,- двигаться вспять по абзацам Рождественского и читать между строк.
И очень странным (повторяю), ломящимся в приоткрытую дверь покажусь я - скажем так: недобрый человек,- когда заявлю, что Рождественский умолчал об идейном содержании собранных им песен.
А я буду это утверждать, как бы анекдотически ни выглядела моя попытка отрицать подтекст у Рождественского методом обнаружения мною необъявленного Рождественским подтекста Высоцкого.
Я предлагаю продвинуться вспять по опусу Рождественского до самого начала, где составитель впрямую пишет об идейной направленности творчества Высоцкого и конкретно о песне - об одной их главных, якобы, в его творчестве - “Он не вернулся из боя”.
Вообще песни о войне, по Рождественскому, выражают у Высоцкого нравственную эстафету поколений.
А по-моему, наоборот: в Высоцком клокочет ярость из-за отсутствия этой преемственности.
Я это уже доказывал,- в другой раз,- разбирая другие песни. И сейчас берусь некоторым образом повториться только потому, что чувствую - Рождественский не врет в своем слове от составителя, и никакого подтекста у него нет, а попросту он недопонимает Высоцкого и, соответственно, недостаточно высоко его оценивает.
И от этого противопоставления: кто(!) - Рождественский - не понимает, а кто(!) - я - понял - хочется (по мере возможности публично) удивиться Рождественскому и повторить свои доводы. Кто знает, может, само такое противопоставление (по закону антитезы) убедит-таки моих читателей, еще не ценящих Высоцкого “по-моему”, что я - прав.
Итак - анализ “
одной из главных”, по Рождественскому, песен Высоцкого.Наверное случайно (хотя в глубине глубин, может, и не совсем случайно) Рождественский, цитируя, выпустил такой куплет:
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие - как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Речь тут явно идет о духовном влиянии погибших на живых. В чем же оно - влияние? В героизме солдат? В первопричине героизма: свободолюбии, например, патриотизме, чувстве социальной справедливости, святой мести или еще в чем высоком? - Неизвестно, но в чем-то высоком, раз отражается небо...
Как к месту это слово “небо”. Для верующих - души мертвых уносятся на небо, если при жизни их носители жили достойно... И потом: небо - вверху. Нужно вверх смотреть, чтоб видеть отражение неба в блестящих листьях деревьев. Так что смотреть вверх это (по-всякому) - возвышаться духовно.
Но вот что это за беда подкрадывается такая, что духовное родство с павшими - первым встречает ее “как часовые”? Это не беда продолжающейся Великой Отечественной войны, когда живые хранят память о погибших и вдохновляются их примером героическим. Для такой беды, как неоконченная война, память о павших - слишком нематериальное подспорье, чтобы ставить его во главу угла, как это сделано в песне. Будущее (грамматически будущее) время в словах “нас не оставят в беде”, конечно же, нужно понимать как будущее относительно войны в целом. Да и часовые больше мирному времени присущи, чем военному.
Так
что получается: это как раз и есть та самая преемственность поколений, о которой пишет Рождественский?Если б песня этим торжественным куплетом и кончалась, это бы работало на Рождественского: оптимистическая трагедия торжествует, высокий дух осеняет нас, достойных потомков своих отцов - “Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые
”.Но конец песни мрачен:
Все теперь - одному, только кажется мне -
Это я не вернулся из боя.
Герой Высоцкого - одинок и для него это - не жизнь. И вся песня не столько о войне, сколько об одиночестве.
Давайте посмотрим,- если выпустить настойчиво однообразные повторения “он не вернулся из боя”,- давайте посмотрим, о чем поется в песне:
обо всем (мол, не так, как всегда);
о небе;
о лесе, о воздухе, о воде;
о правоте-неправоте;
о спорах;
о молчании, о подпевании;
о разговорах;
о сне, о раннем вставании;
о весне;
о землянке...
Война в этой песне - как аппликация, органично вставленная, но все же - необязательная словно бы... Песня - об острейшим образом переживаемом одиночестве.
Казалось бы, какое у меня (если я солдат) должно быть отношение к соседу, если мне приходится с ним все время спорить, да еще до такой степени, что не до сна и покоя. Да мне бы врагом стал тот, кто не дает мне спать своими ранними, до восхода, вставаниями. Симонов как-то 9-го мая перед телекамерой спрашивал одного ветерана: “Что самое тяжелое на войне?” И солдат отвечал: “Недосыпание”. А тут, понимаете ли, они, эти двое, у Высоцкого как-то так воюют, что им не до сна из-за споров друг с другом. (Между прочим, это лишний раз показывает, что пафос у Высоцкого зародился не от военных реалий, а от мирного нашего послевоенного времени, столь запутанного, что действительно
сто`ит бессонных ночей и бесконечных искренних споров.) Но вернемся к тем двоим: казалось бы, их дружбе есть серьезные бытовые (касательно сна и покоя) препятствия.Далее. Как можно относиться к человеку, который молчал - невпопад, подпевал - не в такт, говорил - про другое? Как? Плохо?
Есть у Кривина такая притча, как жаловались ночью часы-ходики: “Ох, тяжело, гиря тяжела, тяжело ходить мне”. Стул услышал и помог - принял гирю на себя. Тогда ходики и вовсе застонали, мол, умираю...
Все эти в песне у Высоцкого, казалось бы, мешающие дружбе свойства товарища лишь показывают, какая сильная это была дружба, как нипочем ей были все помехи. Здесь действует закон Выготского: помехи дружбе - развоплощаются в дружбу.
И все тот же великий закон Выготского действует во всей песне: развоплощение материала, как развоплощаются толщенные стены готического собора - в парение к Богу (я всегда привожу этот пример). А у Высоцкого: дружба - материал, ее отсутствие - развоплощение материала. Развоплощается - в одиночество.
Все теперь одному...
Так что песня - не о войне, а об одиночестве. И если назвать по имени ту беду, что незаметно подкралась к нам, живущим уже столько лет без войны, так это будет - пошлость нашей жизни, отсутствие такого дела, которое бы так спаивало людей, чтоб была возможна подобная дружба, о которой как о прошедшей спел Высоцкий.
И тогда не преемственность получится, как это пишет Рождественский, а тоска по преемственности.
Очень хорошо это выражает образ, найденный Высоцким (и выпущенный Рождественским): “Отражается небо в лесу, как в воде
”.Ну сколько там может отражаться! Это художники, мастера видеть структуру цвета, мастера уловить незаметные другим рефлексы цвета соседних предметов - это довольно чуткие люди могут чувствовать отражение неба в лесу. И такие вот чуткие индивидуумы должны почувствовать (я не хочу сказать - понять) образ Высоцкого. Но люди - во множестве - не чутки. Люди не видят голубизну зеленых деревьев. Соответственно образу - мы, люди, живущие после войны, в очень малой степени живем духом наших предков, построивших социализм и отстоявших его в прошлой войне. И песня Высоцкого - о малости отражения неба - лесом и о страстном желании героя песни видеть деревья голубыми.
Вот откуда такая жгучая страсть в этой, да и во всех песнях Высоцкого - из злобы дня настоящего. И потому, кстати, настоящее (грамматически настоящее) время применено Высоцким:
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Анализировать так анализировать! Обратите внимание: все куплеты кончаются словами “он не вернулся из боя”, а один, выпущенный Рождественским,- пейзажная зарисовка,- не кончается так. Этот куплет как бы вырван из войны. И речь в нем идет не обо “мне” - лирическом герое песни, а о нас. И я предлагаю считать, что речь здесь идет не от имени героя, вернее, не только от имени героя, но и от имени автора - нашего современника. Настоящее же время “стоят голубые” - это мечта наяву этого автора. Образ автора в этом настоящем времени выступает в качестве чрезвычайно страстной личности - граждански страстной, каким мы - случайно ли? - знаем Высоцкого. А страсть не рождается из чего-то средненького. Она или от любви, или от борьбы. И как Высоцкий лично был в оппозиции к властям предержащим, так, следовательно, страсть образа автора в песне “Он не вернулся из боя” рождена из борьбы с этими властями.
А психологическая достоверность описания крепчайшей дружбы, рожденной в бою,- у Высоцкого действительно есть. Это Рождественский прав. Не прав только он в определении причины этой достоверности. Она не в судьбе Высоцкого, “
первый вздох, первый крик, первый шаг” которого защитили (от фашистов, наверно, имеет в виду Рождественский) те, кто жил до него. Таким образом миллионы людей могли бы достоверно изображать войну, хоть “по своему возрасту не могли принимать в ней участия”. Причина достоверности изображения войны Высоцким в его таланте художника.В понятии “поэт” есть две составляющие: собственно поэт, то есть выразитель,- и художник, то есть изобразитель.
Рождественский не может обойти молчанием колоссальный художественный талант Высоцкого. А сказать, что он судьбой своей, своих предков и их окружения связан, положим, с блатнягами, ворюгами, пьянчугами и тому подобными низами общества, Рождественский не может (как это он сделал по поводу военных песен). И тогда Рождественский пишет: “
У Владимира Высоцкого есть песни, которые чем-то похожи на роли”.Вред такого высказывания я вижу в том, что случилось, что Высоцкий был актером по официальной профессии и не был членом союза советских писателей, хотя был главным поэтом современности.
Похвала в колоссальной художественности поэту Высоцкому у Рождественского не прошла бы, наверно, цензуру.
Но умолчание о его огромном изобразительном таланте снижает оценку Высоцкого как поэта.
Это уже второе умолчание.
Умолчание об идейном содержании - это умолчание о выразительной мощи Высоцкого, то есть умолчание о нем как о поэте в тесном смысле слова. Второе - это умолчание о нем как об изобразителе, художнике. Итого, тотальное, получается, умолчание. Подстать официальному замалчиванию Высоцкого как в широком смысле поэта при его жизни.
Подстать - я подчеркиваю - официальному. Грешно, в какой-то мере, кусать из-за угла Рождественского за... замалчивание, когда он выпустил(!) книгу Высоцкого. Но, с другой стороны, песни Высоцкого и так все слышали и знают, а вот разборов и оценок - адекватных - как не было, так нет, хоть и выступил Рождественский официально. Так что его слово “От составителя” подстать - я еще раз подчеркиваю - подстать прошлому официальному замалчиванию.
Если кто скажет, что похвалы Рождественского Высоцкому как актеру, творцу ролей, есть иносказательные ему похвалы как литератору - то я не соглашусь.
Потому что Высоцкий действительно был талантливейшим исполнителем ролей. (Свидетельство тому неумение других конкурировать с ним в исполнении его песен.) Так что похвалы актеру всеми воспринимаются как похвалы актеру по преимуществу. Это во-первых.
А во-вторых, если бы Рождественский иносказательно хвалил Высоцкого как литератора, он бы сам не заблуждался относительно его способности воображать, представлять, словом - изображать.
“
Владимир Высоцкий,- пишет Рождественский,- ребенком никогда не прикидывался. Он просто был им”.Значит, блатнягой, зэком, тупоумным спортсменом, антисемитом - Высоцкий в песнях таки прикидывался, а ребенком - нет. В блатных песнях “
иные [только] слушатели... путали его с теми персонажами, которых он изображал”, а Рождественский не путал. В сказочных же песнях уже и Рождественский путает. В сказочных песнях уже и Рождественский позволяет себе заявить, что Высоцкий был в них ребенком, открывал “скрытую до времени восторженную и добрую ребячью душу”.Интересно, если бы Высоцкий “
по своему возрасту... мог принимать участие в войне”, так не считал ли бы Рождественский причиной психологической достоверности в военных песнях именно факт участия? - Думается, считал бы. Ошибался бы точно так же, как в случае с ребячьей душой.В случае с военными песнями он и так сделал все возможное, чтобы снизить воображательский талант расхваливаемого им сочинителя, сводя его писательское ясновидение к - как бы это выразиться покороче - к голосу предков, что ли...
Все, что было не со мной,- помню...
Я где-то читал, что уже пожилой Гете удивлялся самому себе - молодому, - написавшему “Вертера”, как, мол, я, еще молодой человек, мог предвидеть, предугадать и представить мои будущие переживания в жизни.
А еще я о Льве Толстом читал удивления по поводу того, что он так пронзительно описал женские переживания, как будто сам был женщиной (речь шла о некоторых сценах из “Анны Карениной”, например, о приготовлении варенья на дворе в деревне...)
А молодой Шолохов - эпопею “Тихий Дон” написал... Молодой ведь!
Талант художника надо иметь - и проникнешь в ребячью душу так, что взрослые умные люди подумают, что в тебе таки скрывается - во взрослом - “
восторженная и добрая детская душа”.И если Высоцкий действительно был с детьми на равных, так не потому, что опускался до них, а потому, что к ним относился, как ко взрослым:
“Дослушай до конца, и если ты будешь внимательным, а потом еще чуточку подумаешь - обязательно поймешь”.
Так предваряется у Высоцкого “Алиса в стране чудес”, о которой упоминает Рождественский. А цитируемая им песня о гонках летучих кошек за летучими мышами и летучих собак - за летучими кошками,- обрамляется у Высоцкого разговором Алисы и Додо об очень странном месте:
Додо: Это очень странное место.
Алиса: А почему это место - очень странное место?
Додо: А потому что все остальные места очень уж нестранные. Должно же быть хоть одно очень странное место.
И Высоцкий, конечно же, рассчитывает, что дети поймут, что хищнические гонки друг за другом - это очень уж нестранные места. Это в тех, в обычных местах нечего задаваться вопросом, догонит ли хищник свою жертву, ибо ясно - догонит. И наоборот: в очень странном месте (тем более странном, что оно - редкость для общества, где человек человеку друг) - в очень странном месте есть смысл спросить: догонит ли преследователь преследуемого. Ибо в идеальном для нас месте - может и не догнать сильный слабого.
Итак, Высоцкий рассчитывает на детей, а вот (кто!) - Рождественский - не оправдывает того, что посильно (по Высоцкому) детям.
Впрочем, повторяю, я сознаю, что разъясни Рождественский эту детскую песенку до такой ясности, какую дает, например, фильм “Гараж”, то и на издание книги “Нерв” были бы такие же гонения, как и на демонстрацию фильма “Гараж”. И, чего доброго, “Нерв” (не в пример “Гаражу”) не пробился бы.
Но, я трижды повторяюсь, я не верю, что сам Рождественский понял эту песню Алисы, да и все сказочные песни, как не понял “Он не вернулся из боя”, да и все военные песни.
Не понял, и никакого подтекста у него в предисловии к “Нерву” нет, а есть просто текст. Он честно написал то, что думает. Прямо написал.
*
По-бытовому, по-человечески понять Рождественского можно: это трудно - понять подтекст. Почувствовать, да еще что-то неясное почувствовать - одно дело, а понять - другое.
Я не притворяюсь, ибо сам “родом” из непонимающих - произведения искусства - вообще и песни Высоцкого - в частности. И именно вследствие этакого “родства” я и пишу один за другим свои опусы для непонимающих.
Поясню примером.
Широко известный носовский Витя Малеев был двоечником (в первую очередь - по математике). А у него была младшая сестра, перед которой он выставлял себя во всем ее превосходящим. Мальчик он был, вообще-то, неглупый, но всю математику третьего класса очень запустил, и в четвертом ему пришлось туго. Вот однажды третьеклассница-сестра попросила его помочь ей решить задачу. Он улучшил время, когда она ушла, и попробовал и вправду ей помочь - решить. Мальчик и девочка там, в задаче, собрали вместе 120 орехов, причем мальчик вдвое больше собрал, чем девочка, и спрашивалось, сколько кто собрал.
Задача не получалась, и Вите Малееву грозило падение престижа в глазах сестры. От упорства он принялся рисовать мальчика, рисовать девочку и всерьез задумался, с какой это стати мальчик набрал в два раза больше орехов. “Наверно,- подумал Витя,- у него карманов больше”. И пририсовал мальчику 2 кармана в брюках. А девочке на передник - один карман. Тут его осенило, что всего у двоих - 3 кармана, и на 3 нужно делить 120, чтоб получить, сколько в одном - у девочки.
Когда пришла сестра и Витя вот так, с карманами, объяснил ей задачу, то удостоился похвалы за доходчивость объяснения.
Я считаю, что не будь Витя двоечник, ему бы было труднее объяснить ход решения. А двоечник очень хорошо представляет себе трудности непонимания: он их на своей шкуре, что называется, испытал.
Так и я. Среднюю школу кончил с ненавистью к литературе. С тем бо`льшим успехом, мне кажется, я теперь могу непонимающему объяснить, как мне удалось понять (если удалось).
Высоцкого я когда-то ненавидел. За то, что изображает из себя сверхчеловека.
Прошло время. Глаза мои открылись, и я увидел, что он не изображает, а является, ну, если не сверхчеловеком, то первым среди поэтов и намного превзошедшим в этом первенстве - хотя бы чем? - гражданской смелостью.
Так что мне, по “закону Малеева”, теперь и карты в руки: просвещать непонимающих Высоцкого.
И сочувствуя непонимающему Рождественскому, я сейчас наглядно покажу, как я был в его шкуре непонимающего конкретную песню и как из этой шкуры выбрался.
Выбирался я - по времени - несколько недель. Нет. Я не беспрерывно думал, нахмурив брови. А так, исподволь, иногда и, наверно, подсознательно. Выбирался - специально для вот этого опуса.
Речь пойдет о песне “Она была в Париже”. Я ее когда-то давно слышал, с пластинки. Она меня возмутила, и я обратился к хозяину пластинки с недоумением: как мог Высоцкий, такой мужественный, великодушный человек, так опуститься, чтоб выставить Марину Влади, свою жену, выставить как объект в принципе удовлетворяемых вожделений ее бывших и будущих любовников.
На это хозяин пластинки отвечал, что песня, видимо, написана в момент неудачных ухаживаний Высоцкого за Мариной Влади. Я отвечал: “Пусть. Но пластинку-то он записал уже после женитьбы!..” И я получил такие утешения, мол, артисты ни с чем не считаются - богема. И я не мог удовлетвориться и простить Высоцкому вопиющей, унижающей его бестактности.
Теперь, пожалев Рождественского, я вспомнил об этой песне и подумал: “Если Рождественский в военных песнях Высоцкого слышит голос личной судьбы Высоцкого. Потому личной, что он - сын поколения тех, кто был на войне, то чем я отличаюсь от Рождественского, слыша голос личной судьбы Высоцкого в песне “Она была в Париже”? Личная судьба потому личная, что речь в песне идет о женщине, за которой он лично ухаживал, какое-то время безуспешно”.
Разницы между нами не получалось никакой, между мной (кем!) и Рождественским, а я хотел разницы в свою пользу. Хотел потому, что подозревал, что я плохо понял ту песню, что ждал: не может быть, чтоб Высоцкий, при своем масштабе, так смельчил, как мне (и еще одному) показалось. ПОКАЗАЛОСЬ ли?
Первое же внимательное (раньше слушал просто так) прослушивание обнаружило, что о Марине Влади тут не может быть и речи.
Здесь я перехожу на разговор грубого толка, потому что грубейшим делом было подумать, что упоминание о Париже в песне и проживание Марины Влади в Париже - имеют между собой жесткую связь. Да, это грубая ассоциация и опровержение ее по необходимости тоже является грубым. Но тем более необходимым, что я с хозяином пластинки не были исключениями.
Я опросил пять человек, слышавших когда-то эту песню, и все пять сказали, что она о Марине Влади.
Что делать? Грубоваты мы?
Эка невидаль: она была в Париже - если она там живет... Эка невидаль, что артист Марсель Марсо ей что-то говорил, когда она сама известная артистка...
Но мы не так уж грубы. Просто человеку - каждому - свойственно не вслушиваться в слова песни, а услышать одно-другое и по этим одному-другому да по мелодии и еще, главное, по интонации - человеку свойственно составлять себе представление о песне. Этот закон восприятия песен (и стихов, впрочем) констатирован достаточно уважаемым, всемирно известным психологом Выготским, и можно ему верить, особенно, если честно вспомнить свое собственное представление о какой-нибудь (не выученной наизусть) песне.
Но дело не в том, о Марине ли Влади песня или нет. Если нет - просто реабилитируется порядочность Высоцкого-человека. Становится ясно, что его “я” в песне - это еще не авторское “я” Владимира Семеновича, а лирическое “я” персонажа данной песни.
Итак, я заявляю, дело не в Марине Влади, а в том образом
чего является женский персонаж песни.Голос мужского персонажа в этой (именно в этой) песне обладает
таким достоинством, он так проникновенно выговаривает: “Ну что ей до меня!” - что кажется, перед таким мужчиной никакая женщина не устоит.И тут я вспомнил высказывание какого-то крупного мыслителя (забыл, кого) в том духе, что люди, разделенные на классы и сословия, отличаются друг от друга (класс от класса, сословие от сословия) настолько резко, что если бы на Землю прилетели инопланетяне, то они отнесли бы особей из разных сословий к разным видам биологическим.
А разные биологические виды не спариваются...
Он (“бросил свой завод”) - рабочий или ИТР-овец. Она же - женщина, для которой престижные заграничные командировки стали чем-то чуть ли не будничным. Где же ей снизойти до него!..
Вспомнился рассказ женщины - знакомой,- сдававшей жилплощадь студентке. Девушка была выходцем из семьи торговых работников, а за ней стал ухаживать милиционер. Так родители приняли все меры внушения, чтоб девушка поняла: он - не из их круга...
“Разные биологические виды не спариваются”,- считает женщина из песни Высоцкого “Она была в Париже”. У “нее”, как у более “ценного” вида, чем у “него”, - более развито чувство отбора.
О “нем” же хорошего можно сказать только то, что он - существо с сильным типом нервной системы: если что-то ему никак не по силам - он снижает уровень притязаний и тем спасается от душевного или нервного заболевания.
Кто раньше с нею был
И тот, кто будет после,-
(существа, видно, того же вида, что и вояжерка по столицам-заграницам)
Пусть пробуют они
-Я лучше пережду.
Да. Это - уже эстетизация порока. А мы уже знаем (если знаем), что эстетизация порока происходит от безнадежного разлада с общественностью. В данном случае - с той общественностью, которая потребительство считает высшей мудростью жизни, в частности - потребительское отношение к так называемым престижным заграничным командировкам.
Так что теперь я могу сказать, что в образе “ее” Высоцкий дал образ потребительства, а в кураже мужского персонажа песни он выразил протест против действительности, вызвавшей к жизни потребительство.
Правы все, кто чувствует какую-то богемность в песне. И они были бы еще более правыми, ели бы стали доискиваться причин, общественных, а не личных причин, рождения этой богемности. Но для этого надо быть внутренне свободным и смелым, не бояться наткнуться на что-то общественно-отрицательное.
А
такого - люди, типа Рождественского, себе позволить не могут, сознают это они или нет.Я больше скажу: нужно быть постоянно (как радиоприемник - на определенную волну) настроенным на общественную беду и чтобы адекватно понимать драматического толка песни, и чтобы создавать такие произведения.
А не настроенные постоянно на общественную беду - и в творчестве своем до драмы не дотянут, во всяком случае, - до полноценной драмы.
Вернуться, положим, к затронутой Рождественским теме преемственности поколений. Вот хорошая песня об этом. Меня даже мороз по спине пробирает, когда оркестр звукоподражает “то ли грозе, то ли эху прошедшей войны
”.Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю,-
Что-то с памятью моей стало:
Все, что было не со мной, помню.
Бьют дождинки по щекам впалым.
Для вселенной двадцать лет - мало.
Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим: “Я вернусь, мама...”
Припев: А степная трава пахнет горечью,
Молодые ветра зелены
.Просыпаемся мы - и грохочет над полночью
То ли гроза, то ли
эхо прошедшей войны.Обещает быть весна долгой,
Ждет отборного зерна пашня...
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.
Я от тяжести такой горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Все зовет меня его голос,
Все звучит во мне его песня.
Припев.
Итак, преемственность. Совсем как в слове от составителя у Рождественского: “И существуешь ты на земле, продолжая не только собственных родителей, но и многих других людей. Тех, которые жили до тебя. Тех, которые когда-то защитили...”. Защитили, конечно же, и персонажа, и автора современной песни “За того парня”, и Высоцкого.
Трудно Высоцкому-автору (в песне “Он не вернулся из боя”), трудно, оттого что желанной преемственности нет.
Трудно и “этому парню”:
Я от тяжести такой горблюсь... -
потому что он осуществляет преемственность, живет силой в две жизни: рано встает, наверно, от забот... большую ответственность на себя принимает... в работе, видимо. Итого - тяжело работает и еще подгоняет себя, чего доброго, мол, давай-давай, мало сделал. Но страсть ли это? - Он как бы волоком себя через силу тащит, а не взрывается изнутри.
Вот так, подгоняемый совестью работаю лично я, когда мне нужно сделать большой кусок нудной, неприятной, нетворческой работы. Противно. Можно было бы и передохнуть, перекурить, перекинуться словом. Но ведь тем больше останется впереди рутины.
Нет. Это не страсть.
Страсть рождается - я повторяю - от борьбы. От борьбы “против” и от борьбы “за”. Когда Павка Корчагин горбился от тяжести, строя железную дорогу,- это была борьба, совершенно ясная и против кого, и за что. И это была страсть. Но тогда был объявлен НЭП.
Сейчас же ничего не объявлено. И у “этого парня” песня что-то уж больно раздумчивая, плавная, успокоенная. Экспрессии мало.
А наше время это время экспрессионистской тенденции в широком смысле слова. Не я изобрел это словосочетание и не в первый раз мне его применять; потому и не хочется рассусоливать о нем. Важно лишь упомянуть, что начавшись 100 лет назад, это время еще не кончилось, и конца его не видно, поскольку даже в нашем неантагонистическом социалистическом обществе миллионами гибнут люди без войн от руки своих же соотечественников, не говоря уже о других страданиях, причиняемых нами друг другу. И это тем более страшно, чем ближе, якобы, наша цель - коммунизм. Так что экспрессионистская тенденция актуальна.
И “этот парень” тоже ее некоторым образом не минует, вставая до зари и слыша эхо войны в раскатах грома.
И в меру своего приближения к этой экспрессионистской тенденции песня хороша, в меру же недотягивания до нее песня не достигает высшего качества, а ее автор - звания выразителя эпохи.
Как он ни хорош, а Высоцкий лучше.
Да иначе и быть не могло, потому что “этот парень” - выдумка, явное (а не сон наяву) отражение неба в лесу, как в воде. А реальное отражение (прошлой идейности - в нас) ярким, как в воде, не существует теперь. Разве что - в порядке исключения. Но песня про “того парня” - не об исключении. Слишком она утвердительная, утверждающая, как хозяин на земле. Нет, она - не об исключении, а о вранье, мол, “этот парень” - яркое отражение и симптом времени. Отсюда и раздумчивость, а не отчаяние, как у Высоцкого.
А если еще шире взглянуть - трагедия по-прежнему остается высшим видом искусства и дотягивать до нее (или до трагичности) в нашем неантагонистическом обществе может только очень смелый и честный человек, а не просто талантливый. Автор “того парня” не дотянул.
Когда я доставал слова этой песни (помнил я не все, а что помнил - не совсем правильно помнил) - оказалось, что ее автор - Роберт Рождественский. И я возликовал: все сходится. Мне пришла в голову эта песня как антитеза “не вернувшемуся из боя”...
Рождественский не может создать то, что посильно только первому поэту России.
Ну, и не Рождественскому оценить адекватно первого поэта.
Каунас. Декабрь 1982 года.
Нюанс
В “Кинопанораме” рассказывали о фильмах, документальном и художественном, о Белобородове - военачальнике, которому привелось первым начать наступление под Москвой. Дали отрывок из какого-то из этих фильмов. В кадре - ветераны на поле боя, цветущем теперь, но и через десятки лет оно густо усеяно гильзами и осколками. За кадром - песня Высоцкого “Кто сказал, что земля умерла...”, исполняемая Высоцким. И вот - нашлись люди, не узнавшие голос Высоцкого! Голос, вообще говоря, настолько характерный, что его, кажется, можно узнать из тысячи подобных.
Почему это могло произойти?
А потому что песня (я уж доказывал когда-то) - не характерна для Высоцкого.
Общая причина того, что Высоцкий часто обращался к военной тематике, заключается в том, что Отечественная война - это один из периодов массового улучшения людей.
Не знаю, есть ли в официальной истории нравственности такое понятие и такие членения, но у литературного критика В. Д. Днепрова, работающего на стыке литературоведения и этики с психологией, я это понятие и членение встретил и думаю, что оно чрезвычайно плодотворно. Я, во всяком случае, его уже не раз применял. Вот и сейчас - тоже.
Так вот, Высоцкий обращался к военному периоду массового улучшения как к инструменту, которым удобно (по контрасту) высвечивать нынешнее массовое ухудшение народа, с чем не мог примириться Высоцкий и с чем вел яростную, хоть и недоосознаваемую многими, борьбу.
Создатели фильма о Белобородове, похоже, тривиально недоосознали значение военной тематики у Высоцкого (мало, что они - люди искусства; ведущий “Кинопанорамы” - в данном случае Орлов,- допустивший киношников выступать в “Кинопанораме” столь неудачно, вероятно тоже недоосознавал значение войны для Высоцкого). И вот звучит за кадром задумчивая, в чем-то умиротворяющая песня. Материал песни - неистребимость жизненной силы земли - включен в работу напрямую, без противоречия, этого необходимого (по Выготскому) психологического условия художественности.
Да что там - винить киношников, Орлова. Сам Высоцкий слегка утерял себя в этой песне. Подумать только: Высоцкий - и умиротворение!..
И вот пропали характерные хрипы его голоса, характерный экспрессионизм, характерная напряженность.
Не мудрено, если кто-то и не узна`ет его голос и заявит, что это поет не он.
Каунас. 1 марта 1985 г.
Письмо в ленинградское
телевидение
Уважаемые товарищи!
Много дней лежало это письмо в черновике, и я колебался: слать его Вам или нет. Грубое оно... И глупое, наверно.
Но вот наткнулся на фразу у Достоевского: “...
чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна”. - И решил - слать. Легче будет, в конце концов, чем эти колебания. А там, глядишь, еще и снизойдете...Я два раза слушал Ваш “Музыкальный ринг” и мне очень захотелось Вам написать. (А слушал я группу бардов и “Аквариум”.)
В недавней “Литературной газете” режиссер А. Митта выразился так: “
Я не верю в оригинальные художественные достоинства, которые могут сразу быть восприняты миллионами. Это было бы цинизмом по отношению к искусству”.Сказано - о кинофильмах, не о песнях, сказано о произведениях всеми воспринимаемых впервые, а не как у Вас - иные аплодисментами перебивают первые слова певцов, слыша знакомое и любимое,- наконец, сказано о миллионах, а к Вам на “Ринг”, похоже, попадают почти что знатоки. И тем не менее я вижу по Вашей передаче, что слова режиссера могут быть восприняты как полемически заостренными и против Вас, участников и организаторов “Музыкального ринга”.
Когда организаторы ограничиваются констатацией, что песни, положим, Гребенщикова сложны, заставляют задуматься, и когда при этом не делается даже попытка какую-нибудь тут же, принародно, объяснить, хотя бы намекнуть, что же она значит (в то время, что из публики прорываются прямо мольбы об объяснении) - тогда организаторов можно заподозрить, как Митта, в цинизме, т. е. в пренебрежении общественной нормой. А норма - скорее более, чем менее, распространенное непонимание любого искусства, в том числе и песни.
Чтоб Вы лучше меня поняли, я чуть-чуть расскажу о себе.
Я раз проделал такой эксперимент с сослуживцами: мы пошли в обеденный перерыв в комнату филофонистов (была у нас такая), я поставил пластинку Бизе-Щедрина “Кармен-сюиту” и раздал заранее размноженный отрывок письма (я его Вам посылаю
* и предлагаю тоже послушать эту-----------------------------------------------------------------------------------------
*- Это помещено в “Пятой книге” серии “Книги прошлого”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
пластинку, читая письмо по пунктам от 1-го до 10-го - увидите, что с Вами будет). Так вот, кое-кто из сослуживцев (женщины) не мог после этого идти на обед (не потому, естественно, что время обеда кончилось - у нас на территории предприятия столовая работает в течение двух часов, а кафе - вообще все время).
В других случаях с этим же текстом и этой же пластинкой
я наблюдал подобные эффекты: люди, не так уж и разбирающиеся в музыке, бледнели, краснели, плакали, бросались обнимать меня, впадали в глубокую задумчивость и молчаливость.
У меня несколько подобных текстов есть. В том числе и о симфониях. И я не один такой на свете. Почитайте, например, Португалова - “Серьезная музыка в школе”
.И вот, подумайте, как мне и таким, как я, относиться к сарказму почти распоряжавшегося вокруг “Аквариума” композитора, рассказавшего, как после прослушивания его симфонии один ответственный товарищ спросил: “Скажите, а о чем она?” Понимай - бестактный вопрос, мол. А вы, организаторы, не осадили этого композитора.
Так что, по-Вашему, - норма? Разве во времена гласности и правды не пора признать, что 9/10, если не больше, произведений искусства остаются непостигнутыми подавляющим большинством народа.
У Белинского есть такие слова: “
Поэту представляются образы, а не идея, которой он из-за образов не видит и которая, когда сочинение готово, доступнее мыслителю, нежели самому творцу”.Если признать, что Белинский прав (а я не думаю, что Вы отвергнете такой авторитет), то Вы должны согласиться, что методически неправильно организовывать “Ринг”, заставляя певцов отвечать на вопросы типа “что означает эта песня”. Между исполнителем и аудиторией нужно поставить литературоведа, музыковеда, да не какого-нибудь, а такого, кому удалось ПОСТИГНУТЬ сокровенный смысл исполняемых на концерте песен. Удалось - я настаиваю на этом слове. Потому что литературоведческое, положим, образование и соответствующая ему повседневная работа - еще не гарантия, что имярек к моменту передачи уже постиг или экспромтом постигнет предлагаемые нам песни. Ведущий должен продемонстрировать редакции свой анализ, и это будет гарантией, что он будет в силах справиться с аудиторией. А иначе нечего передачу даже выпускать.
Расчет на то, что чтобы понять музыку, песни, их надо слушать и слушать - слабый расчет.
То есть я заявляю, что уровень Ваших передач низок.
А между тем, мне кажется, что песни “Аквариума” были по плечу достаточно большому количеству смелых профессиональных музыковедов или, там, литературных критиков. Можно было б объяснить и непонимающим из зала, и телезрителям и смысл как бы ускользающего текста, и смысл ломающегося голоса, и смысл неровного ритма и мелодии, и даже смысл одежды исполнителей - “видна суббота из-под пятницы”.
Разве это объяснение - слова Гребенщикова,- что сложилась особая рок-культура, в стиле которой и нужно одеваться рок-исполнителю.
Вот позвали бы Вы на “Ринг” Ю. Давыдова (я ниже объясню, кто это), он бы ответил немолодой женщине, пенявшей за “субботу из-под пятницы”, что такая одежда для “рок”-поколения Запада означает “
вызов полуинтеллигентской среды капиталистическому обществу”.Я подробнее процитирую Ю. Давыдова: <<
...научно-техническая революция... сопровождалась в капиталистических странах резким падением социального статуса и... престижа достаточно широких групп интеллигенции [Давыдов был бы последовательнее, если бы продолжал придерживаться термина “полуинтеллигенция”, выведенного им полустраницей выше цитируемого места]. Одновременно с резким количественным увеличением интеллигенции [лучше бы - полуинтеллигенции] произошло не только драматически переживаемое низведение “белых воротничков” до уровня рабочего класса (“синие воротнички”), но и то, что можно в точном марксистском смысле назвать “люмпенизацией” [по Ожегову люмпен это деклассированный элемент, порвавший связь с производством, здесь, у Давыдова, видимо, надо думать, что речь о безработице, очень связанной с рационализацией производства из-за НТР]>>. И относительно люмпенов Давыдов делает сноску: <<Мы недостаточно пользуемся этим понятием, которое Маркс и Энгельс широко использовали, например, при критическом анализе анархизма...>>Я цитировал из книги “Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественное произведение и личность”. Изд. “Наука”. М. 1975, статью Ю. Давыдова.
Чувствуете: анархизм, нигилизм, бунт, контркультура, враждебная сытому преуспевающему обществу...
И если бунтующие студенты, новые левые, считали эту контркультуру “
базой идеологической партизанской войны против капитализма”, то почему бы не отнести появление “Аквариума” к бунту против тех негативных явлений в нашем обществе, о которых теперь везде и всюду говорят.И замалчиваемое положение Плеханова о периодах безнадежного разлада художников с действительностью тоже можно было б привлечь для объяснения песен “Аквариума”.
Я опять процитирую:
<<
Когда буржуазия заняла господствующее положение в обществе и когда ее жизнь уже не согревалась более огнем освободительной борьбы, тогда новому искусству осталось одно: идеализация отрицания буржуазного образа жизни. Романтическое искусство и было такой идеализацией. Романтики старались выразить свое отрицательное отношение к буржуазной умеренности и аккуратности не только в своих художественных произведениях, но даже и в своей наружности. Мы уже слышали от Готье, что юноши... носили длинные волосы. Кто не слыхал о красном жилете того же Готье, приводившем в ужас “порядочных людей”?>> (Плеханов. Литература и эстетика. М. 1958, Т. 1, стр. 141). Не приложимо разве это к “субботе из-под пятницы”?Плеханов еще писал: <<
Готье и его единомышленники ничего не имели... против буржуазных общественных отношений и хотели только, чтобы буржуазный строй перестал порождать пошлые буржуазные нравы... они не ждут и не желают перемены в общественном строе в современной им Франции. Поэтому их разлад с окружавшим их обществом совершенно безнадежен>> (там же, стр. 143).И Гребенщиков с товарищами не желает смены социализма. И его разлад безнадежен. И он, как и Готье, как и новые левые и рок-поколение - заблудились в жизни. И им всем нужна “свобода от”, а не “свобода для”. Поэтому такая, если можно так выразиться, дезориентированность в ритмах “Аквариума”, придыхающе-издыхающие интонации. О, они вполне логичны “пять нелогичных нот”! Своеобразное “потерянное поколение”.
На нашем месте в небе должна быть звезда,
Ты чувствуешь сквозняк, оттого что это место свободно.
Упомянутый мною Португалов дает такой метод приобщения к непонятной музыке - личные ассоциации, обязательно конкретные и понятные. И я посмею попробовать применить этот метод сейчас же, давая тем живой пример, как, по-моему, должна обсуждаться песня.
Глаз
Дайте мне глаз, дайте мне холст,
Дайте мне стену, в которую можно вбить гвоздь -
Ко мне назавтра вы придете сами.
Дайте мне ток, дайте мне ход,
Дайте мне спеть эти пять нелогичных нот,
Тогда меня можно брать руками.
Как много комнат, полных людей,
Прозрачных комнат, полных людей,
Служебных комнат, полных людей.
Но пока нет твоей любви,
Мне всегда будет хотеться чего-то еще.
Дайте мне ночь, дайте мне час,
Дайте мне шанс сделать что-то из вас,
Иначе все, что вам будет слышно -
Это “что вам угодно?”.
Может быть, нет, может быть, да:
На нашем месте в небе должна быть звезда,
Ты чувствуешь сквозняк, оттого что это место свободно.
Как много комнат, полных людей
,Прозрачных комнат, полных людей,
Служебных комнат, полных людей.
Но пока нет твоей любви,
Мне всегда будет хотеться чего-то еще.
Как много комнат, полных людей,
Прозрачных комнат, полных людей,
Служебных комнат, полных людей.
Но пока нет моей любви,
Мне всегда будет хотеться чего-то еще.
Вот на почти двух только нотах долбят заунывный припев, и я сразу как-то обобщенно переживаю опять свою нелюбовь к своей работе, работе в основном рутинной, нетворческой (а ведь я - конструктор; но столько кругом черного дела по однотонной переработке информации, а перепоручить некому), я вспоминаю о во многом безответственной своей работе (из-за унификации конструкций, низводящей конструктора на уровень проектировщика типовой продукции; из-за вмешательства политиканствующего начальства, берущего ответственность на себя, где еще осталась свобода выбора). К тому же, в нашем НИИ так много комнат с большими окнами, прямо прозрачные стены. Смешно: когда-то такое ультрасовременное здание на какую-то долю повлияло на мой переход в это учреждение. Мне представлялось, как красиво будет, отвлекшись от дела, за такими большими окнами грустить о моей неудачной любви, приключившейся тогда со мною. И что? Удалось получить какую-то компенсацию от НТР? - Да нисколько.
Но пока нет твоей любви,
Мне всегда будет хотеться чего-то еще.
В общем, неудовлетворенность работой представилась мне от припева. Неудовлетворенность...
И сила приема Португалова, по-моему, в том, что люди в чем-то одинаковы. Мало ли таких, как я, работающих не по призванию. Их миллионы. А те, что по призванию, наверно, еще сильнее страдают в “эпоху организаций”.
Я извиняюсь за длинные и частые цитаты, но Вы уж потерпите. К тому ж - авторитетней будет. Сейчас я процитирую Н. Новикова. “Концепция “массового общества” в “эпоху организаций” и левый радикализм” из книги ““Массовая культура”. Иллюзии и действительность” М. 1975. Стр. 83 и 103-104.
<<
“Эпоха организаций”... втянула общество и индивида... в новые... условия существования: в сфере труда она означала превращение... индивида в винтик бюрократической машины, в политической жизни - неподвластность общественному мнению центров власти... в области культуры - индустриализированное удовлетворение... потребностей...Этот очевидный факт современной... жизни... в условиях “организованного порядка”... неизбежно порождает глубокое безверие в потенциальные возможности изменения данного общества вообще, социальные механизмы существующей системы в свою очередь сами формируют... настроения конформизма, “принадлежности”, “согласия” и т. д.
>>Или, словами Гребенщикова, “дай Бог вам покоя, пока вам не захочется сделать шаг
”.В цитате из Новикова я нарочно опустил все, что указывает, о каком обществе у него идет речь. Нарочно. Потому что в какой-то мере весь мир един. Есть общие и для Запада и для Востока черты человечества в ХХ столетии нашей эры. И одной из общностей является то, что названо “эпохой организаций” (по крайней мере, у нас лишь в результате нынешней перестройки пытаются изжить заорганизованность). И реакция рок-культурой, протестующей против заорганизованности,- это тоже общая черта последней трети ХХ века.
Новиков уточняет эту черту:
<<
...молодежь начиная с середины 60-х годов демонстрирует небывалую остроту и резкую форму протеста против “всего этого мира” при одновременном ощущении своего бессилия его изменить>>.И лирический герой Гребенщикова - казалось бы - протестует:
Дайте мне глаз, дайте мне холст,
Дайте мне стену, в которую можно вбить гвоздь -
Ко мне назавтра вы придете сами.
Я сам проездом в Москве два раза случайно попадал в подвальчик на Малой Грузинской, где огромная очередь томилась, чтобы попасть на выставку оппозиционных художников. А было же время, когда и не давали “стену, в которую можно вбить гвоздь”, да и теперь союз художников подвергается критике за особую, сравнительно с другими творческими союзами, инертность в перестройке.
В общем, бунт - моя личная ассоциация с первым куплетом песни, которую я взялся разобрать.
Но во втором куплете бунтарский порыв уже и сникает.
Дайте мне ток, дайте мне ход,
Дайте мне спеть эти пять нелогичных нот,
Тогда меня можно брать руками.
Сопротивляться не будет. Выкричался.
А в результате, это получается даже не крик протеста, а хныканье жалобы. (Разные люди - разные реакции. Амплуа “Аквариума” - хныканье, если я правильно понял.)
Новиков пишет как о крайней фазе “
тотального нигилизма” об “этике опущенных рук”:<<
Сомнения в целесообразности какой бы то ни было активной деятельности... охватывает... не в силу “соглашательства” или других подобных грехов, а, напротив, в силу специфических представлений о высшем уровне критического отношения к обществу, о высшей степени его “тотального отрицания”.>>И в то же время это - <<
фаталистическое мироощущение при одновременной готовности и способности бороться>>.Эти цитаты, по-моему, могут очень хорошо объяснить другой припев, другой песни, припев, которым особенно возмущался один из зала на “Ринге”.
Возьми меня к реке.
Положи меня в воду.
Учи меня искусству быть смирным.
Как бы, мол, чувствовал себя сам Гребенщиков, если бы его взяли к реке и положили в воду, уча искусству быть смирны?
- А вот так бы и чувствовал, как пишет Новиков об отчаявшейся молодежи.
Лирический герой, казалось бы, не смирный, раз его этому нужно учить. Но это только “казалось бы”. Он же поддается на учебу. Его же не топить надо, не в драке с ним. Его надо, смирного, положить, чтоб он еще смирнее стал. Он просится: возьми меня к реке.
И потом: блеющая музыка подтверждает. Барашек - не ахти какой бунтарь против своей бараньей судьбы.
Вообще, нужно для незнакомых (а я уверяю - их полно) специально акцентировать, что в художественном тексте есть информация не только чисто логическая, но и ассоциативная, когда значимы не тоны, а обертоны значений слов (например, лежащий в воде - молчит, нем, как рыба, в воде прохладно, бесчувственно; река - своеобразная ванна нирваны; уход из активной жизни и т. д.). И обертоны тем явственнее выступают, чем слабее грамматическая и логическая связь между словами.
Один товарищ на Вашем “Ринге” сказал, что Гребенщиков - мистификатор: ничего, вроде, не сказал, а начинаешь этому “ничего” сам приписывать значения разные. Этот товарищ, в сущности, похвалил Гребенщикова. Потому что тому, заблудившемуся,- скажем так,- в жизни, и невозможно, вроде бы, использовать ясность и определенность в своих общениях с эстрады с людьми.
Возьми меня к реке,
Положи меня в воду,
Учи меня искусству быть смирным,
Возьми меня к реке.
Танцевали на пляже,
Любили в песке,
Летели выше, чем птицы,
Держали камни в ладонях:
Яшму и оникс,
Хрусталь - чтобы лучше видеть...
Чай на полночных кухнях...
Нам было нужно так много!..
Возьми меня к реке,
Положи меня в воду,
Учи меня искусству быть смирным,
Возьми меня к реке.
Я выкрашу комнату светлым,
Я сделаю новые двери.
Если ночь будет темной,
Мы выйдем из дому чуть раньше,
Чтобы говорить негромко,
Чтобы мерять время по звездам.
Мы пойдем, касаясь деревьев.
Странно: я пел так долго.
Возьми меня к реке,
Положи меня в воду,
Учи искусству быть смирным,
Возьми меня к реке.
Впрочем, я не точен. (Но пусть эта неточность останется на бумаге. Ее преодоление тоже поучительно.) Связи поверх основных смысловых значений слов, связи за счет “вторых”, “третьих” и т. д. значений - навсегда присущи поэзии с момента их открытия (для русской поэзии это открыл Жуковский).
То же - с логической и грамматической неопределенностью. Давайте посмотрим на второй куплет. Гребенщиков еще так его поет, что кажется, что хрусталь - чтобы лучше видеть, а не в ладонях - чтобы лучше видеть... Так вот подобная неопределенность - это тоже художественное проявление мировоззрения заблудившегося, я извиняюсь, барана, вожака бараньего стада. Вожак не может же не изъясняться никак. Вот он и изъясняется неопределенно. В данном куплете - на тему о том, что у них были ТАКИЕ мечты и ТАКАЯ жизнь в юности, как драгоценные камни и т. д. (Я надеюсь, ни Вас не покоробит, ни сам Гребенщиков - покажи Вы ему - не обидится на “баранов”: вся страна, как теперь ясно всем, не в лучшей роли оказалась.)
Можно и еще уточнить насчет неопределенности.
Уже упоминавшийся мною Теофиль Готье тоже заблудился в жизни, но пришел в стихах к кое-чему прямо противоположному неопределенности - к объективности и беспристрастию - маскам, позволявшим, как пишут в энциклопедиях, противостоять открытой эмоциональности, ставшей уже достоянием мещанства. Красный-то костюм он одел, когда примкнул к романтикам, накануне революции 1830 года, когда романтическая возвышенная неопределенность и чувствительность имела-таки какую-то хоть иллюзорную перспективу и довольно значительное число сторонников (было много кого и, казалось, во имя чего - заражать своим искусством). Но революция (и не одна) потерпела крах, а романтики стали модными... среди тех, против кого они выступали - среди мещан. Вот Теофилю Готье и пришлось... Может, и Гребенщикову в какой-то мере тоже пришлось (но определенно утверждать это я не могу, ибо не знаю ситуацию),- пришлось отказаться от кое-чего из рок-музыки: от максимальных усилений звука, от диких телодвижений; даже лично он одет так, что его упоминавшаяся немолодая дама - приемлет.
Почитайте “Поэму женщины” Теофиля Готье (ее подзаголовок - “Паросский мрамор”).
Она однажды захотела
Тому, кто так мечтал о ней,
Прочесть, пропеть поэму тела,
Поэму прелести своей.
Сперва пленительной и властной,
Как бы инфантой с полотна,
Влача тяжелый бархат красный,
Предстала перед ним она -
Такой как у барьера ложи
В театре, где оркестра медь,
Завороженная, не может
О ней восторженно не петь.
Потом, как истая артистка,
Роняя бархат огневой,
Осталась в облаке батиста
И силуэт явила свой.
Скользя, струясь по плоти голой,
По бедрам от подъятых рук
Рубашка, словно белый голубь,
У белых ног упала вдруг.
Для Фидия и Клеомена
Была бы мрамором она -
Венера Акадиомена,
Восставшая с морского дна.
Стекали светлые, похожи
На капли моря, жемчуга,
Сквозь них по шелковистой коже
Семи цветов легла дуга.
Что радостней и совершенней
Богоподобной наготы,
Поющей строфами движений
Гимн безупречной красоты!
Как неге волн, в песке прибрежном,
Хранящих вечный лунный свет,
Так и ее движеньям нежным,
Медлительным предела нет.
Но быть Венерою наскучив,
Отдавши древним дань сполна,
В ином пластическом созвучье
Нагую плоть дарит она:
Лежит султаншею сераля
В кашмирских вытканных коврах,
На смех коралловый взирая -
Собой любуясь в зеркалах;
Грузинке тихой, праздной, пышной
Кальян нашептывает сны,
Бедро округлое недвижно
И ноги томно скрещены;
И одалиской Энгра, чресла
Дразняще выгнув, возлежит,
Назло застенчивости пресной
И тощей скромности во стыд.
Но прочь, ленивица! Вот истый
Шедевр, чья беспредельна власть,
Вот бриллианта свет искристый,
Вот суть очарованья - страсть!
Откинув голову, не слыша,
Не видя ничего, она
Вздымает груди, тяжко дышит
И падает в объятья сна,
Трепещут веки, словно крылья,
На темном серебре белка,
И видно, как зрачки поплыли
В бескрайность светлую - в века;
Она изнемогла в экстазе,
Порывом страсти сражена,-
И пусть в батисте или газе,
Как в саване, лежит она,
И пусть с могильными венками
Никто к ней не подходит - пусть
Фиалок пармских лепестками
У изголовья плачет грусть,
И пусть постель, ее гробница,
Сияет нежной белизной -
Пред ней склониться и молиться
Поэт прийдет порой ночной!
Прочли? Признайте: в страсти отдающейся женщины больше воспевается предварение срасти (раздевающаяся демонстрирующая свою наготу ленивица в разных позах) и итог страсти (изнеможение и сон, неподвижность, бесчувственность, которой и поклоняется поэт). У него даже и подзаголовок - “паросский мрамор”. Это нечто неподвижное и холодное. У Готье все сцены - это нечто предстающее почти исключительно глазам и больше ничему. Созерцателя же как человека - нет, в том числе и души его - почти что нет: в маске эстета-художника.
Готье
определенностью уводит из жизни в абстрактную красоту. Гребенщиков неопределенностью уводит, опять же, из активной жизни... Куда? Не тоже ли в довольно холодные края: где звезда Аделаиды при холодном северном ветре-друге, в воду реки...Но это - в других песнях. А в той, которую, собственно, я разбираю - а песне “Глаз”?..
Я ее понимаю, в общем, так. Представители контркультуры, оппозиционного искусства: некий художник, некий музыкант - не могут пробиться к широкой публике, ходят по служебным инстанциям в попытках легализоваться, а от них отмахиваются: “Что вам угодно?” - как от недостойных внимания. Идеологи контркультуры не отступают, идут на несанкционированные действия (“Дайте мне ночь”), урывками (“дайте мне час...”) пытаются собственными силами сформировать себе публику (“Дайте мне шанс что-то сделать из вас”), а может, и приобрести, вместе с публикой, вес в глазах своих притеснителей.
Казалось бы, вполне активная жизнь, а не уход от нее. Но... каким-то пораженчеством веет от песни. Из-за ритма. Начальная строка каждого куплета - энергична, четка:
/--/|/--/ - определенна. А дальше все рассыпается в перебоях. Только в финальных словах первого куплета: Ко мне назавтра вы придете самисохраняется ритм без перебоев. На остальное - как бы не хватает сил. Так не утверждаются в жизни. Да и от этого “сделать что-то из вас”, от ЧТО-ТО - иррадиирует что-то неопределенное. И вот - нет звезды над нашими деятелями.
И пусть не говорит Гребенщиков о какой-то своей уверенности в будущем (мелькнуло у него такое в одном ответе). Уверенный Гребенщиков - это уже другой человек. И определенности ради ему бы следовало в новом своем качестве переименовать “Аквариум” и не петь старый репертуар. Может, потому его и посещают сомнения, как он признался, способен ли он продолжать. (Времена-то, заметим, меняются, и ему грозит, что он, неизменившийся, устареет.)
Но пока он представляет себя прежнего (я не знаю, но думаю, что он не новейшие песни нам на телевидении спел), до тех пор нечего нам заблуждаться относительно его якобы боевитых строф:
Моей звезде не суждено
Устать или искать покоя,
Она не знает, что такое
Покой...
Не поверим. Ибо он тут же и добавит:
...но это все равно.
Если что и грозит “Аквариуму”, так это потеря оппозиционного, что ли, качества, превращение его в моду для мещан, как превратилась когда-то в их моду эмоциональность французских романтиков около тридцатых годов прошлого века.
Вот такие мысли выросли из зародыша личной ассоциации - недовольства.
Пусть я трижды не прав в своем толковании и данной песни и вообще репертуара “Аквариума”, но, по крайней мере, я дал пример конструктивного подхода, который способен удовлетворить непонимающих (а их - настаиваю - большинство).
А не совратим ли мы с Вами,- если Вы последуете моему совету и если я прав в своем разборе,- не совратим ли мы часть публики в упадничество?
Мне хочется ответить словами Луначарского о Достоевском: <<
Мы можем позволить себе сейчас... материал Достоевского ставить перед собой и критически преодолевать, хотя бы отдельный человек вместо того, чтобы преодолеть его потонул>>.Очень хорошие слова. Вполне созвучны нынешней перестройке.
Надо не бояться правды и не бояться открывать себя, и тогда можно объяснить песни “Аквариума”. Но объяснять должны не сами исполнители.
Я здесь не даю совет, как оценивать художественные достоинства. Если положить руку на сердце, то нас, миллионы “непонимающих”, интересуют не художественные достоинства, а художественный смысл, т. е. выражение идейной сути произведения в его элементах.
Такой подход может даже вывести и к оценке художественных достоинств. Если я правильно понял труды крупнейшего литературоведа, методиста и педагога Г. А. Гуковского, то чем меньше в произведении инородных элементов, не работающих на его, может, подсознательно выраженную ИДЕЮ, тем произведение более цельно, а значит - художественно.
Давайте же заниматься публичным разбором элементов произведения под руководством вдохновенных специалистов разбора - вот это и будет настоящий ринг “исполнители - мы”.
А уж сталкивания типа “барды - рок-музыканты” это уже не неорганизованный ринг, а свалка.
Разновидностей неприятия действительности много. Этим и определяется вражда рок-музыкантов и их поклонников к бардам, а также трения внутри движения “клубов самодеятельной песни”. Нужно все это разбирать и разбирать. И не вырезать самые острые места, как это Вы сделали, например, при ответе Андреева на вопрос, какова перспектива самодеятельной песни в условиях гласности и перестройки, в условиях,- я бы уточнил,- казалось бы, лишающих бардов их традиционных тем назревающего смутного общественного неблагополучия.
Я бы мог и об этом Вашем “Ринге” написать, но всему - мера.
Извините за, может быть, резкий тон.
Все-таки мне кажется, что мое письмо должно быть Вам полезным.
Каунас. Февраль 1987 г.
Содержание
первой интернет-части книги
Предисловие
Не понял - не хули, а понял
– сомневайсяЗа советскую власть нужно бороться... ежедневно
Предисловие к переписанным от руки выступлениям на смерть Высоцкого
Почему нежным голосом поет Окуджава
Содержание
второй интернет-части книги
Солянка сборная
Критика на критику
Нюанс
Письмо в ленинградское телевидение
Содержание
третьей интернет-части книги
Против ветра
Подробный перечень разбираемых произведений указан в ПРЕДИСЛОВИИ к книге
Конец второй интернет-части книги “За КСП и против ВИА”
| К первой интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |