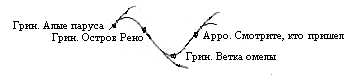
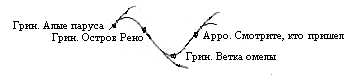
С. Воложин
Грин, К. Васильев, Нагибин, Арро и др.
Художественный смысл.
| С ухмылкой отношусь к заявлениям “высоколобых”, мол, пафос преодоления собственной некомпетентности - вовсе не увлекает читателя. Еще как увлекает! |
Вторая интернет-часть книги “Вроде дневника”
Я прервал свои записки, уезжая в отпуск.
Не взял этого блокнота. Думал: раз я собрался целиком посвятить себя обслуживанию своих детей, их развлеканию, то никакая духовная жизнь не возможна.
А приехав на место, я столкнулся с фактом противоположным: некто отпуск свой решил потратить на воспитание детей в трудовом лагере, считая эту деятельность духовной.
И я почувствовал себя пигмеем со своим этим блокнотиком, по которому я уже в дороге начал скучать, ибо появились мысли...
Но потом я успокоился. (Всегда у меня кончается успокоением.) И даже сформулировал себе оправдание (опять же, как всегда; что, в общем-то, совершенно общечеловеческое свойство): я есть я, и мое действие есть мои слова, вроде этих, здесь записываемых. Каждому - свое. Я лучше всего самоопределяюсь в письменном слове. Слово - это тоже дело.
И расставаться мне с этим блокнотом не следует, если я его завел в жанре дневника.
Так что же сюда следует записать, хотя бы задним числом?..
ОБС. Одинокая сорокалетняя женщина долгие годы не могла устроить свою личную жизнь. Не могла даже найти человека по душе, от которого приятно было б хоть ребенка заиметь, если уже с замужеством приличным не получается. Но вот, наконец, нашелся подходящий, по сердцу, понравился, и она ему понравилась. И жениться хочет. Чего больше? - начинаются сомнения. Однако, не естественные колебания перед решительным шагом, а нечто особое.
Женщина - еврейка. Ее сестра - в Канаде и пишет оттуда в общем соблазнительные (в вещистском смысле) письма. Кандидат же в женихи - русский. Захочет ли он уехать в Канаду? Что если нет? И что если, порвав с ним и уехав в Канаду, она останется одинокой там? Или, может, приемлемого делателя ребенка можно будет найти и в Канаде? А вдруг нет?..
Казалось бы, есть оптимальный вариант: прижить ребенка с милым русским без регистрации брака, а товарищу - дать от ворот поворот. Не выходить замуж.
Ан нет. Это лежит на поверхности, слишком просто. Нельзя ли заарканить русского так, чтоб он с ней на край света пошел? Сейчас он и мысли не допускает о Канаде. А что если не зарегистрировав брака жить все же с ним вместе, чтоб привык к ребенку?..
Задумано - сделано. Но товарищ тоже не лыком шит. Он вдовец. Одного ребенка уже “потерял”, “терять” другого опасается. Может, лучше и не привыкать, и не видеть его. Порвать и - баста. Тем более, что гарантий со стороны женщины - никаких, ему же - надо терять квартиру в другом городе, то, что в квартире - ведь если все лопнет, то жизнь ему начинать прийдется наново в третий раз!
Сомневается и медлит с переездом.
А “жена” уже в роддоме лежит (для сохранения плода). И ей хоть немного совестно, что вероятнее всего - она подведет приятного ей человека. Но, с другой стороны, лежать в больнице одной скучно. Никто передачу не принесет... И вот она его зовет...
Он вполне превратился для нее пусть не в пешку, пусть в фигуру, но - в жизненной игре, игре, которую она ведет на выигрыш: стать в Канаде владетельницей дома, кушать круглый год бананы, клубнику свежую, когда вокруг (в Канаде) - безработица свирепствует. Главное, чтоб она и ее бэби были не такие, как некоторые. А если для этого нужно жертвануть фигуру - значит, нужно.
Антидемократичность - в крови. Реализовывать этот зов нужно, не считаясь ни с кем, ни с чем.
Она достойный потомок своих родителей. Те - подвергают ее риску остаться без мужа, лишь бы с ее помощью (сами немощны) уехать в Канаду, вдохнуть перед смертью воздух земли обетованной, где им можно будет считать себя выше неудачников, и они говорят ей: “Брось его”.
Да, эта публика отличается от Чингисхана, который свое возвышение начал с убийства своего брата. Они хищники помельче. Соответственно, и масштаб преступлений у них иной - моральный. Изуродовать жизнь близкому человеку - можно, лишь бы возвыситься над себе подобными. Иметь дом с бассейном. Кушать свежую клубнику круглый год,
что советским людям на 99 (с десятыми) процентов не доступно, да и безработным канадцам - тоже.“Готов на все! Пусть неудачник плачет!”- вот девиз эксплуататора состоявшегося и пока еще не состоявшегося; пытающегося им стать или не пытающегося,- за невозможностью,- и потому лишь тайно мечтающего о попрании других своею ногой.
Один каунасский ловелас, у которого не было недостатка в местных шлюхах, сказал мне, что он мечтает перейти южную границу и оказаться на Западе, ибо там есть дома терпимости, а у нас - нет. Здесь он со шлюшонкой, согласившейся с ним пойти сегодня, равны друг другу. Она ему может, если вздумается, и отказать. Она свободна. А в доме терпимости он над ней был бы полным хозяином. Там ей
терпеть его нужно. А ему нужно не только обладать ею, но и попирать ее, знать, что она терпит. Ему возвышаться над ней надо. Он - антидемократ.Другой каунасец, тайный миллионер, обкрадывающий государство, заявил еще в те годы, когда в Каунасе было мясо в магазинах в неограниченном количестве: “Здесь же нечего есть!” Его уязвляло, что он, миллионер, лишен возможности возбуждать своей едой зависть окружающих. Ему нужно чувствовать себя выше других. Он недемократ.
Третья - дворянка по бабушке - уязвлена тем, что она - инженер - не может свою квартиру обставить так, чтобы отличаться от соседки по лестничной клетке, дворничихи.
Однако, сколько бы ни было у нас в стране таких вот недемократов, особенность нашего строя (отличающая нас от мира капитала) - в демократах.
И наоборот, сколько бы в наших газетах ни писали о классовой борьбе на Западе, особенность их людей, отличающая их от (пусть редких, но типичных) советских - недемократичность.
Устроители телемоста Америка - СССР хотят показать, какие мы одинаковые с ними. А мы разные. Нам не показывают самую суть американцев, тайно или явно готовых на все, чтобы возвыситься, и потому голосующих за все более и более правых политических деятелей. Это их экстремистский эксплуататорский характер сделал президентом экстремиста Рейгана. Нам же - показывают бирюльки: их добродушие.
Да, конечно, в классовом обществе две культуры, две морали, две правды. Но нам-то показывают американцев недифференцировано. Есть какое-то лицемерие в этом телемосте (хоть я и был растроган, увидев это зрелище, но... первые две минуты только). Липа. Я бы отказался, если б мне предложили, участвовать в такой телепередаче.
Я раньше считал характерным для мещанства (bourgeois - горожан - буржуазии) - приземленность интересов, бездуховность. А теперь мне как-то очень ясно стало, что буржуазность это одно из проявлений эксплуататорства: в моральном, в духовном плане проявление.
Вот этот экстремизм, эта готовность на все ради возвышения - общее всем эксплуататорам. И не только в период первоначального накопления (когда-то, на границе средних веков и нового времени, когда разбоем накапливали первый капитал пираты, будущие капиталисты), не только тогда буржуазия была экстремистской. Она ею осталась и сейчас. Эксплуататоры такими были всегда. Буржуазия только не всегда это так открыто провозглашала, как будучи в пиратах.
Это очень банально, наверно, что вероломство, подлость, коварство, измена родились с эксплуатацией и неравенством. Но когда это так резко-политически почувствуешь в своих знакомых - впечатляет как-то. И, по-моему, заслуживает записи.
Теперь я без смущения могу выслушать пересказ идеи Сахарова, что наш строй ущемляет молодежь, что ей у нас скучно.
Конечно, скучно. Но тем только, кто достойный наследник эксплуататорства с его желанием контраста в положении в обществе.
15. 08. 83
Помню, по польскому телевидению шел какой-то франко-итальянский фильм о борьбе двух мафиозных банд контрабандистов, торговавших сигаретами... Какой романтической силой веяло от главного героя!.. Для него жизнь была жизнью, когда она мчалась по самому краю, границе со смертью. Обвести полицию и конкурентную банду, под пулями, артистически ловко, под носом у одних и других...
Была там символическая сцена, когда нужно было сделать бросок на катере из какого-то потайного исходного расположения к неожиданному месту, где причалило судно: летит катер по морю, искрящемуся на солнце... А снято так, что кажется, будто он несется по гряде острых камней. Волны острых камней... Чудом кажется, противоестественностью, что катер цел после каждой доли секунды, когда очередная скала заслоняет на мгновение его корпус от нас.
И вот, помню, подумалось мне тогда: чего-то лишится человечество, когда капитализм канет в историю. Не будет такого контраста в обществе. Все, пожалуй, слегка побледнеет, посереет...
А теперь - мне хочется прибавить, что этот капиталистический контраст, страстность в стремлении к наживе имеет обязательную свою тень - людей страдающих, попираемых, угнетаемых.
Романтический герой - герой в глазах обездоленной; он тем героичнее для нее, чем она бесправнее: дочь безработного, сестра безработного и сама безработная тоже.
17. 08. 83
Он обращался с ней, как с вещью, но она - не против. Потому что это и ее идеал - попирать других.
Фильм не это акцентирует. Это я под теперешнее настроение припоминаю попрание человеческого достоинства, проскочившее в фильме. Фильм - о яркости жизни, которой завидует эксплуататорски настроенная наша молодежь. И самая идейно выдержанная такая молодежь не смутится перспективой попасть в угнетаемые. Не осудит угнетение. Как не чувствуется осуждение угнетателя ни в поведении девушки из фильма, ни в поведении его безработных помощников. Их романтический угнетатель - кумир для них, они хотели бы стать такими же.
Пусть неудачник плачет. Но вдруг удача и ему улыбнется. Пусть девушке безумно страшно за свою жизнь, когда ее “любимый”, удирая от полиции, прижимает ее к себе - под полицейскими пулями, - чтоб защитить ею свою жизнь. Пусть. Но ей только страшно и не более. И когда опасность миновала - она возвращается из бездны страха в эту же самую жизнь, так чреватую угнетением и смертью. Но это неважно. Важно (ясно мне в моем теперешнем настроении) не осудить ей такую жизнь.
Угнетение другого - одно из высших удовольствий в такой жизни. Культ насилия.
В этом же фильме есть еще характерная сцена в таком духе.
Под изумительно радостную неаполитанскую мелодию, идущую как бы закадрово, просыпается преуспевший в очередном деле главарь мафиозной группы; просыпается, отдергивает шторы на огромном окне, выходящем на ослепительно красивый неаполитанский залив... Со вкусом одевается и идет в кафе неподалеку. Там встречается неожиданно со своим противником, главарем другой банды, которого вчера обвел вокруг пальца. И этот второй получает вот такое наслаждение: его подручные хватают удачливого конкурента под руки, уводят в другую комнату и, очевидно, избивают до полусмерти. Очевидно. Видно очами. Изменившееся за несколько минут (таков монтаж, что понимаешь - за несколько минут) лицо еще недавно счастливого удачей, утром, видом из окна - лицо человека - ужасно. Нет слов передать. Оператор и гример просто гениально это сделали. Мороз по коже. И такой вот нюанс. Это лицо выражает,- обезображенное,- уважение к своему противнику, сумевшему расправиться с конкурентом. Сколько бы там ни было оттенков переживаний в том лице: страх, ужас перед смертью, боль, тупость от перенесенного, но страшнее всего - видеть это уважение и еще - род какого-то приятия совершающегося: пострадавший (в отупении) только слегка недоумевает, почему ему предлагают лечь в гроб. А когда догадывается, что побоями ему не обойтись, что приходится расплачиваться жизнью, он (в отупении же) лишь пытается слабо сопротивляться. Но тщетно. Его бережно укладывают в гроб - те, кто бережно привел его после побоев (ибо он на ногах не держался),- и бережно закрывают крышку гроба. Главарь же, победитель, получает наслаждение от этой сцены. И крышку аккуратно и деловито заколачивают...
Еще мне вспоминается... Читал я когда-то сценарий какого-то итальянского фильма... Рассказывает один парнишка другому, что забрела на той неделе в их квартал незнакомая девочка. Компания с нею перезнакомилась, самый красивый пригласил всех в кафе. Там один девочку отвлек, а другой всыпал ей в чашку порошок полового возбудителя для скота... Девочка стала после этого очень игривая и со смехом позволила себя увести на пустырь. Там вся группа ее изнасиловала. Но так как она (не без влияния порошка) получила удовольствие от насилия, то они всей компанией еще и избили ее.
Ведь для парней угнетение - высшее наслаждение (так я сегодня понимаю эту сцену).
И подобное высшее наслаждение, повторяю, не привилегия капиталистически настроенных людей. Все эксплуататоры таковы.
Вспоминаю другую сцену: из романа Шодерло де Лакло “Опасные связи”.
Роковая женщина, соблазняя всех налево и направо, узнала, что в Париже появился ее соперник по победительности - мужчина. Конечно же, он захочет возобладать и ею,- думает она.- Но как попрать его, отдавшись? И она придумала. Предупредила слуг, чтоб ночью не ложились спать и ждали, и по тревоге чтоб вбежали к ней в спальню из дальних комнат. Кавалера же она заставила прийти к ней на свидание тайно ото всех и прямо в спальню - потайным ходом. Встретила она его в нижней рубашке, но дальше двери не впустила, совокупившись с ним прямо там. А потом позвонила и заявила сбежавшимся слугам, что тот явился незванный и хотел ее изнасиловать: вон - полуголый стоит!.. - Офицера уволили в отставку и осудили на тюремное заключение.
Попрала...
Там были дворяне. Капитализм же доводит культ насилия, угнетения до широчайших масс, интегрируя (как говорится) их этим культом в свою капиталистическую систему.
Такая мысль явилась мне в ожидании поезда, что увез меня в отпуск. А в конце отпуска, читая детям “Старика Хоттабыча”, я понял, что в этой сказке - такой же пафос. (И это была моя первая попытка ввести мою семилетнюю дочь в тайны подтекста.)
“Зачем,- спросил я ее,- ты думаешь, ввел Лагин в свою сказку жадного американца Вандендаллеса? Чтоб показать, что капиталисту мало наживы, что ему еще нужно угнетать. Ведь не зря автор сделал, что американец не удовлетворился никакими мешками с долларами”. - “Да!- воскликнула дочка.- Он, как старуха захотела, чтоб золотая рыбка ей услужала - захотел”. - “Правильно,- отвечал я.- Таковы все эксплуататоры. И 3 тысячи лет назад были эксплуататоры, угнетатели. Вот злой брат Хоттабыча и хочет, чтоб освободивший его мальчик (Волькин товарищ) чистил ему ботинки. Угнетать ему нужно - угнетателю. Страшные они люди”.
20. 08. 83
Я забыл. Не ботинки чистить заставлял Омар, а мух от лица отгонять. А так как в Арктике, где они были, нет мух, то Омар их наколдовал. Лишь бы унизить.
Это даже еще характернее - мух гонять, специально созданных. Ведь угнетение появилось исторически не как самоцель, а как инструмент - для наживы, чтобы лучше жилось, чем другим. Но за тысячелетия существования эксплуататоров угнетение стало уже ими восприниматься как самоцель. Без угнетения уже и лучшая, чем у других, жизнь - вроде не лучшая.
21. 08. 83
Может быть, вот здесь проходит “водораздел” между просоциалистически и между прокапиталистически настроенными людьми? Первые желают лучшую (чем у других) жизнь, отдистиллированную от угнетения. Вторые, не будучи угнетателями, не могут почувствовать, что их жизнь лучше, чем у других.
То есть социалистические мещане - не угнетатели и не больше? У них лишь вещизм?
Тогда в телемосте Америка - СССР можно искренне входить в нужды друг друга...
Но если просоциалист - обязательно демократ, то пораженные вещизмом (у нас) - это пятая колонна капитализма, это потенциальный преступник закона и нравственности, не преступающий закон и нравственность лишь из боязни неприятностей.
Кто такие в этом случае благоверные Волька Костыльков и Женя Богорад из “Старика Хоттабыча”? Ведь вот соблазнились же они на бинокли и на туристическую поездку по Арктике?
Но я отвечу, что они все же наши. Просто они - не ангелы. Зато отказался же Волька от несметных сокровищ.
Бинокли им нужны были, чтоб рассматривать Луну, туристическая поездка - чтоб увидеть Арктику. Их потребление - удовлетворение любознательности, а не средство выделиться среди других: видели, мол, то, что вам, мелюзге, недоступно, ибо бинокля у вас нет, или, положим, были там, где только знатные бывают - поездка же была для знатных тружеников.
Итак, их потребление - в наименьшей степени вещизм. К тому же, оно никого не ущемило: ни одному знатному труженику не было отказано в поездке в Арктику ради Вольки, Жени и Хоттабыча, ну, и два наколдованных бинокля также не составили конкуренции государственной торговле.
А вот возможность купить безмерно много, оставь Волька великие дары Хоттабыча, совратило бы его рано или поздно в нашем еще денежном мире.
Лагин дразнит нас - совсем по закону Выготского - давая Вольке слегка соблазниться. Дразнит слабо - книга детская, да к тому ж и написана давно, во времена “лакировки действительности”. И в меру слабости дразнения книга слаба.
Но “водораздел” демократичность-угнетение выявлен в ней резко. И вот такому (надеюсь, не только сегодняшнему) мне - это важно.
22. 08. 83
Следующим моим отпускным переживанием было такое духовное событие: я встретился с целым букетом аргументов сноба в его снобизме. Снобами проявили себя люди мне родные. Я имел нахальство назвать их снобами. Они смутились и стали оправдываться.
Речь шла о возможности словесного намека на смысл музыкального произведения. Оркестрового.
И вот мне обосновывают невозможность словесного намека.
1) Шопен-де, говорил, что музыка начинается там, где кончаются слова. 2) Слова настолько грубо отражают музыку, что любые - они профанация произведения. 3) А как я смею говорить что-то свое о музыке: может, я ее неправильно “понимаю”. 4) Даже объяснение преподавателя в консерватории, а значит - высококвалифицированное объяснение - вызывало у всех студентов некоторое отвращение. Так как же брать на себя смелость породить какое-то подобие такого отвращения еще в одном человеке - в своем компаньоне по слушанию?! 5) Говорить можно только о программной музыке. 6) Говорить можно только с тем человеком, о котором в точности знаешь,
что он в музыке знает, а зная своего собеседника в этом отношении недостаточно, нельзя и пытаться его просвещать. 7) Говорить можно лишь о том, хорошо или в чем недостаточно хорошо исполнено произведение. Лишь это - объективный материал для разговора. О субъективном же, о чувствах или мыслях, навеянных данной музыкой, говорить нельзя, потому что каждый услышал свое произведение, другой этого моего не слышал - не о чем говорить с точки зрения смысла...Как только ни изворачиваются загнанные в угол снобы!.. А просвечивает не неумение пользоваться словами для такого рода дела - изъяснения о смысле музыкального произведения,- не стеснительность за свои возможные слова,- просвечивает уверенность, что кому музыка не дана, с тем и нечего разговаривать, а кому дана, с тем - о смысле - тоже нечего: как члены секты какой-то - все и так знают свою веру.
На самом же деле - это еще один вид недемократизма, по-моему.
Если сам Асафьев делил музыку на прикладную (при танце, при войске, при дворе, при церкви и т. д.) и идеологическую,- то демократу уж никак не возможно не стремиться поделиться о своем переживании идеологической музыки (о смысле произведения) - с кем угодно, пусть с по-разному образованными людьми - по-разному, но поделиться. Демократом для этого нужно быть в первую очередь, а не аристократом - и слова прийдут. Невежда - за них поблагодарит, а поднаторевший - простит. Ведь важно то, что выразила музыка: содержание,- то важно, ради чего композитор не мог музыку не написать, а если написал, то именно так написал...
23. 08. 83
Когда-то, давным-давно, в Каунасе, я впервые послушал 6-ю симфонию Чайковского и был потрясен. Только потому, что я был с компанией, и потому, что в зале на симфонических концертах, в отличие от некоторых эстрадных, не гасят свет,- только потому я не разрыдался.
Мне был “понятен” каждый звук, каждая мелодия любой степени краткости. Передать все словами - я так выражусь - было бы возможно, если бы каждое мгновение можно было б остановить и о каждом мгновении - довольно долго рассказывать... Но такое невозможно, и, следовательно, любая словесная передача этого произведения была бы жалка.
Но в порядке намека допустима.
Итак, я был потрясен, и, естественно, не мог после прослушивания ни аплодировать интенсивно, ни разговоры вести на третьи темы, да и о симфонии, пожалуй, если б заговорили,- тоже не мог бы говорить. Слишком был расстроен. А компания есть компания. Требует, чтоб ты в ней участвовал. Я же не мог. И я даже разозлился на всех: экие бесчувственные. А ведь была с нами даже девушка, кончившая музыкальную школу-семилетку. Но и с нее 6-я симфония сошла с последними звуками, как с гуся вода.
Мне моего потрясения хватило на целый год непрерывного хождения на все симфонические концерты в Каунасе. Как ни страшно было мое переживание - я ждал повторения такого же.
И подобное случилось на каком-то славянском танце Дворжака - меня так колотило от возбуждения, что я должен был прямо-таки обхватить себя руками и крепко-крепко сжать, чтобы соседи по ряду не заметили моей дрожи.
И все. За год большего не случилось. Я был разочарован. Не знал, продолжать ходить на симфонические концерты или нет... Один умный человек сказал: “Ходи. Дождешься. Ведь такие вещи, как 6-я симфония Чайковского,- это праздник в музыке, а праздники редко бывают”. Это показалось мне логичным, но я все же умерил свой слушательский пыл. Я счел, что просто недостаточно образован, вернее, просто не образован музыкально и поэтому для меня такой низкий КПД симфонической музыки.
А пока я ходил в филармонию (после первого раза почти всегда один), я составил себе представление о музыкальной восприимчивости каунасцев к серьезной музыке.
Знакомые, встречаясь со мной в перерывах концертов, никогда не заговаривали о только что услышанном. Потом: у каунасцев есть неприятная привычка в фойе (театра, филармонии) ходить парами по кругу, как лошади на выводном круге,- показывая свои наряды. Меня это бесило, и я часто стоял возле круга. Получалось, как бы принимал парад. И я слышал, что и другие люди не разговаривали о музыке.
В филармонию во множестве ходят учащиеся музыкального училища. Но они преследовали, видимо, какие-то свои специальные цели. И если даже им не только нужно было показаться своим преподавателям (мол, мы посещаем), то их, наверно, какие-то технические стороны, конструктивные грани исполнения и композиции интересовали, а не идеологическая (по Асафьеву), содержательная (по Бетховену) сторона произведения.
Я много позже у Асафьева прочел, что 90% учащимся музыкальная школа (какая она пока есть) портит отношение к музыке - высушивает восприятие.
В общем, для меня было не новость - увидеть в перерыве симфонического концерта совершенно безучастные к только что услышанному лица. И не только кауннасское это явление.
Но в Юрмале на концерте, в начале моего отпуска этого года - я от этого расстроился.
Публика выглядела не случайной, маститой. Не было противного выводного круга. В трех шагах от меня беседовал с директором филармонии Аркадий Райкин. Я был в компании безусловно разбирающихся в музыке людей: преподаватель консерватории что-то да понимает...
Но у всех были те же каменные, по отношению к музыке, лица... А преподаватель консерватории отказался двумя-тремя словами направить меня, неуча, какого, приблизительно, содержания мне ждать от того, что сейчас прозвучит.
И после концерта разговор в компании пошел опять же не об услышанном. А еще в зале, в двух рядах впереди, развязно развалясь на стуле, аплодировал широко, как на зарядке, разводя руками, медленно, плавно и картинно - какой-то модно одетый тип, завсегдатай... Не может так аплодировать взволнованный музыкой человек.
Процитирую Станиславского: <<
Но есть развлечение и развлечение... удивительные актеры, чудные, гибкие жесты, блестящее сверкающее освещение, ударившее меня по глазам и ошеломившее, музыка - все это тормошит, встрепывает, поднимает нервы все выше и выше, и к концу пьесы вы хлопаете, кричите “браво” и лезете в конце концов на сцену благодарить, обнимаете там кого-то, целуете, кого-то по дороге толкаете и т. д. А выйдя из театра, чувствуете себя настолько возбужденным, что не можете спать,- надо идти в ресторан всей компанией. Там за ужином вы вспоминаете зрелище, вспоминаете, как хороша актриса такая-то... и т. д.Но вот впечатление ваше переночевало, и что от него осталось на другой день? Просто ничего. А через несколько дней вы уже не можете вспомнить, где вы, собственно, так кричали и вызывали...
Я очень люблю такие зрелища. Варьете обожаю, водевиль тоже, лишь бы это не было грязно.
Но есть другой театр. Вы пришли и сели в кресло зрителя, а режиссер незаметно пересадил вас в кресло участника... С вами что-то произошло... Кончился спектакль, вы взволнованы, но совсем по-другому - вам не хочется аплодировать... Элементы этого волнения таковы, что заставляют сосредоточиваться, углубляться. После спектакля не хочется идти в ресторан. Тянет в семейный дом, за самовар, нужно интимно поговорить о вопросах жизни, о философском мировоззрении, об общественных вопросах.
И когда впечатление ваше переночевало у вас, оно оставляет совсем другой след в душе, чем в первом случае.
...здесь ваши впечатления за ночь вошли еще глубже в вашу душу; еще серьезнее вопросы требуют ответов; вы чувствуете, что что-то вам не хватает, чего-то вы еще недобрали в театре, надо пойти еще...
Первый театр - театр-зрелище - служит развлечением зрению и слуху, и в этом есть его конечная цель.
Во втором театре воздействие на слух и зрение есть только
средство для того, чтоб через них проникнуть в глубь души>>.Что-то подобное я бледно пересказал своим спутникам, сославшись на Стасова, что музыка - самое сильнодействующее искусство. И заявил, что я не понимаю их каменных лиц, их ледяного отношения к слышанному. Пусть я, мол, не понял, но они... Почему они не взволнованы. Ведь композитор писал, выражая сокровенное. Понявшие должны быть потрясены. И должны по прошествии какого-то времени набрасываться друг на друга, чтоб поделиться впечатлением об “идее” идеологического произведения, каким необходимо является произведение серьезной музыки.
Но я в ответ слышал лишь увертки и отшучивания... И был взбешен.
Кто из нас ненормален: я или они? Может, я - наивное дитя, что думаю найти в лицах филармонической толпы следы переживаний?
Да, будучи вечным физиономистом, я знаю, что на 9/10 ошибаюсь. Но все-таки!.. Почему я никогда нигде ни в ком не заметил потрясения?
Люди взрослы,- отвечают.- По их лицам читать нельзя.
И я иду навстречу. Я вспоминаю, что вот сегодня прочел “Двух гусаров” Льва Толстого, что они произвели на меня впечатление, что я, как по Станиславскому, чувствую, что со мной что-то произошло, что я чего-то недобрал. Но читал я урывками, меня прерывали, со мной разговаривали, я отвечал, угощался, беседовал. А тем временем почти не переставал думать о “Двух гусарах”. Но вряд ли на лице моем были заметны какие-то следы литературных переживаний...
А мне еще добавляют резона, мол, век сейчас рациональный. Люди переживают только в кресле филармонии. А встав с него - уже включены в другую жизнь.
Но музыка же - не литература, потрясение - не простое переживание! Должно, должно что-то чувствоваться в публике, в моих спутниках. Должно. А нету. И много спустя, веря, что правы Станиславский, примененный к музыке, и Асафьев (относительно засушивания школой), я пришел, может, к кощунственной мысли, что моя безусловно высокая оценка “понимательных” способностей моих спутников - неверна. Просто случилось так, что они “недопоняли” то, что они только что слышали. И остальная, попавшаяся мне на глаза часть публики,- тоже “недопоняла”. И стоявший неподалеку Аркадий Райкин - увы - тоже “недопонял”.
То ли озабочены чем-то люди, то ли засушены школой - но они все сравнялись со мной, музыкальным невеждой. И, может, вообще состояние дел такое, что даже весьма образованным и даже специально образованным людям далеко не все еще открыто в необъятном море музыкальных произведений.
Что если даже в музыковедческих кругах царствует ночь, и лишь в некоторых домах горят яркие люстры - да и там есть какие-то чуланы, где темно. А уж у публики попроще - фонари или свечи, освещающие лишь малую часть музыкального ландшафта. Да к тому же, многие и не догадываются, что состояние дел - ночное, что в принципе - мыслим день в “понимании” музыки
.Если б было общепризнано, что у нас пока - ночь, не стеснялись бы никто признаться, что данное произведение - непонятно еще пока. Было бы больше демократичности...
Так что успокоить себя мне удается лишь предположив, что и снобы - достаточно темные люди
.27. 08. 83
Вот так я, будучи далек в своей практической жизни от живых контактов с людьми искусства, пришел самостоятельно к подозрению, что элита - темновата.
Эта самостоятельность и есть то новое, что отличает данную запись от записи 20. 06. 83.
Отвлекаясь от отпускных впечатлений, хочу процитировать сиюминутное. В “ЛГ” упомянуто об авторском вечере Евтушенко. В спорткомплексе “Олимпийский”. Пришло 12.000 человек!.. И здесь - в жанре творческих вечеров - отличился Евтушенко. И завершил, пишут, вечер такими стихами:
Быть бессмертным не в силе,
Но надежда моя:
Если будет Россия,
Значит, буду и я...
В духе того, что я сейчас придумал об элите, и вспоминая свое скептическое отношение к “
чемпиону блестящего говорения”, мне подумалось, что одной из предпосылок такого явления, как мода, является ночь в искусстве, в понимании искусства.28. 08. 83
Еще один, наверно, нелогичный довод в пользу физиономического подхода к оценке понимания искусства.
Ситуация - похожая на ту, что была с “Двумя гусарами”.
В гостях... Разговоры... Угощения... И толщенный том репродукций Левитана. А я его очень люблю. Причем с Левитаном у меня тот случай, когда я остро чувствую,- как давешние снобы,- насколько слова бессильны, кощунственны в передаче идейного смысла картины.*
* - Все нижерасположенные попытки картины описать приводят к неудачному выводу. Удачнее – см. тут
.Помню, я в Одесском художественном музее увидел такое полотно: по холмистой равнине на закате солнца спешит-пыхтит по железной дорогое паровоз с составом... И так это инородно выглядит - прошловековое чудо техники - в окружающей природе, такой обильный черный дым валит в окружающий чистейший воздух, что кажется, будто Левитану прямо физически удалось написать тишину и резкие звуки поезда, ее нарушающие. А природа кругом так вечерне-печальна, паровоз же - так бездушно энергичен, что так и кажется, что Левитан о какой-то вражде техники природе толкует словами красок и мазков.
Сейчас, когда экология гремит уже повсюду, понимаешь, что тогда хотел “сказать” Левитан. Но не жалкая ли это модернизация, не вопиющее ли обеднение смысла произведения? Мыслимо ли сметь произносить вслух эти жалкие выжимки?..
Или “Владимирка”... Ну где когда я слышал, что это дорога, по которой ходили этапом ссыльные в Сибирь? Ну откуда у меня мнение, что большинство ссыльных - невинные жертвы царского деспотизма и вообще эксплуататорского строя при царизме? Ну какие слова можно подыскать к тем чувствам, что начинают теснить грудь, при взгляде на “Владимирку”?
Разбитая грунтовая дорога - забитый измордованный народ... Изъезженная и дробящаяся множеством объездов - массовый исход несчастных... Мглистое небо - копящиеся смутные чувства от неизбывной несправедливости. Плоская долина и огромное небо - необъятные силы народные. “Вынесет все, и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе...” И мерклый колорит, сырой воздух, суровость - пока - тоска...
Никаких слов не хватает! И понимаешь людей, отказывающихся разговаривать иначе как вокруг да около.
Но в груди-то - волнение. Оно-то - на лицо должно выплескиваться, в поведение.
Да и слово намека тоже много значит. Велика ли сила взрыва капсюля-детонатора? А вот глядите, с него начинается мощнейший взрыв бомбы...
Где-то на страницах описания в толщенном альбоме репродукций мелькнули слова о картине “Озеро. Русь”, мол, пестрота и мощь в этой картине - это надежда и уверенность, что русский народ достоин лучшей доли.
И мне вспомнился актовый зал в курском заводе, изготовителе наших приборов, разрабатываемых в Литве. Я, помню, удивился праздничности этого зала. Пластик, который достали, как оказалось, у поставщиков материала спорткомплексу “Олимпийский”... Хрустальные бра... Колонны из золотистого алюминиевого профиля... Еще что-то - не помню. Только общее впечатление - брызг и пены (а кто-то потом метко сказал: русская широта, пестрота и безвкусица).
Может, и безвкусица. Я не могу судить о прикладном искусстве. Может, сухая деловая строгость и чопорность актового зала в каунасском НИИ лучше характеризует литовский дизайн, чем торжественность в Курске - дизайн русский. Может.
Но у Левитана - не дизайн. У него - художественное обобщение, художественная мысль о судьбе и будущности русского народа. И Левитан (в картине, не в эскизе) приглушил пестроту. Он сделал так, что и пестрота осталась, и какое-то общее колористическое обобщение этой пестроты. Левитан возвысил пестроту на такой уровень, что о ней уже не скажешь: безвкусица. И естественно-природно эта пестрота оправдана - осень же. Есть в осени такие праздничные дни, бабье лето, когда все искрится и блещет, играет и горит. Осень ведь это не только излет года, угасание природы. Это ведь еще и время итогов, значит, торжества, урожая, изобилия, свадеб, радости.
И - нет слов... И душа полнится.
Ибо все-таки это осень. И на первом плане - самый обыкновенный камыш, а вдали, на взгорке - большинство - обыкновеннейшие избы...
Но больше радости, чем грусти.
И слов не хватает.
А в результате, хозяева замечают, что их гость не в себе. И нарекают меня странным, и смешным, и чудаком...
Значит, все-таки не могут люди владеть своим лицом, если взволнованы произведением искусства.
И, значит, я прав в том споре со снобами, а мой же довод им (с моим же лицом по поводу “Двух гусаров”) - это вовсе не довод им, а довод мне: просто я не понял “Двух гусаров” достаточно, чтоб произошел катарсис...
Не понял... Опять это “понимание-непонимание”.
И я занудливо подумал, что прав в этом всем все же Я.
(Наверное, плохо - опять и опять приходить к своей правоте.)
11. 09. 83
А чтоб было не так плохо, я сейчас процитирую нечто себе в упрек: “
В сущности, сами эмоции, будучи вторичными и производными психическими образованиями, менее важны и интересны, чем порождающие их факторы. Очень часто эмоции являются лишь индикаторами событий, разыгрывающихся на более глубоком, чем эмоции, уровне”.Иными же словами (и в применении к моему якобы пониманию музыки - той же 6-ой симфонии Чайковского) - и Я ее не понял, как бы много ни мог порассказать о том, что в ней “происходит”. И я. Не только те, кто ни слова не захотел бы о ней сказать...
То, что я в 6-й симфонии “понял”, есть наивнореалистическое восприятие.
(Неужели мне тут надо будет сейчас объяснить, что такое “наивнореалистическое восприятие”? Ну, ладно. Дам всегда мною приводимый пример из Гуковского. Наивнореалистическое восприятие это отношение к герою, как к живому человеку. О нем мечтают, плачут, в него влюбляются. Так - девушки - в Андрея Болконского влюбляются. Моя мать по Жюльену Сорелю рыдала. И т. п.)
Наивнореалистическое восприятие музыки - лучше, наверно, сказать, переживание музыки - это эмоциональная захваченность по ходу слушания.
То, что я сумею другому выразить о 6-ой симфонии Чайковского (мол, поначалу там человек - я за него - предчувствует отдаленное приближение своей смерти; потом отгоняет от себя это предчувствие, хочет забыться, но предчувствие возвращается, все усиливаясь; потом является и сама Смерть наяву и заявляет свои права на человека - меня, как это я переживаю, - “я” начинаю метаться, Смерть неумолима; “я” впадаю в глубочайшее забытье с воспоминаниями о юности,- 2-я часть,- молодости, зрелости, успехе,- 3-я часть; но забытье кончается,- финал,- Смерть тут и т. д.), так вот все это не более как жалкий пересказ “Войны и мира” влюбленной читательницей, влюбленной в Андрея Болконского, пересказ читательницей - другой читательнице, своей подруге.
И до понимания (глубокого понимания) 6-й симфонии Чайковского здесь - в этом пересказе - так же далеко, как в пересказе перипетий вокруг Андрея Болконского.
Понимание (глубокое, в полном смысле понимание) начинается позже - в последействии (по Выготскому), а не в действии искусства.
Только когда начинаются соображения, мол, граф Лев Николаевич Толстой, всю жизнь ополчавшийся против наступающего (капитализм шел в Россию) эгоистического индивидуализма,- ввел в “Войну и мир” Болконского как образ ложного пути жизни, мысли, содержания человека (Гуковский) - только после появления таких соображений начинается ПОНИМАНИЕ.
Только когда начинается думание в том духе, что Чайковский, “
наш мягкий и рыхлый интеллигент-славянин просто рыдает”, что проникновенность музыки в его 6-й симфонии - это иновыражение победы все того же капитализма с его “остро развернувшейся индивидуальностью личности”; только когда с капитализмом и 6-й симфонией начинают соотносить такие мысли: “Как быть? Со старыми формами религиозных утешений порвано; но чем ценнее сама личность в своих глазах, чем утонченнее, глубже ее жизнь, тем страшнее конец этой жизни” - только тогда и начинается ПОНИМАНИЕ.А до тех пор - только наивнореалистическое восприятие.
ПОНИМАЕМЫХ музыкальных произведений лично у меня вообще еще нет.
Описанное тремя строками выше понимание 6-й симфонии Чайковского - не мое: Луначарского... Есть у меня коллекция интерпретаций художественных деталей. Так в ней только два (два!) музыкальных экспоната: 1) почему (по Луначарскому) Фрид в 1922 году, исполняя 6-ю симфонию Чайковского, Скерцо поставил в конце; 2) для чего (по Асафьеву) Бетховен в теме радости 9-й симфонии сделал акценты на “до”. Вот и все. А ведь в моей коллекции многие сотни интерпретаций художественных деталей из произведений других искусств.
Какова же мера НЕПОНИМАНИЯ музыки у других людей, у 99-ти из 100, у которых на лице не отражаются даже наивнореалистические переживания!?!
В музыке ночь вообще черным-черна...
Некто говорит мне, что у меня уже не в привычке, а прямо в характере - стремление возвысить себя, унижая других. А мне кажется, что это неправда. Я предлагаю большинству признать свою низость, чтобы была возможность начать возвышаться. И сам готов дать всяческие примеры обнажения меры моей низости, мизерности тех достижений, которых достиг я, и тем побудить других достичь того же.
Если бы я хотел возвыситься унижением других, я бы не тянул их за собою: они же со мной сравняются, если я на йоту их выше. А если за мной не идут, меня не слушают, то я не возвышаюсь в гордом одиночестве, а горюю.
Я, может, не писал бы этого блокнота, да и другого кое-чего, если б не чувствовал себя душевно одиноким. А такое чувство горечью отдает, а не упоением возвышения...
Но “размышлизм” о наивнореалистическом слушании серьезной музыки - это отвлечение от моих отпускных духовных, так называемых, переживаний. Возвращаюсь к ним, отпускным.
13. 09. 83
Я вдруг понял Александра Грина.
Он был до сих пор для меня загадкой: если романтизм энергию свою черпает из отрицания действительности, то
что - уже в советское время - отрицал Грин, раз оставался таким же неистовым романтиком (как до революции) после Октябрьской революции. Притом, что революционером он был еще до первой русской революции и не принять Октябрьскую не мог...Умер он в 1930 году. То есть до ужаса издержек культа личности не дожил.
Маяковский, правда, начал страдать за коммунизм еще во времена первого отлива революционности - во времена НЭП-а.
У Грина же - судя по 6-титомнику - начиная с “Острова Рено” не было перерывов, когда бы он не порывался в заманчивую даль. То есть “близь” его не очаровывала. А ведь он пережил период массового улучшения людей:
<<
Наше поколение узнало воочию, как это происходит. Мы видели в первые послеоктябрьские годы миллионы людей недоедающих, раздетых и усталых, но вместе с тем готовых приносить новые жертвы и идти на новую борьбу за мировую революцию. Михаил Светлов запечатлел эту готовность в бессмертном стихотворении “Гренада”.Мы были свидетелями лихорадочного нетерпения, с которым передовая советская молодежь ждала немецкую революцию в 1923 году, ее энтузиастической решимости сражаться за дело этой революции, как сражаются за свое кровное дело, ее глубокой скорби, когда немецкая революция потерпела поражение,- для многих оно было первым большим личным горем
>>.Это слова Днепрова, не Грина. Днепров со Светловым мечтой в революционную Гренаду улетал, в место географически вполне реальное. А Грин - в Зурбаган - в несуществующее.
17. 09. 83
Как это Грин устоял? Как не поддался массовому движению?
Задавшись этим вопросом еще раз, в этом году (я каждый отпуск в Одессе читаю Грина), я принялся за самые его последние рассказы в 5-м томе 6-титомника (1965 года выпуска).
“Ветка омелы”. 1929 год. Год до смерти. Речь идет о пьянице, бросившем пить...
“Правда, он любил возбуждение, доставляемое алкоголем, но если в молодые годы это возбуждение таило прелести страны грез, волшебного превращения будней в заманчивое странствие среди вещей и людей, с как бы заново открывающимся значением событий, то к сорока годам слиняло и возбуждение. Привычка пить приспособила его разум оценивать окружающее почти трезво даже при больших дозах водки; будучи крепко пьян, мысленно Торгенс был трезв, отчего часто скучал. Поэтому ничего, кроме вреда, болезней и разлада семейной жизни, не предстояло ему в дальнейшем; следовало ему бороться теперь уже не с психической, а с физиологической потребностью пить”.
И Тергенс победил в этой борьбе:
“- Теперь уже нет соблазна,- сказал Тергенс.- Нет, честное слово, нет. Пусть будет иногда скучно, вяло; даже пусть будет трудно жить и работать, пусть хочется подчас трактирной романтики; но пусть будет чисто”.
А я подумал: все-таки и Грин заколебался в своем неприятии действительности, все же и его начинает увлекать пафос массового улучшения окружающих его людей.
И когда я это подумал, мне стало ясно, что где-то глубоко во мне все время сидело мнение, что Грин в чем-то не принимал советскую действительность.
Я перечитал предисловие Вихрова в первом томе, надеясь найти какие-нибудь следы гриновского недовольства советской действительностью, а нашел потуги (теперь я уже осознавал, что это потуги) приобщить Грина, так сказать, к социалистическому реализму, сделать вид, будто Грин - предвосхищение нашего строя и приобщение к нему:
<<
...Его художественное воображение питала жизнь [будто бы бывают люди, чье воображение питает что-нибудь другое], реальная действительность, и поэтому совершенно неверно представление о нем как о некоем “чистом” романтике, брезгливо сторонящемся житейской прозы. Между тем именно такое представление о Грине подчас навязывается читателям. Даже К. Паустовский, автор исполненной глубокой любви к Грину повести “Черное море” и превосходных статей о писателе, и тот порой [Паустовский - имя, его кусать нужно осторожно] склоняется к этой ходовой легенде о Грине. В своем предисловии к однотомнику его произведений (1956) Паустовский пишет: “...Недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимым снами, чем “дрянью и мусором каждого дня””.Но читая Грина, трудно с этим согласиться. “Неуловимых снов” в его произведениях вообще не замечается; он был писатель вполне земной и к
декадентским [выделено мною] “снам” и “откровениям” относился по большей части скептически. А что до “дряни и мусора каждого дня”, то все лучшие произведения Грина, каждая их страница для того и писалась, чтобы “дрянь и мусор” вымести из жизни человеческой, чтобы сказать своим читателям: все высокое и прекрасное, все, что порою кажется несбыточным, “по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать чудеса своими руками...”Это строки из “Алых парусов”. Они задумывались в 1917-1918 годах, в те дни, когда люди “своими руками” творили чудеса революционного переустройства жизни. В “Алых парусах”, этой по-юношески трепетной поэме о любви, нет и намека на “недоверие к действительности”. Своей феерией, так знаменательно для тех дней названной, Грин откликнулся на события, бурлящие за окном
>>.Опять 17. 09. 83
Итак, Вихров интегрирует Грина в систему, а Паустовский обособляет. Это меня очень ободрило.
Начав читать Грина с конца, я быстро дошел до эстетизации пиратства и вспомнил свою “Солянку сборную”
*,-----------------------------------------------------------------------------------------
*
- Она включена в “Четвертую книгу” серии “Книги прошлого”.-----------------------------------------------------------------------------------------
вспомнил эстетизацию пиратства в когановской “Бригантине”. Тут все сходилось с Паустовским. И еще сходилось с тем, что жена моя, открывшая для меня самодеятельные песни, обожала Грина.
И еще одно слово у Вихрова обратило на себя мое внимание -
“декадентским”. Я вспомнил, что уже читал об антимещанских порываниях декадентов. И устремления в даль-далекую современных им символистов (недекадентов, вообще говоря) тоже вспомнились тут очень кстати: когда сильно недовольны окружающим, то в мечтах залетают так далеко (Чюрленис), что потом и через полсотни лет и еще дольше - эти залеты оказываются актуальными и злободневными на диво...Вот выдержки из прорицаний декадентов (из плехановского “Евангелия от декаданса”):
<<
Социализм, по словам Мережковского, “невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства... накотором и сам он, социализм построен”.
“У голодного пролетария и сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые,- уверяет нас г. Мережковский: метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости”.
“Разве вы не видите, жизненная цель социалиста-рабочего и капиталиста-денди - одна и та же, что оба они поклоняются предметам потребления и удобствам жизни, оба стремятся к увеличению числа потребляемых предметов? Только один стоит на нижней ступени лестницы, другой - на верхней. Рабочий стремится к увеличению минимума, капиталист - к увеличению максимума житейских удобств...”
“Если четвертое сословие одерживает на наших глазах победу за победой, то происходит это не оттого, что на его стороне больше священных принципов, а потому, что рабочие прозаически организуют свои силы... ставят требования и силой поддерживают их. Поймите же, друг мой. Я всей душой сочувствую новой общественности, хотя бы потому, что самого себя считаю рабочим. Я даже готов признать, что на ее стороне справедливость, ибо справедливость кажется мне не чем иным, как равновесием реальных сил. Поэтому я считаю консерватизм изменой справедливости. Но не могу же я не видеть, что своими победами новая общественность не только не создает новой нравственности, но еще дальше завлекает нас в дебри предметопотребления. Не могу я не видеть, что идеал социалистов есть тот же мещанский идеал предметного благополучия, продолженный книзу, в сторону общедоступного минимума. Они для себя правы, но не от них придет новая правда”.
>>Дикое дело! Написано 80 лет назад, а звучит так злободневно, будто вчера вышло из-под пера. Только вместо нынешнего вещизма - предметопотребление...
Так что: прав Мережковский? И глубок? И к нему Грин примыкает? И вследствие глубины своей Грин сейчас так актуален “антивещистам”, “антимещанам” (и антиподам, если по Высоцкому: вспомни “Алису в стране чудес” - тоже антимещанское создание...).
Не хочется, чтоб прав был Мережковский, не прав - Плеханов, а Грин - глубок от близости к Мережковскому...
Но что-то тут все же есть.
Какие я сразу могу наметить выходы (которые надо поисследовать)? Во-первых, давнее разделение романтиков на прогрессивных и реакционных. Во-вторых, развитие по спирали вверх, похожесть двух точек по вертикали, расположенных на разных витках: Мережковский в начале века - инакомыслящий сейчас.
20. 09. 83
Массовое улучшение 1917-1923 годов - факт. С точки зрения, учитывающей этот факт, Мережковский и иже с ними - не пророки.
Диалектическая спираль включает в себя и плюсовую и минусовую тенденцию в общественной нравственности. Плеханов свое “Евангелие от декаданса” писал после 1905 года (опубликовал он его в 1909 году). Значит, Мережковский мог изливать свою хулу на социалистов во время реакции (проверять, когда он писал то, что цитировал Плеханов, мне трудновато, и я не буду).
Начиная с НЭП-а началось откатывание революции. И если до сих пор длится “минусовой” участок нравственности, то схематически понятно, почему Мережковский опять кажется пророком.
Кроме того может влиять и глубина и массовость так называемых пережитков прошлого. Эти пережитки могут обеспечивать сходство на спирали по вертикали.
Если “плюсовая” часть спирали была кратковременна, то Грин мог не успеть на нее прореагировать. Тем это должно быть более вероятно, чем сильнее он разочаровался во время реакции на первую русскую революцию.
А он разочаровался здорово.
Это очень хорошо объяснено в послесловии к первому тому 6-титомника 1965 года. Автор послесловия, Россельс, - он же и общий редактор - как бы спорит с автором предисловия, Вихровым. Россельс развернул убедительную картину творческой эволюции Грина от реализма к романтизму. Причем разбор у него идет по хронологии создания рассказов Грином. А в собрании сочинений рассказы расположены не в хронологическом порядке! Поддался тут Россельс Вихрову? Россельс в общей редакции мог бы расположить их хронологически...
Я читал когда-то, что хорошие редакторы так и поступают...
Помню, когда я раньше читал подряд рассказ за рассказом из этого собрания сочинений, у меня никакого впечатления эволюции Грина не возникало.
Теперь я принялся читать в порядке, строго соответствующем порядку ссылок автора послесловия.
И что увидел я?
Что Грин разочаровался в партии эсеров, что он разочаровался в самом революционном действии, что он не мог предать своих идеалов, толкнувших его к революционерам и что, наконец, ему не оставалось никакого выхода, как стать неистовым романтиком.
Это точная копия эволюции, по-моему, автора “Бригантины”. Он разочаровался, столкнувшись с репрессиями, последовавшими после провозглашения победы социализма в СССР в 1936 году. Он не мог предать своих идеалов социалистических. И он сделался неистовым романтиком.
Автор послесловия как бы демонстративно назвал свое послесловие - дореволюционное творчество Грина. И каждый вдумчивый читатель (каким я до этого года в отношении к Грину не был) должен был понять, что после Октябрьской революции Грин, собственно, не изменился в своем романтизме, а значит, продолжал быть разочарованным в революционном действии. Его не так легко было сбить с настроя. Только в конце 20-х годов, уже перед смертью Грин начал раскачиваться, как показал я на “Ветке омелы”.
Такая инерционность может заставить только больше уважать Грина. И такая инерционность как раз отличает его от очень легко колеблющихся и влево и вправо декадентов.
Первым декадентом (по некоторому исчислению) является Бодлер. Так вот Бодлер, исповедуя “искусство для искусства”, испытывая безнадежный разлад с действительностью,- в результате революции 1948 года от своих убеждений отказался. А после ее поражения - отказался от своих новых убеждений, вернувшись к прежним.
Но не ладя с действительностью до революции, революционером он, как Грин, не был. Все бодлеровские чувствования некоторым образом сангвинистичны, неглубоки.
Так же легковесно вели себя до, в и после революции 1905 года и русские декаденты и символисты. (Чюрленис, надо отдать ему должное, был гораздо более меланхоличным в сравнении с сангвиническим Мережковским и Со.)Так что наблюдается очень приятное мне различие между Грином и декадентами.
А ведь есть же еще отличие по активности. Декадент,- как и когда-то реакционные романтики,- уходит в себя, в сны, в туманность, в размягченность. Грин же - воплощенный активизм революционно-романтического, байроновского типа.
Активность “Алых парусов” - вовсе не активность революционера в жизни, а родственник революционного романтизма, не приемлющего жизнь и отчаявшегося в ней; активничанье не в жизни - в “Алых парусах”. От ощущения невозможности переделать мир в такой, какой хочется, бывший революционер Грин в советское время пишет “Алые паруса”. Но пишет их - человек, не окончательно разочаровавшийся в идеалах социализма (как и Коган в “Бригантине”, как и Высоцкий - во всех почти своих песнях).
И здесь я хочу отметить нестыковку. У Вихрова написано, что “Алые паруса” Грин задумывал в 1917 году, а у Паустовского, что в 1920 году
, “когда после сыпняка он бродил по обледенелому городу [Петрограду] и искал каждую ночь нового ночлега у случайных и полузнакомых людей”.Кто прав - Вихров или Паустовский? Вихрову я что-то уже не доверяю.
И я, конечно же, вернувшись из отпуска, прочитал то предисловие Паустовского, с которым полемизирует Вихров.
Смею ли я предположить, что только сразу после разоблачения культа личности Сталина Хрущевым можно было - по инерции откровенности - опубликовать такое, что написал Паустовский?..
<<
Пришла революция. Ею было поколеблено многое, что угнетало Грина: звериный строй прошлых человеческих отношений, эксплуатация, отщепенство - все, что заставляло Грина бежать от жизни в область сновидений и книг.Грин искренне радовался ее приходу, но прекрасные дали нового будущего, вызванного к жизни революцией, были еще неясно видны, а Грин принадлежал к людям, страдающим вечным нетерпением.
Революция пришла не в праздничном уборе, а пришла, как запыленный боец, как хирург. Она вспахала тысячелетние пласты затхлого быта.
Светлое будущее казалось Грину очень далеким, а он хотел осязать его сейчас, немедленно. Он хотел дышать чистым воздухом будущих городов, шумных от листвы и детского смеха, входить в дома людей будущего, участвовать вместе с ними в заманчивых экспедициях, жить рядом с ними осмысленной и веселой жизнью.
Действительность не могла дать этого Грину тотчас же. Только воображение могло перенести его в желанную обстановку, в круг самых необыкновенных событий и людей.
Это вечное, почти детское нетерпение, желание сейчас же увидеть конечный результат великих событий, сознание, что до этого еще далеко, что перестройка жизни - дело длительное, все это вызывало у Грина досаду.
Раньше он был нетерпим в своем отрицании действительности, сейчас он был нетерпим в своей требовательности к людям, создавшим новое общество. Он не замечал стремительного хода событий и думал, что они идут невыносимо медленно.
Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел. Ожидание нагоняло на него скуку и разрушало поэтический строй его ощущений.
Может быть, в этом и заключалась причина малопонятной для нас отчужденности Грина от времени.
Грин умер на пороге социалистического общества, не зная, в какое время умирает. Он умер слишком рано.
Смерть застала его в самом начале душевного перелома. Грин начал прислушиваться и пристально присматриваться к действительности. Если бы не смерть, то, может быть, он вошел бы в ряды нашей литературы как один из наиболее своеобразных писателей, органически сливших реализм со свободным и смелым воображением
>>.21-22. 09. 83
Заканчивает Паустовский фальшиво. Что делать? Не может же он быть до конца откровенным в широкой печати...
Своеобразие Грина в советской литературе и так завоевано. Без перехода от романтизма к реализму.
Еще более фальшиво и... блистательно Паустовский отвечает на им же поставленный вопрос: “
нужны ли нашему времени такие неистовые мечтатели”. Паустовскому бы цензура не пропустила речи, мол, нужны, потому что разгул мещанства, вещизма, предметообожания у нас, в обществе так называемого развитого социализма, не меньше, чем в те времена, когда Грин перешел от реализма к романтизму.И именно потому, что невозможна у нас пока такая откровенная печатная литература,- должна существовать рукописная, откровенная...
По Днепрову - социалистический принцип улучшения личного благосостояния (предметопочитания, в частности) - это сделать лучше всем, чтоб тем самым стало лучше мне. А несоциалистический принцип - это сделать лучше себе, лишь во вторую, или еще в какую-нибудь, очередь, делая лучше всем.
Где-то когда-то мы свернули с социалистического принципа. Или я чего-то не понимаю.
Бригадный подряд (на который потихонечку берут курс в экономике) - это ведь делание лучше не всем, а бригаде своей, чтобы лучше было мне.
Бригадный подряд требует ювелирной организации труда повсеместно, чтоб этот подряд жил повсеместно. А мыслима ли такая организованность в масштабе 250 миллионов человек? Если нет, то будет как и теперь, при редкостности бригадного подряда. Подрядчики выкладываются, а другие получают такие же или почти такие же деньги за ерундовую работу. И опять не будет распределения по труду - основного признака социализма. И подряд развалится, как и предыдущая экономическая реформа. И неравенство останется, а с ним - стремление к благу себе и в первую очередь за счет блага всем. То есть останется питательная почва мещанства и останется у антимещан потребность в Грине.
Но, во всяком случае, период массового улучшения (пусть даже сколько-то поверхностный) -
был. И Грин избежать целиком его влияния не смог к концу жизни (здесь я согласен с Паустовским).“Ветка омелы” тому свидетельство.
И какая же мучительная борьба осуществлялась в душе Грина!..
Теперь-то можно полностью понять смысл той загадочной фразы - предварения, - которым начинается “Ветка омелы”, смысл фразы, казалось бы, лишь шуточно относящийся к сюжету рассказа - к борьбе “с физиологической потребностью пить”
.23. 09. 83
Вот эта фраза:
“Многие прочтут и перечитают эти страницы, в которых описывается одна из самых ужасных битв на земле”.
Здесь, я надеюсь, я могу себя поздравить еще с одной ПОНЯТОЙ художественной деталью, являющейся, как и всегда неким иносказанием. Конечно же, речь идет не о борьбе с физиологической потребностью пить, а сама борьба с этой потребностью есть образ борьбы с “психической” потребностью пить, бежать от действительности в опьянение. И это-то и есть “одна из самых ужасных битв на земле”
.Грин в 1929-м начал думать становиться певцом социалистической действительности. Он начал верить, что социализм вот-вот наступит. Он не предполагал, что и через 50 лет еще будут серьезные сомнения не только в том, развитый ли у нас социализм, но и социализм ли вообще. (В последнем номере журнала “Коммунист” об этом даже напечатано.) Но в 1929 году Грин начал верить. И это сказалось.
В последних рассказах романтика у него - трактирная (в “Ветке омелы”) или воровская (в другом из последних рассказов). Есть даже сюжет, противоположный сюжету начала его романтического периода - сюжету “Острова Рено”.
В “Острове Рено” человек чувствует освобождение, вырываясь из действительности, удрав с корабля, и его за такое освобождение - убивают.
В конце своей жизни Грин пишет, как вор “убегает” от своей выброшенности из нормальной жизни, как он чувствует освобождение, становясь плотогоном, и его за
такое освобождение - убивают.Вернулся к действительности и Грин, но старое, рукою смертельной болезни - рака, убило его.
*
Я только поражаюсь теперь: два месяца, больше... потребовалось мне, чтоб записывать месячные отпускные впечатления духовной моей жизни в связи с искусством.
Как же бедны эти два послеотпускных, рабочих месяца! И насколько ж убога моя (по поводу искусства) духовная жизнь по сравнению с жизнью людей искусства, которых я тут смею... критиковать!
Однажды я слышал, как сбежала юная жена от мужа-артиста, ибо чувствовала свое ничтожество в его среде (среди Ефремова, Табакова...). А девочка была образованная, развитая...
25. 09. 83
Разбирая старые “Литературные газеты”, я наткнулся на упреки Нагибину за его “Терпение”...
Хлесткое это дело - сентенция профессионального критика, создающего о себе представление, что он всеведущ: <<
Общее место - наиболее легкий путь к успеху у не слишком квалифицированного читателя. Недаром странствующие мотивы, известные нам по творчеству Боккаччо и Шекспира, Диккенса и Филдинга, Гюго и Бальзака, со временем уходят в бульварную литературу, а ныне становятся штампами поп-культуры>>.Вот к этому,- если отбросить осторожные оговорки,- сводится ответ читателю, вопрошающему: “И все-таки что-то в этом рассказе, при всей неправдоподобности описанного, задевает. В чем же тут дело?”
В неквалифицированности, значит, читателя. Причем, не только данного, давшего повод критику выступить. Критик признает, что, несмотря на отрицательные (одна за другой) рецензии профессионалов, читатели все возвращаются и возвращаются к этому рассказу Нагибина.
Вообще говоря, критик взялся давать диагноз читательскому интересу, не проанализировав вкусы читателей. Надо было б анкету опубликовать с вопросами, раскрывающими, кто среди читателей есть кто. Я б, может, тоже отозвался. Я б написал, что “Терпение” меня до сердечной боли довело... Но предположим, что культурно-социологический разбор кончился б не в пользу читателей, которых “Терпение” “задевает”. Предположим.
Но явилось ли бы ответом заключение Латыниной (она - критик, взявшийся ответить, почему “задевает”).
<<
Обращение писателя к общим местам таит в себе возможность приведения в действие каких-то механизмов читательского восприятия, которые благодарно отзываются именно на узнаваемость... сюжета>>.По-моему, здесь то, что называют “гора родила мышь”. Больше половины листа газетного - и... узнаваемость приятна неквалифицированному читателю.
Это могло бы быть, по меньшей мере, рабочей гипотезой для другого - уже не социологического - для психологического исследования читателей, причем не только неквалифицированного, но и квалифицированного тоже.
А что? Выготский, например, чтоб разобраться в теории искусства, психологом стал профессиональным, думая через время вернуться в искусствоведение обогащенным.
Латынина же - далеко не Выготский, не только по таланту, не только потому, что не попыталась посмотреть хотя бы в сторону психологии, но и потому, что у нее и подозрения не вызывает, что догадка, которую она высказала,- есть догадка, предположение, абсолютно пока еще не пригодное для обоснования ответа читателю.
(Прав, пожалуй, один мой знакомый, заметивший, что крупные личности обычно не печатаются в “Литературной газете”.)
Мне лучше, чем профессиональному критику. Я - лицо в принципе неответственное: пишу для домашнего чтения очень узкого круга людей.
И вот я берусь выставить другую догадку,- почему задевает “Терпение”,- и мою догадку, смею думать, примет каждый, кто ее прочтет и кто читал “Терпение”, конечно.
Вот она. Идея “Терпения” чрезвычайно актуальна. Потому она задевает. Всех. Большинство, по крайней мере, которому не безразлична судьба наша общая, небезразлично будущее наше. Всех: и квалифицированных, и не слишком квалифицированных читателей - лишь бы совесть еще не потерявших. “Терпение” - пощечина потребительскому сообществу в нашем социалистическом обществе.
Я согласен с Латыниной, что потребители - дети Анны Скворцовой и их любовники - замечательно выписаны Нагибанием.
Но она считает, что Нагибин ошибся, так ярко выписав этих персонажей, ошибся, ибо, мол, лишил свой рассказ притчевости, всевременности. А раз, мол, Нагибин лишил рассказ условности, раз упирает на психологическую точность, то допускает, мол, произвол: <<
Анна Сергеевна - та же Пенелопа, для которой тридцатилетие жизни с деторождением, работой, семьей и бытом - какая-то мнимость, а реальность - лишь месяц коктебельского счастья [что было 30 лет назад], где царит юный Пашка, ее бог>>. Такие женщины, мол (сейчас - понимать?), нереальны (Пенелопы только в мифах, что ли, терпимы и художественны?).А вот такой вопрос: терпение мужа Анны - тоже выдумка? Терпение любящего и никогда не бывшего любимым?..
Ведь “Терпением”-то не зря названо. Ведь терпение мужа так ярко обрисовано, что подготавливает и к тому, что Анна-то страшно терпелива. Раз фантастически терпелив он, живя с нелюбящей его, то почему не может быть фантастически терпелива она, живя с нелюбимым.
Причем энергия ее ненависти каждодневно пополняется: она ненавидит приспособленчество, потребительство, а муж эти прелести являет ежедневно; родились один за другим и выросли двое детей, и повторяют жизнь отца, и множат ненависть Анны - а она все терпит. Когда же она взорвется-то?!
Не зря Нагибин так ярко обрисовал детей и их компанию. Для энергии ненависти Анны и нас, читателей.
Что же касается психологической нереальности того, что “взрыв” Анны вылился в половой акт с любимым человеком и в безумное желание броситься к нему, в его жизнь, броситься и в переносном, и в прямом смысле - за борт, чтоб поплыть к нему - мне лично все это кажется очень даже мотивированным. Мотивированным всем, что написано до того в повести. Мотивировано как раз психологической точностью предыдущего. Эта психологическая точность как бы иррадиирует на любовную сцену и на заплыв. И заставляет поверить в них.
Фрагмент же натяжки... я бы назвал иначе - трансформацией действительности. А мы же знаем, что от натурализма реализм как раз этой трансформацией и отличается. Трансформация делается ради идеи.
Латынина права в своих словах о любовной сцене, заплыве и факте пребывания безногого Пашки в инвалидном доме - “
искусственно созданная ситуация”. Но надо не порицать, по-моему, Нагибина, а спросить себя: зачем он это сделал? И тогда откроется (если еще не открылась) идея. А уж оттого станет ясно, почему “Терпение” столь многих задевает.Мы ж,- антивещисты,- и есть те терпеливые, которые даем над нами измываться себе не подобным.
Так как же сердцу тут не болеть, читая повесть Нагибина!..
А Латынина - трусиха.
Конечно: Нагибин свой крик ненависти, потерявшей терпение, оформил в трагедию. Это значит, что он замахнулся не на какие-то там отдельные недостатки, а на всю систему, породившую трагедию, на лжесоциалистическую систему.
И вскрыть такую вот причину, жгучую причину того, что “Терпение” задевает - уже у нее кишка тонка, даже у самой “Литературной газеты” со всем ее либерализмом - тонка.
Нетерпимость, нетерпимость к вещизму и потребительству - вот идея “Терпения”. А нетерпимость - это вовсе не тот принцип (чтоб было тихо), который принят у нас в государстве.
Вот и включает Латынина свой апломб всезнающего и заставляет молчать читателя - чтоб не нарывался на ярлык “
не слишком квалифицированного”.Не мне бы, конечно, очень хорошо осознающего свою неквалифицированность как читателя, очень хорошо видящего массовую неквалифицированность, - не мне бы возражать Латыниной. Но она хулит произведение-пощечину нам, терпящим вещизм. А я, кажется, даже малохудожественную вещь готов простить, раз она по идее - антимещанская.
Латынина, во всяком случае, не права в своем диагнозе, почему “Терпение” столь многих задевает.
28. 09. 83
Интересно, что эта статья Латыниной набрана на одной стороне со статьей Эльчина “Схема? Жизнь!”. В этой статье отвечается на такой вопрос уже другого читателя: “Не кажется ли вам, что авторы часто превышают свои “полномочия” в обращении с материалом реальной жизни?.. В жизни... на “доброго дядю” рассчитывать не приходится, как и на то, что “плохой” вдруг станет “хорошим”. Да и вообще у сложных вопросов не может быть легких, простых решений...”
Речь идет о пристрастии наших писателей к хорошим концам, и Эльчин доказывает, что это не плохо само по себе, что хорошие концы - совсем, может быть, не дань схеме, а приверженность жизни, что хороший конец иной раз (и иллюстрируются разы) вполне естественнен. Поэтому, мол, не надо читателям ругать писателей за хорошие концы, не надо ругать огулом.
В общем - очень обобщенно, в общем - с Эльчиным можно согласиться: огул - плохое дело.
Но соседство этих статей: Латыниной и Эльчина, охаивание рассказа с плохим концом и поддержка изо всех сил произведений с хорошим концом - настораживает. Что-то очень уж по-охранительски настроен отдел газеты, так комплектующий статьи.
Да и не правда, пожалуй, что хорошие концы - закономерны и естественны в хороших произведениях. Хорошее произведение доходит до глубины, а глубина нашего общества - лжесоциалистична, то есть трагична или, во всяком случае, драматична для идей социализма. Высокое искусство, если произведение хорошее - не может обойти эту трагичность, а значит, не может иметь хороших концов.
Эльчин пишет, что, мол, естественно “
растущее исподволь отвращение [героя одного] к своей грязной и выхолощенной жизни, его “раскаянье”, внутренний перелом”. А я не верю, что это естественно в глубоком смысле.Сколько у нас в стране миллионов людей работает в сфере обслуживания, и сколько из них стали практически преступниками? Я думаю - миллионы же. Сколько у нас несунов, так называемых? - Многие миллионы. У нас даже общественная норма сдвинулась.
Приведу непосредственный пример. На работе. Начальник сектора, с высшим образованием человек, был членом спекулятивной шайки (сбывали шерсть краденную). Так у нас выходили с ходатайством в суд, чтоб ему уменьшили срок наказания - хороший, мол, работник. Этот хороший работник сумел, видно, записать свою автомашину на кого-то, и ее у него не конфисковали. Так когда его выпустили из тюрьмы, он принялся на машине дежурить у вокзала - зарабатывать. А потом его приняли обратно к нам на работу, на режимное предприятие. И если часть начальников секторов его к себе принимать отказалась, то: 1) один все же принял, 2) не один и не два человека удивились поведению тех, кто отказался принять: почему же, мол?
У нас сейчас период массового ухудшения людей, а Эльчин уверяет, что естественно выглядит раскаянье преступника.
Вот если б писатель сделал бы своего героя-преступника каким-то исключением, если б,- по Тендрякову,- довел бы до невозможного, тогда б читатели ему поверили. Как задевает их Нагибин, доведя до невозможного свою Анну из “Терпения”.
Это тендряковское
невозможное нужно было бы писать в кавычках, и его нужно было Латыниной привлекать для ответа читателю, для которого любовная сцена и прыжок с парохода неправдоподобны.Плохие концы у нас теперь закономерны и являются знамением времени.
Если смею я привлечь такие глобальные примеры, то я привлеку: оборванный конец - знамение Нового и новейшего времени, когда царствует изменчивость жизни, ее диалектика и незавершенность, неустроенность; закругленность композиции - знамение древнего мира с его пафосом завершенности...
Если возможны такие глобальные схемы, то почему не могут быть схемы помельче. Вообще - “схема” как-то стала ругательным словом. А ведь схема - это экстракт, вытяжка, квинтэссенция, обобщение, правило. Это закономерность и, следовательно, глубинная естественность.
Пример Диккенса, приведенный Эльчиным,- лишь исключение, подтверждающее правило. “Плохой” капиталист у Диккенса становится хорошим человеком, когда перестает быть капиталистом, когда разоряется. Но ведь этакий нравственно хороший конец разве не есть в каком-то (экономическом, что ли) смысле плохим концом?..
Нет. Я не категорически против хороших концов в произведениях советского искусства.
Например, фильм “Место встречи изменить нельзя” (с Высоцким в главной роли) имеет хороший конец. Но это не значит, что я его не приемлю.
Фильм этот создает образ идеала милиции. И Высоцкий
такую страсть (как всегда) вносит в этот образ, что становится ясно, что это - недостижимый пока еще идеал. Не зря и время действия отнесено в прошлое - в первые послевоенные годы (когда еще сохранялась инерция массового улучшения людей под влиянием справедливой Великой Отечественной войны).У Нагибина (Латынина признает) - время остановившееся. У Высоцкого - прошлое время.
Чувствуется какое-то родство произведений? - Родство их - в отрицании наличной действительности.
Не зря представители нашей теперешней милиции протестовали против фильма (с хорошим концом, имейте в виду, а мне он - нравится - с хорошим концом).
Да. Я и к милиции где-то отрицательно отношусь. Имею право - как ни мало с ней сталкивался. (При мне избивали милиционеры пьяного за то, что он не раскрывал кулак, в котором зажата была двадцатирублевка. Он считал,- а мне рассказывали, что не зря,- что деньги у него отнимут насовсем. При мне избивал милиционер человека,- как оказалось, для меня оказалось, преступника, находящегося на работе в свободном режиме, без охраны,- избивал за то, что пало подозрение - только подозрение - что он украл плащ моего сослуживца. При мне, не видя меня, двое милиционеров пытались затащить пьяненькую женщину в кусты, а не в свою милицейскую машину, пытались, правда, лениво, и та вырвалась и убежала; зато заметив, что я со своей подругой все видели,- чуть не взяли в милицию меня с подругой, пытаясь спровоцировать меня на нападение на них, цепляясь к моей подруге.)
И, оказывается, не я один поставил милицию на подозрение. Сам Андропов, лишь стал генсеком,- уволил сразу министра внутренних дел, а через полгода ввел в милицию политорганы... (Это не мое наблюдение - моего идейного оппонента, но это не значит, что я здесь буду оппонировать оппоненту.)
А вот хорошо кончающиеся фильмы из серии “Следствие ведут знатоки” вызывают презрение. Они, фильмы, тоже, казалось бы, имеют отношение к идеалу: какой должна быть милиция по идее. Но без страстности Высоцкого нет в них ощущения недостижимости этого идеала. Их идеал - достижим. Вот такая должна быть милиция. Так записано в ее уставах, правилах. И, в общем-то, мол, реальная милиция к этому и приближается. Фильмы эти - наглядные пособия для милиционеров (которые в милицию идут ой-ли с такими целями; один мой знакомый пошел на юридический факультет, чтоб стать следователем, чтоб получать, как признавался, взятки с подсудимых, подследственных...)
Хладнокровие Пал Палыча (помня страсть Жеглова-Высоцкого) - знаменательна, как и хорошие концы во всей серии. Знамение это - фальшь. Липа.
В “ЛГ” идет очередная дискуссия - современна ли современная литература. Еще как современна! Часть ее. Та часть, которая обслуживает идеологические потребности липовой стороны нашего государства. Эта литература учит умению врать и притворяться, фальшивить и лицемерить, а если правду говорить,- то с такими оговорками и скруглениями, смягчениями и объяснениями, что и сама правда-то становится неузнаваемой как таковая.
01. 10. 83
Читаю об увольнении по требованию общественности натовского генерала, который ругая Европу за летаргию,- мол, мало вооружается перед лицом советской угрозы,- нашел своих избирателей и избран сенатором. Так вот, читаю: “
феномен отлаженного механизма западной демократии, где ничто зря не пропадает в хозяйстве. Генерал, вздумавший хаять собственную армию...”Я, конечно, рядовой, хающий институты собственного общества. Но будь я и генералом... В нашей демократии еще не дошло до такой рачительности, как на Западе.
Еще 01. 10. 83
И мысли в голове волнуются в отваге,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И пальцы просятся к перу, перо - к бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут.
А. С. Пушкин
Я нарочно пропустил строчку в стихе. Там - значится: И рифмы легкие (или стройные - не помню) навстречу им бегут.
Рассуждать я сейчас буду о стиле вот этого дневника, и легкие рифмы, тем более - стройные, к этому стилю неприемлемы...
Итак, я взялся ничего не зачеркивать в своем дневнике. И если буквально - слово сдержал. Но какой ценой?..
Я спутал Липатова с Аксеновым; я перепутал, что Омар Хоттабыч Женю Богорада не ботинки заставлял чистить, а мух отгонять; я фамилию составителя 6-титомника Грина (он же и автор послесловия) невнимательно посмотрел, и мне ее пришлось переделывать - только бы не черкать. Главное же: перечитывая, я вижу, что целые предложения, строки и абзацы местами непонятны. Я сам их теперь еле понимаю. Так как это показывать кому-то? А зачеркнуть и переделать - нельзя: зарекся.
И несмотря на это вся я настаиваю на этакой вот пробе пера. Пробе раскованного пера.
Раскованность в стиле, по-моему, в чем-то сродни той теме и идее, вокруг которой все время у меня тут вертится разговор, сродни той откровенности, о которой сказано в эпиграфе этого дневника.
А раз у меня содержание и форма согласованы... Да, вы угадали. Я считаю эти записки заявкой быть своего рода (брр, боюсь написать) художественным произведением (поскольку критические произведения - художественны, постольку и я позволяю себе пристраиваться со своей самодеятельной критикой).
У Шишкова (что “Угрюм-реку” написал) есть мысль такая, мол, идея есть сказочная живая вода, спрыснешь ею - и мертвое слово заговорит.
Как бы ни вторична сама по себе была критика в принципе, как бы ни вторичны были мои в ней пробы (относительно уже самой профессиональной критики), то есть как бы вторичен в квадрате я ни был, но все же, думаю, и на мою долю останется этой животворящей идеи, а значит, и мои мертвые слова должны цеплять за душу. Хотя б и немногих.
У А. Грамши есть такая мысль: <<
...в мемуарах и вообще во всех сочинениях, предназначенных для узкого круга и для себя самого, преобладает простота, умеренность, непосредственность>>. И противопоставляет далее Грамши этот стиль писем стилю литературных произведений, которые - в его противопоставлении - напыщенны, декламационны, воплощают стилистическое ханжество, связанное с атмосферой всеобщего социального лицемерия.Мой опус - для узкого круга, и мой пафос - антиханжеский. Так, может, мне дозволено вести себя раскованно?
У Виктора Шкловского я вообще ободряющие слова прочел недавно, буквально на днях: <<
Мне кажется, что так как человек мыслит словесно и печатно, что он думает, то и литературный язык должен быть языком, освобожденным от привычных рамок [это уже не то, что Грамши, писавший в обстановке фашизации Италии]. Писатель не подыскивает себе выражения, но прежде всего хочет передать читателю то, что он думает. Как часто люди лгут, подгоняя свои мышление под общее мышление стереотипами, готовыми конструкциями!>> Восклицательный знак Шкловский поставил... а слова-то уже с грамшевскими перекликаются...Таким образом, отталкиваясь от Шкловского, можно не унывать... Бы.
<<
“Страшно развившееся самосознание”... в отношении к своему ремеслу дает лишь иллюзию трезво сознательного контроля над собой. Очень часто утонченное самоистолкование автора оказывается не чем иным, как замаскированным, а иногда и прямо объявленным, оправданием творческой неудачи, но при этом сохраняется такой вид, как будто это все же - творчество>>.М-да.
И еще цитата: <<
...записные книжки необходимы писателю для... самоутешения, что ли>>.Все правда. Творчески импотентный, если можно так выразиться, период у меня. А может, и не период. Может, и не осенит меня больше ничего, что требовало бы месяцев и годов. А жаль. Вот я и изгаляюсь в дневник.
Шкловский прав, когда пишет о записях писательских: <<
перед самой записью, она происходит через наше мышление, как через фильтр. Мы выбираем то, что понадобилось>>.Так вот в записи мои (а у меня и настоящие записи есть) не попало (ловлю себя) о том, что язык Пушкина, Толстого оказывался языком будущего, языком, который современники Пушкина, Толстого - особенно корректоры, редакторы - современники (как бы это сказать?) не принимали. А спустя много-много лет их, Пушкина, Толстого, язык становился общепринятым языком.
Я - наоборот: общепринятый язык втягиваю в сферы, в которых он не принят (я очень-очень извиняюсь за то, что этот жалкий блокнот причисляю к сферам, себя - к писателям и т. п.). Так вот этого хода мысли Шкловского (т. е. о языке будущего) - я себе в записи, в настоящие записи, не взял.
То есть я понимаю, вообще-то, свое ничтожество.
И все-таки - она вертится...
Тот же Шкловский написал: <<
Человек начинает писать потому, что ему кажется - ошибочно или нет,- что он что-то придумал>>. Мне - кажется.И мне почему-то хочется написать что-то совсем уж раскованное.
Круг узок. Простят, даже если графоман.
А то, глядишь, писать научусь. От раскованности.
07. 10. 83
Мой сын не любит писать школьные сочинения. Он молчун. Но в отличие от меня - изъясняться от него требуют. Он же, я заметил, всегда в сомнении: хорошо ли то, что он собирается записать.
И я ему сказал:
- Пиши как попало. На черновик. Пиши, а потом будешь улучшать. Так даже Пушкин делал.
- Да ну?
- Правда-правда. Смотри.
И я прочел ему следующее: <<
...Пушкин творил с пером в руках; он заносил на бумагу почти все моменты своей творческой работы: целый стих, части стиха, отдельные слова, иногда в полном беспорядке, торопливо, в волнении, зачеркивая одно и заменяя другим, снова возвращаясь к первому, опять его зачеркивая и опять восстанавливая... То, что у другого поэта не доходит до бумаги - неясная мысль, слово, которое наверное будет отвергнуто,- Пушкин набрасывал на бумагу, сейчас же зачеркивая, иногда не успев даже записать слово до конца......Глядя на черновики Пушкина, мы не столько понимаем, сколько смутно чувствуем в нем, как в неподвижной, застывшей лаве, следы бурного творческого извержения. Вчитываясь в неразборчивые слова и строчки, идя последовательно по следам работы поэта, мы невольно заражаемся его волнением
>> (Бонди).Вот. Значит, даже черновики могут волновать, даже четвертьмысли, на глазах превращающиеся в полумысли и далее...
Как же не попользоваться такой возможностью воздействия.
Искусство вообще демократизируется. Раньше, например, кухня художника - его этюды, эскизы, наброски - ни за что бы художником не была показана публике. Теперь - иначе.
Недавно я читал, что даже был снят фильм о том, как снимался фильм и как он не был до конца доделан из-за того, что был лишен финансирования по политическим соображениям власть- и деньги имущих...
Театральные постановки подобные бывают. “Любовь в Старокороткино” - что-то из того рода...
Когда видно старание в отделке - это производит неприятное впечатление. И наоборот: есть какая-то симпатичность в расхлябанности, грубо говоря...
Во всяком случае, если чувствуешь, что не силен, то лучше не гримироваться.
А вообще говоря, я позволил себе самоанализ своего стиля под впечатлением покупки знаменитой “Стилистики” Томашевского.
Какие слова-то (!): <<
...единство формы и содержания вовсе не есть одно из требований хорошего произведения, без которого в крайнем случае можно и обойтись (когда содержание и без того достаточно ценно и к нему в случае неопытности автора может “приделать” соответствующую форму редактор). Единство формы и содержания есть одно из неотъемлемых свойств художественного произведения, не зависимое от желания и опытности автора>>. Опытности...Я уж не раз слышал,- от читателей моих опусов,- что они очень живо представляют меня, читая их.
Прав, значит, Томашевский.
Другое дело, что он пишет: <<
Всякая речь обладает своим стилем>>.Но опять первое дело, что если <<
самый стиль становится художественным средством воплощения замысла автора>>, то это - явление художественной литературы.В этом дневнике я разнуздан (по-плохому говоря) до предела. Но если мое “Со-мнение” пообещают напечатать, при условии, что я изменю стиль, то я откажусь взнуздать его больше, чем я там это сделал.
Однако, главное, из-за чего я здесь вспомнил Томашевского, это - созвучные пафосу моих записок слова: <<
Практика показывает, что при анализе художественного произведения очень часто камнем преткновения является анализ стиля>>.Большинство из того, что мне в этом блокноте удалось проанализировать, проанализировано по сюжету. Хорошие концы... плохие концы... повороты сюжета... черты характера героев... А вот особенности примененных слов - ускользнули.
Купив Томашевского, я дочитывал (в отпуске) “Житие Ванюшки...”. И захотелось мне провести стилистический анализ этого романа.
08. 10. 83
В собственно России я никогда не жил - только наездами, в командировках. И русская речевая стихия для меня некоторым образом, наверное, неведома.
Захотев проанализировать словоприменение в “Житии...”, я вспомнил сразу курский радиозавод. Я там несколько раз встречал ироническое применение официальной речи... Например, секретарь парторганизации конструкторского отдела, свой, вообще говоря, парень, вербуя-заставляя очередных кандидатов на работу в колхоз, вдруг начинает применять официальность. При этом - он умный человек - свою официальность он же и высмеивает.
Юридическая сторона таких сельскохозяйственных командировок все еще в стране не разработана. И парторг иронизирует в своей официальной (а ля с трибуны) речи, сидя верхом на стуле, что занятые домашними работами женщины должны добровольно свои стирки-варки отложить и поехать на неделю в колхоз.
То же - с дежурством в дружине.
И такая какая-то безнадежность в отношении ко всему этому безобразию... Так он издевается над собой - функционером этого безобразия. И так все же эффективно функционирует: так неуловимо его официальность переходит в угрозу, мол, если не подпишешься, то смотри...
В Литве советской власти намного меньше лет, чем в России, и в Литве к ней еще, наверно, не так привыкли, как в России, чтоб так испытывать людское терпение к ней.
В общем, ярко отрицательную окраску официальной речи слышал я в Курске...
А вот Ивана Мурзина принимают после школы на работу, и председатель колхоза хочет, как полагается, всучить Мурзину старый трактор:
“- Это все насчет того, чтоб меня на старый трактор посадить?
- Совершенно верно, Иван Васильевич [16-тилетнему парню]. Исстари заведено, что начинающие механизаторы берут под опеку повидавшую виды машину, проходят на ней тернистый путь познания тракторной механики, а уж затем получают новый механизм, иными словами трактор”.
А когда Иван отказывается, председатель изрекает:
“- Молодой человек в расцвете сил, опытный и знающий, не хочет убедиться в своем могуществе над непокорной машиной
”.Когда же Иван, получив даже новую машину, отказался на ней работать, пока не устранит недостатки (чтоб не пришлось потом ремонтировать ее сверх меры), Липатов относительно разгневанного председателя применяет такую фразеологию:
“...председатель Яков Михайлович Спиридонов [зачем-то полное именование] ультиматумом и двумя членами ревизионной комиссии, на бумаге показывал, что простой тракторных сенокосилок ставит под удар зимовку общественного стада...
”Чем, спрашивается, все это называется, как не издевательством над официальностью. Ну, издевательство, пожалуй, слишком крепко - вышучивание - лучше.
Сколько раз мне приходилось видеть-слышать, как при возникновении трений свой парень переходит на официальность, перестает называть меня, как раньше, по имени, переходит на фамилию, на имя и отчество.
Официальность берется как противостоящая мне сила.
Вот и у Липатова это применяют к Мурзину, к Ванюше, когда он выступает на собрании против руководства, против липового передовика:
“- Мурзин, послушайте, товарищ Мурзин! - с надеждой проговорил председатель.- Варькина вереть, может, и не могла оставаться в прежних размерах при общем росте достижений.
..”А вот имя, отчество и фамилия колхозного парторга вводится так: “...парторг колхоза Филаретов А. А., которого все так и звали - Филаретов А. А. - был в новом... костюме”. И свое унитазное именование он тут же, после речи председателя колхоза, и оправдывает:
“ - Ах-ах!- спохватываясь от бодрого сна взвился Филаретов А. А., который, все знали, спал не более пяти часов в сутки.- Продолжаем закрытое... Виноват! Продолжаем собрание”.
А это было собрание трактористов - совсем не партийное собрание.
Гришка Головченко, о котором еще не известно, что он обманом стал победителем соцсоревнования, выступает на собрании с такими словами:
“ - Скрываются вопиющие недостатки! Па-а-чему до сих пор из рук вон плохо организована выездная торговля предметами первой необходимости?.. Вот все написано, товарищи! В июне месяце передвижная лавка на фронте тракторного наступления побывала только три раза”.
Зачем было Липатову ставить официальную речь в столь ложные ситуации? - Для развенчивания Липы. Для развенчивания липовой стороны нашей государственности, как я доказал это ранее на разборе сюжета.
А вот зачем всегда при упоминании матери Ивана Липатов напоминает, что она телятница и что она знатная?
Я думаю, что тут Липатов развенчивает - в глазах Ивана - официально почитаемое трудолюбие.
В первых же строках романа вводит писатель этот мотив:
“Любка обрадовалась [платьям] и согласилась пойти к матери Ивана - колхозной знаменитой телятнице тетке Прасковье. Телятница сказала... [Не “та сказала”, а “телятница”
]”.Сразу еще не чувствуешь отстраненности. Просто - необычно. Первые ж еще строки. А вот дальше уже чувствуется: “...знатная телятница Прасковья уже уехала в район сидеть в президиуме”.
Но и здесь это еще нотка развенчания трудолюбия в глазах развеселой Любки. Мы еще не знаем, что по большому счету Иван с ней согласен в оценке окружающего как царства скуки.
И только в следующем по счету упоминании знатности и профессии начинает проглядывать (особенно в противопоставлении с “бесфамильностью” Ивана и в противопоставлении с его душевным состоянием), начинает проглядывать развенчание официально почетного трудолюбия и в глазах Ивана:
“В эти весенне-летние дни Иван жил медленно, тихо, смутно, точно угорелый после бани... Знатная телятница Прасковья до того обрадовалась, что давай сына целовать-обнимать, и назавтра Иван пришел [устраиваться на работу] к колхозному председателю Спиридонову Якову Михайловичу. Сел на хороший бархатный диван и стал слушать”.
Правда. Я забыл, что знатность телятницы вставлялась Липатовым еще раз (перед): когда мать, оскорбленная отказом Любки от ее сына, не пошедши к ней на свадьбу, устроила пир для себя одной у себя дома:
“...а мать - поклясться, умом тронулась!- накрыла на стол, выставив водку и богатую закуску: телятница Прасковья была не только знатной, но и денежной”.
Похоже, здесь Иван не только моральные знаки официального поощрения трудолюбия отвергает, но и материальные.
Эти мои размышлизмы о развенчании официально поощряемого трудолюбия в стиле слов, всегда окружающих упоминание о матери Ивана, - приобретают силу лишь в контексте уже написанного мной ранее, лишь в контексте анализа сюжета.
Так что? Разве это минус? Ведь анализ сюжета это же не враг анализу стиля.
В сюжете видно далее - после только что приведенных развенчаний официально поощряемого трудолюбия - как равнодушен был Иван к своей славе, к официальной, газетной. А стилистически, на анализе применяемых там слов, я этого доказать не могу. Значит ли это, что не верна вся моя версия о скучности действительности?
Я вообще больше, чем тут привел,- не могу проанализировать стиль. Значит ли, что моя концепция идеи романа ошибочна?
Думаю, нет.
Во-первых, произведение Липатова - не верх совершенства. А именно: не в каждой его клеточке, как сок - идея. Это только в шедеврах бывает, что в каждой. “Житие...” же растянуто. Ему бы не романом быть, а рассказом или повестью. Под конец его даже скучновато читать. Не сравнить с началом, с его кумулятивной силой соком идеи пропитанного каждого кусочка текста.
Во-вторых, действует-то в произведении система образов, а не один - стилистический - и все. Я хочу здесь немного поспорить(!) с Томашевским: если что-то следует из сюжета, то почему не может быть, что стиль это следствие усиливает, а усиление - не в каждой строчке есть.
Липатов не гений. И у него могут быть недочеты и ошибки. Почему не может быть его недостатком отсутствие стилевого усиления в последних трех четвертях романа.
А ни к селу ни к городу введенная Липатовым официальность обращения Ивана к отцу жены, приехавшему в гости - просто ошибка, по-моему. Как эта официальность работает? На какую идею?
Не исключено, впрочем, что я крупно чего-то не понял.
09. 10. 83
На днях я видел телепередачу о художнике Александре Шилове. Я видел одно или два его произведения и в натуре - в Манеже, на какой-то выставке. И обратил, помню, на них внимание. Да и как не обратишь? Он - исключение. Он имеет завидную смелость писать не так, как остальные. У него живописный принцип в технике - 400-летней давности: чтобы зритель не замечал, как сделана картина, чтоб ни мазков, ни штрихов не было видно.
По телевизору Шилова представили как преимущественно портретиста. Показали массу портретов. Один другого живее. Я и в Манеже видел два портрета - каких-то двух космонавтов. Живые люди. Ну, прямо живые. В Манеже медали на этих космонавтах - можно было различить каждую, какая это медаль. Роскошной глубины то`на костюм, помню... Легкая синева хорошо выбритого подбородка...
И в итоге - никакого впечатления духовного.
Что толку, что я увижу массу живо написанных людей?.. Говорят некоторые из них перед телекамерой, что Шилов угадал их характер. Что ж, им лучше знать. Я - не увидел. Одна, например, героиня социалистического труда сказала, что на портрете она себя увидела такой доброй, какой хотела бы быть. Когда она говорила это, ее так снимали, глаза ее так светились добротой, что на портрете она предстала чуть ли не злючкой...
Но, предположим, что Шилов действительно угадывает характер своей модели и умеет его передать в изображении. Так хорошо, если зритель такой пронзительный, такой человековед, что может увидеть на шиловском портрете этот характер. Хорошо, если зритель - физиономист. А если нет?
Я, например, считаю себя физиономистом в том смысле, что не отказываюсь судить о человеке по его лицу. Но я признаю, что в 90% случаев я ошибаюсь. И смею думать, что масса и масса людей не доверяет своим физиономистским впечатлениям. И им, массам, до лампочки, как говорится, физиономия, предстающая перед ними с портретов, особенно с шиловских, где он ничего не утрирует, не выпячивает.
Смею думать, что являюсь представителем этой массы, когда остаюсь совершенно равнодушным перед произведениями человековеда Шилова.
Одно, для меня, исключение явил Шилов: портрет Гагарина. Таким душкой он его представил... не в форме, без наград своих космонавтских... в рубашке с расхристанным воротом... улыбающийся... в повороте каком-то, оборачивающийся. Прелесть. Миленький. Открытый. Веселый.
Но весь мир знает его таким. Шилов хоть и не сделал никакого открытия в гагаринском характере, но приятно льстит миллионам, узнавшим на портрете известный им из третьих источников характер первого в мире космонавта.
То есть эффект “нравится” я объясняю тем, что существует какой-то умопостигаемый компонент в зрительском впечатлении. Умопостигаемый, а не зрительнопостигаемый.
Будь этот душка не Гагарин, он бы оставил людей равнодушными.
Ну, добряк, ну, весельчак, ну, свой парень. Ну и что? Мало ли какие есть на свете люди.
Здесь же - известный тебе человек. Совсем другое дело.
Вот эта необходимая умопостигаемость для эффекта зрительского сочувствия, чтоб понравилось, мне кажется, очень хорошо проявляется в самый момент возникновения искусства как такового.
В мою коллекцию интерпретаций художественных деталей я вписал вчера объяснение такой детали - почему ведущей темой палеолитических наскальных изображений является крупный зверь: мамонт, носорог, пещерный медведь, лошадь. Почему не мышка, заяц, лиса, почему не растения, почему не люди, не пейзажи...
Потому, оказывается, что в охоте именно на крупного зверя человек начинал чувствовать себя царем природы, победителем всех на свете, начинал чувствовать себя Человеком, существом, отличающимся от животных. И он, человек, тогда-то как раз не только субъективно, для себя, но и объективно становился Homo sapiens.
*
- Ошибка. См. http://art-otkrytie.narod.ru/peshchernaia.htm как верно.В изображении крупного зверя человек выражал свое человеческое величие. Происходило это потому, что глядя на изображение, человек умом вспоминал ощущения охоты в целом. Умопостижение, вдобавок к очевидности, создавало художественный эффект, создавало переживание, называемое словом “нравится”, создавало чувство соприкосновения с идеей произведения.
И тогда, кстати, не было не понимавших искусства.
На создании зрителям умопостижений специализировались символисты прошлого века. И я очень понимаю их главу, Беклина, заявлявшего, мол, бесплодная это область - портретная живопись.
А как понять Шилова?
Вот Ван Гог сделал автопортрет - с отрезанным ухом - так это могло что-то выражать, весьма фундаментальное; сам Беклин сделал свой автопортрет - художник, прислушивающийся к нашептыванию скелета. Тоже явно что-то выражал крупное.
Вообще (я согласен), что после Ван Гога художники не имеют морального права заглаживать свою живопись - слишком в тревожное время мы живем. Шилов в этом плане - конъюнктурщик, по-моему. Он паразитирует на нечуткости тех зрителей, которые не воспринимают наше время в какой-то степени трагически или драматически.
С такой вот точки зрения мне представляется симпатичным, что художник-символист нашего времени должен быть как-то притесняемым в нашей стране, хотя бы поначалу - притесняемым. Я имею в виду Константина Васильева.
О нем, правду говоря, я тоже видел (мельком) телепередачу. Его репродукции тиражируют теперь десятками тысяч экземпляров. Но это все стало теперь. А начинал он, узнал я, с выставок оппозиционеров-живописцев, с выставок, которые власти поначалу разгоняли, закрывали, не разрешали, преследовали.
Но, последовательно говоря уж всю правду, меня чем-то и Васильев не устраивает (как, впрочем, и все символисты, кроме Чюрлениса).
Попробую разобраться в себе. И в Васильеве...
Первый раз я его вещи увидел по телевизору и прямо вздрогнул.
То, что я видел, было иллюстрацией “Нибелунгов”. Там были древние легендарные богатыри. Германские... Вырисованные с подробностями, любовно, они отдавали все же какой-то холодностью, отчужденностью. Их злобные глаза как бы из глубины веков излучали флюиды, породившие германский фашизм в нашем веке. Какая-то тысячелетняя агрессивность чувствовалась в картинах с экрана телевизора.
Причем не голое отрицание этого умонастроения изображаемых героев ощущалось в картинах, а уважительное. И правильно: сила достойна уважения к ней. А все-таки эта сила (морально, что ли) отрицалась Васильевым. Отрицалась как зло.
Вспомнился Чивилихин. Он тоже отрицал русское окружение. Но у него отрицание получалось какое-то националистическое. А у Васильева - органическое. Васильев отрицал, отдавая должное врагу. Чивилихин же - принижая врага.
Вспомним, как Чивилихин отдавал первенство русскому древнему оружию перед западно-европейским: латам, кольчугам, даже шлемам. А у Васильева (увиденного мною по телевизору) шлемы были как-то особенно, изощренно отделаны. Остроконечны и закруглены книзу, но и не без каких-то угловатостей, в козырьках, наушниках. Шлемы русские - по картинам Васнецова, например,- выглядят несколько примитивными. Хоть, может, более мужественными, что ли, могучими, но и простыми. Той простотой, впрочем, которая сильна и победительна. В остроугольностях германских шлемов для меня есть что-то антипатичное.
Однако пусть даже это мое отношение к шлемам субъективно - остается какая-то неприятная проработанность деталей.
А еще Беклина, еще в конце прошлого века, ругали за натуралистические подробности. Для меня же Чюрленис, скажем, тем и лучше Беклина, что размывал свои изображения. Да и не только Беклина ругали. Большую часть немецкого искусства прошлого века называют культурно-реакционным - за попытки смутные идеи выражать натуралистическими деталями.
Так что прием Васильева (увиденного мною, повторяю, по телевизору) показался мне очень тонким - как отголоски персонажа в авторской речи о персонаже в литературном произведении. Мне показалось, что Васильев, стилизуя свою вещь под немецкую культурную реакционность прошловековую, отрицает таким образом агрессивность как национальную германскую черту.
А что оказалось...
Купив две пачки открыток-репродукций Васильева, я увидел, что так же, как “Нибелунги”, он иллюстрирует русские былины, да и не только их.
16. 10. 83
Вот “Вольга Святославович”. Германский рыцарь да и только. Шлем с острым козырьком, заостренные вперед наушники, заклепки какие-то у висков (на шлеме), ребристые накладки (к шлему) на затылке. Плащ стоит колом, как накрахмаленный. Поза неестественная: рукой левой оперся на поставленный и отставленный вбок щит, а правой рукой зачем-то замахнулся и держит в ней меч. Как портреты, выполненные в начале века фотографами, а в первой трети века - провинциальными фотографами. А в небе - облака, да такие, что в них видятся бык, сокол, волк, щука и буруны морских волн. Плохо я сказал: видятся - тончайшие детали этих объектов вырисованы Васильевым без всякого стеснения.
Вот если бы насмехался Васильев над примитивностью русских былин, скажем, тогда б годился такой нарочитый натурализм деталей, такая сухость живописи.
Но он же не только не насмехается, но даже не шутит. Он, Васильев, совершенно серьезен. И мне лично этот его нарочитый натурализм, эти его намеки, претензии на какие-то символы - кажутся жалкими.
Всегда может кто-нибудь сказать, что я чего-то не понял, а не поняв - хаю... Но, ей же богу, хочется мне, глядя на такой вот символизм, присоединиться к Луначарскому, клеймившему символизм начала ХХ века за полумысли и четвертичувства.
Глядя теперь на этого белоглазого злобного Вольгу Святославовича, мне кажется, что по телевизору я его и видел, принимая за рыцаря из “Нибелунгов”.
А вот открытка о самих “Нибелунгах”: “Валькирия над сраженным воином”.
Здесь шлем уже рогатый. Точно - германский.
И здесь вьюга нарисована, воин, заносимый снегом, и Валькирия, возникающая из тучи.
Вот бы, казалось, где отступить от сухой манеры живописи, вот бы где смазать границы мазков. Вихрь же.
Но Васильев не может так писать. Он и тут кладет краски жестко.
У него, вроде бы, кончающаяся метель: несколько мазков смазывают горизонт слева, справа же горизонт резок и виден на добрый десяток километров вдали. Поверженный рыцарь на три четверти резко выступает из снега. Только нижние складки одежды Валькирии смазаны - рождаются из метели. Вся остальная, она резка, ее конь - тоже резок. Ярок щит воина.
Все детали: и одежды, и черты лица, и богини - четки. Никакой неопределенности. А идея, по-моему, довольно неопределенна: холодна любовь воинственных дев к храбрейшим воинам, холодна и жестока. Зачем убивать, чтоб вознести ожившего к богу?.. Отрицает эту добродетель художник или отстраненно созерцает ее - непонятно.
Смутна мысль, а контуры изображенного - четки.
Плохо...
“Жница”.
Какая-то ожесточенность проскальзывает во взгляде девушки, наверно в изнеможении прислонившейся к тонкой березе. Спускается ночь. Выползает месяц из-за горы. Опрокинутый горизонт. Или это холм. Целый холм с несжатым хлебом. Хватит работы не только на завтра.
Но... изнеможение только в позе, не в лице девушки. У нее аккуратно заплетенная толстенная коса. Нерастрепанные волосы. Одета она изысканно. Как перекликаются васильки венка с синей юбкой, с голубоватой блузкой. Как если бы Любовь Орлову нарядили бы крестьянкой, дали в руки серп, вывели б в поле и сфотографировали.
Может, не физические тяготы ломают девушку? Может, она задумалась о том, что сулит ей наступающая ночь?
Черт знает.
Ясно только, что что-то хотел Васильев выразить, но гораздо лучше, чем выразить, ему удалось изобразить: кору березы, волосы девушки, складки блузки, красоту лица, печаль вечера, нежность изгибов рук - миллион частностей. А зачем все вместе это?
Дай Бог Васильеву, памяти о нем, чтоб я ошибался. Но если я прав, если он надутый, выспренний, претенциозный, то мода на него пройдет, и История о нем забудет.
Но все ж это интереснее, чем Шилов.
В упрек Шилову я вспомнил такой психологический эксперимент. Одной группе предъявляют фото, сказав, что это - лауреат Нобелевской премии, другой группе о том же фото говорят, что это - вор-рецидивист, третьей - еще что-то третье, и всем предлагают по фотографии, по чертам и выражению лица определить характер человека. И - в каждой группе (внутри группы) характеристика, в общем, одинакова и соответствует данной заранее установке, и - каждая группа отличается одинаково от групп других - в своих характеристиках. Обыкновенные люди и не могут иначе.
Я сейчас смотрел фотографии главарей американской мафии... Ничего. Обыкновенные люди. Ничего жестокого не увидишь, если не внушить себе.
Так что зрителям Шилова должно быть глубоко безразлично, как кого Шилов написал и показал нам. Мы с ними не знакомы.
Великие возрожденцы (которых Шилов нескромно называет своими учителями) своими портретами воспевали человека как существо
земное, возрожденцы спорили с религиозной идеологией. Уже сделать человека похожим - и то был вызов церкви, считавшей бренное, тело, внешнее - преходящим, недостойным запечатлевания.Пусть я не могу почувствовать этого пафоса возрожденцев, но я могу это понять умом.
А с кем борется Шилов? Что, о чем у него болит душа, о какой мирообъемлющей идее, когда он достигает похожести лица и характера?
Он сказал телезрителям, что портреты не объясняют. Вранье. А может, и самообман.
Не объясняют, между прочим, еще и тогда, когда нечего объяснять.
21. 10. 83
Задача моего дневника - дать пример того, как я дохожу до усвоения художественных деталей. Но есть и сверхзадача. Ее можно бы выразить пословицей: делай с нами, делай так, как мы, делай лучше нас. Сверхзадача - дать сколок с моей, с позволения сказать, духовной жизни по поводу искусства.
И вот я поймал себя, похоже, на приукрашивании этой моей части жизни. Приукрашивание в том, что я тяну сюда, в дневник, тяну сверх меры, кажется, свой духовный багаж прежних времен. Тяну из-за того, что жизнь моя бедна художественными впечатлениями. Что: за полгода - два романа и одна пьеса, один балет и вернисаж, один хороший фильм и несколько рассказов - вот и все. И вокруг этого-то мизера исписывается вот такая, как эта,- толщенная - записная книжка.
Поймал я себя по поводу, казалось бы, события - спектакля Арро “Смотрите, кто пришел” в исполнении Вильнюсского драмтеатра. Впечатления - никакого. Дневник должен “молчать”. Но... пустые листочки тянут - и вот мой изощренный ум изыскал повод объясниться.
Я доволен собой: мне не понравилась пьеса. Именно пьеса (если не ошибаюсь, если отвлечься от очень плохой игры вильнюсских артистов). Не понравилось мне произведение, идейная направленность которого должна была бы нравиться: наступление мещанской (торговой) аристократии на низшую интеллигенцию, трагическое отступление этой интеллигенции.
Я ведь беспрерывно сомневаюсь в своем художественном вкусе. Я верю, что мне может понравиться низкохудожественная вещь, лишь бы идейно она меня возбуждала. Это - по противоположности - как с женщиной: что до ее нравственных качеств, если она некрасивая, и, наоборот, что до ее безнравственности, если она красивая... А в произведении искусства для меня важна идейность, а особенно, если его идеи параллельны тем, какие я исповедую. Все, кажется, готов простить.
Можно ли испытывать отвращение к виду спящего очаровательного младенца? Я испытал раз. В “Зеркале” Тарковского. Тот ухоженный ребенок спит, в сытости и тепле, когда миллионы советских людей (во время войны) голодали и холодали, спит на глазах голодных и холодных главных действующих лиц фильма. И я был благодарен Тарковскому за то, что он сумел создать во мне глубоко духовное переживание.
Арро я должен благодарить за то, что он сумел - так сказать - не взволновать меня пьесой на волнующую меня тему.
Через женщин в ряды первосортных интеллектуалов врубается мурло мещанина. Продают мурле дачу умершего писателя - ради денег, которые нужны для чего-то модного и дорогого. Совращают одну за другой женщин ученого и поэта. Слабому полу захотелось почувствовать, но не какую-нибудь: физическую или умственную,- а особую - пробойную силу - чтоб квартиру поприличнее достал, на работу поприличнее устроил, на худой конец, на машине легковой чтоб покатал хоть и модную дорогую прическу дал бы возможность сделать.
Тщетно взывает интеллигент: “Да зачем нам больше!” Женщинам ихним требуется больше - и мужчины: ученый и поэт - отправляются циклевать полы. Это цветочки, надо думать. Сориентировавшись, ученый сделается репетитором, или дипломные, а то, глядишь, и кандидатские, работы за плату делать будет, за очень приличную плату. А пока, не успев еще переродиться, ученый получает разрыв сердца от того, что жена изменила ему со всесильным парикмахером, чемпионом Европы по стрижке.
Трагедия... А не впечатляет.
Почему?
Я где-то читал недавно сопоставление - не в пользу Арро - “Смотрите, кто пришел” и “Вишневого сада”. И там, и там, мол, - пришествие новых людей: сейчас торговой аристократии, тогда - буржуазии, и там, и там, мол, загнивание в прошлом достойных: тогда - дворян, сейчас - интеллигенции, но одно - классика, другое же - далеко не лучшее произведение.
Неужели,- подумал я,- Чехов открытие сделал, что приходит на первые роли в обществе буржуазия? Неужели вся беда Арро в том, что он опоздал лет на двадцать, что он ничего не открыл? Мне, например.
Что,- подумалось,- если суметь представить себе себя лет двадцать назад, наивного, мятущегося, ничего не понимающего, ищущего откровения. И не явилась ли бы мне пьеса Арро этим откровением?
Но, с другой стороны, разве откровение для меня - пафос “Жития Ванюшки...”? А вот ведь действует же...
Говорят: “Он, Арро, в лоб сказал. Вот и не впечатляет. А вот если бы с подтекстом, чтоб самому доходить нужно было - так понравилось бы”.
Но “Берегитесь автомобиля” - вроде бы, не меньше “в лоб”, а действует...
И я остановился на более приземленном объяснении: просто логика не выдержана.
В трагедии герой гибнет, но зритель уходит воодушевленный, унося, грубо говоря, дело героя в своей душе, с собой.
А в чем заключается героическое дело описанных Арро интеллигентов? Выдерживали ли они что-нибудь во имя своего лозунга “Да зачем нам больше!”? Отказались ли они от предложения подбросить на автомобиле до железнодорожной станции, отказались ли они от приглашения выпить, отказали ли своим любимым женщинам от приработка? Они ведь только и делают, что отступают, сдаются. Мог бы ученый и попривыкнуть к своему ничтожеству на этом празднике жизни, мог бы и не получать разрыв сердца от очередного поражения: от измены жены.
Пушкин самого лучшего царя - Бориса Годунова - выбрал для того, чтоб развенчать самодержавие. А вот Арро, чтоб показать поражение интеллигенции выбрал самых слабеньких.
Ну что это за поле сражения для “бедного” интеллигента - перепить своего идейного врага.
С врагами пьют лишь дураки, а тем более - напиваются.
Игра в поддавки получается, а не трагедия.
Смею думать, что если бы, по закону Выготского, Арро бы вывел на сцену твердокаменного, вроде, извиняюсь, меня, умеющего отказаться от прелестей жизни “умеющих жить”, если бы он нарисовал мою духовную победу при всех ударах судьбы, в том числе и при измене жены - вот тогда-то и получилась бы трагедия. Ибо зрители бы понимали, что такой герой - исключение, а правило - когда мещане разлагают интеллигенцию до уровня себе подобных.
И такая трагедия, вернее, драма проняла бы, хоть и старая бы это была погудка, и, может, и не на новый лад. Не в открытиях дело и не в подтексте, а в противочувствии.
Я не набил оскомину со своим Выготским?
Худо-бедно, а я обсудил еще одно культурное явление в моей жизни. И теперь, по своему обыкновению, оправдаю себя: а получать культурных впечатлений и нужно мало. Чтоб успевать их переварить. Чтоб успевать их включить в свою систему миро- и искусствообъяснения. Чтоб соотнести их с культурными событиями, что случились со мной задолго до сегодняшнего дня.
Не приукрашиваю я, пожалуй, свой дневник, вспоминая прошлое.
28. 10. 83
В старом календаре мне попался такой стих Маяковского (из "Мы не верим!")
Разве молнии велишь
не литься!
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной РКП.
Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.
И я решил сегодня обсудить его. Почему в нем такое обилие восклицательных и вопросительных знаков? Почему, вообще, у Маяковского пристрастие к сочинению новых своих слов. Здесь, в частности, “тысячестраницый” - не “тысячестраничный”, “миллионосильный”. Почему, вообще, Маяковский ломает строчки?.. И что если, отвечая на эти вопросы, иметь в виду их душераздирающее современное звучание: когда не революция у нас, а некая реакция. Из нашего сегодня это особенно хорошо видно. Ну, а что если Маяковскому это видно было еще тогда. Ведь поэты ж очень чуткие. И ведь известны ж мне теоретические положения об усталости от революции, от гражданской войны, от военного коммунизма, об усталости масс - не единиц, вроде Маяковского; известно ж мне о неприятии Маяковским такого положения. Что если представить себе, что у Маяковского душа рвалась на части, видя, как коммунизм откатывается. И как рвалась душа, так он рвал строчки, ставил восклицательные знаки и вообще вырывался за пределы языка русского, выдумывая новые слова.
Знаменитый Виктор Шкловский написал: <<
Когда-то Маяковский говорил, что перед революцией мы оказались в положении человека, которому нечем разговаривать: “улица безъязыкая”>>.Так что если это “
мы” относится к Маяковскому и к таким, как он, отрицателям?Перед революцией он отрицал царскую Россию со всей силой ненависти, и ему слов не хватало от ярости. В революцию и гражданскую войну ярость обратилась на врагов революции и народа. И опять слов не хватало, и вообще - выразительных средств. Ну, а когда начался спад революционной волны, Маяковский вошел в противоречие уже с правительством советским, и это тем большее отчаяние в нем вызывало, чем больше его разочарование было: как! От кого он получает удары?! От тех, кто революцию возглавлял!.. Кто получает удары? - Он, принявший революцию безоговорочно, самым первым.
Теперь широко публикуются такие вот записки Ленина:
<<
Луначарскому:Как не стыдно голосовать за издание “150 000 000” Маяковского в 5000 экз.?
Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность.
По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков.
А Луначарского сечь за футуризм.
Покровскому:
т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п.
1) Луначарский провел в коллегии (увы!) печатание “150 000 000” Маяковского. Нельзя ли это пресечь? Надо это пресечь. Условимся, чтобы не больше двух раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз.
>>Маяковский не мог не чувствовать отношение к себе. И мог он чувствовать себя так, что слов не хватает в языке, чтоб выразить отчаяние.
Вот он и кричит: “Нет!”
, “Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди”. Кричит в то самое время, когда Ленин дал НЭП-овский отбой.Маяковский не хотел отбоя. Вот он и рвется из строчек, из лексики, из правил речи.
Форма и содержание у него при таком взгляде оказываются поразительно совпадающими. И не таким уж лобовым он этак представляется, а даже с подтекстом.
Но... Не “чтение” ли это “во сердцах”? (Я на днях прочел такой термин в употреблении к очень уж распоясавшемуся критику, сделавшему сильный упор на субъективное в своих писаниях.)
Я к чему веду? Я веду к тому, что 30.09 я получил письмо от своего “личного” противника и врага субъективности - от С. Селивановой, о своих заочных контрах с которой я распространялся в своем опусе об Окуджаве
*.-------------------------------------------------------------------------------------
*
- Он включен в “Четвертую книгу” серии “Книги прошлого”.-------------------------------------------------------------------------------------
Да. Прислала письмо. Оказывается, она - зав. отделом литературоведения в “Литературной газете”. А я их отругал. И вот они ответили и - в кои-то веки! - хвалят меня. Рукою Селивановой. И обещают обязательно учесть мою точку зрения.
Дело же было в том, что я, в духе своей тенденции (особенно проявляющейся в этом дневнике) к демократизации критики, к упрощению ее языка, к внедрению в высокие критические сферы разговорных, неотшлифованных оборотов живой речи - так вот, я - откликнулся, очень положительно как читатель оценив факт публикации в “ЛГ” статьи Гачева - бунтаря во много раз большего, чем я (я извиняюсь), - бунтаря в вышеуказанном стилистическом духе. Причем в соседней статье, в статье о нем, мелькнуло, что Гачев и в содержательном отношении бунтарь, личность чрезвычайно откровенная и смелая. Так мне (имея в виду возможную публикацию “Со-мнения”) выгодно распространение в печати терпимой атмосферы к таким вот, как (извиняюсь) мы с Гачевым, хулиганам. Вот я и похлопотал, раз читателей просят откликнуться. Да еще и свое фэ редакции выразил за то, что еще смеют сомневаться, мол, хорошо ли они сделали.
А они мне в ответ закивали головой. Да кто? Селиванова, которая безоглядность субъективизма так хлестко изругала в “ЛГ”.
И сейчас я вообще занесусь...
Не из-за благожелательного ответа: он мог быть просто формулой вежливости, а из-за того, что я прочел в одной статье Гачева, которую я, по свежему впечатлению от его газетной заметки, пошел и нашел в читальне.
01. 11. 83
Еще до читальни: по статье его и о нем в “ЛГ” - я начал примерять к себе эпитеты, которыми нарекает он сам себя и которыми нарекают его:
жанровый преступник
,свобода от этикета литературных рубрик
,энтузиастический и неосторожный мыслитель
[как я спутал: Аксенов - Липатов],мысль его перехлестывает “допустимые” пределы,
его заявочка: “точность” - недаром от слова “точка”: ну и топчись на точке
,демонстративная свобода
[как я спутал чистку ботинок с заданием прогонять мух],дразнящее нарушение “правил хорошего тона”,
отказ от традиции упаковывать каждое свое суждение в ватную обертку осторожных оговорок, снимающих напряжение ищущей мысли
,вычурность слова-образа, вдохновенно пущенного в ход без тормозов строгого художественного контроля
[у меня, например, “Липа”], обязательного для любого рода творческой деятельности,вышел за стилистические берега даже самого свободного жанра и метода.
Чувствуется сплав эстетического и идейного хулиганства, вырвавшегося к публике, которая хоть и шокирована, но потрафит?
(Я, кстати, видел Маяковского в фильме “Девушка и хулиган” и сегодня, кажется, понимаю и почему он взял себе эту роль, и почему он ее так сыграл - эстетизировал хулиганство.)
Ну, и вот я дорвался, наконец, до гачевского парадокса “О художественности”. Чего я только там ни увидел! Сплошь и рядом - по два двоеточия в одном предложении... По два, по три, по четыре слова через черточку, например, “факт-объект-предмет-изделие”... Нелепые словечки собственного изобретения: “процедурирует”
, “издействие”, “проповедальный”, “информатики, психотики”... Нарочито низких, жаргонных, почти и просто вульгарных слов и выражений - пруд пруди: “а меня тошнит от этого. Тьфу”; “но - уф - дай дух переведу!”; “народы-то читатели сейчас стали умные”, “жанрик испытанный”, “технарь”... И еще видимо-невидимо - как о Гачеве выразились - нечаянностей, когда читатель застает Гачева врасплох, когда Гачев оставляет текст как написалось (это Аннинский так определил Гачева, причем все определения - в кавычках, то есть Гачев, якобы, притворяется: старается не притворяться и не стараться; тут я с Аннинским не согласен). Так вот эти “как написалось” у Гачева прямо дикие: как у канцелярских крючкотворов два века назад: “на многое замахнулся слишком сегодня”... Что это значит? “Слишком замахнулся сегодня на многое” или “слишком на многое сегодня замахнулся”? По контексту - второе, хотя и первое немного подходит. Но “слишком сегодня” - это уж слишком... (Я у себя многое бы выправил в дневнике, если б позволил себе черкать. Но почему ж ни я, ни Гачев этого не сделали?)И вопрос этот вовсе не в скобках должен стоять...
И Гачев отвечает на него так, как я недавно: о сродстве раскованности с откровенностью этого моего дневника. Говорит он об отказе от по-прежнему понимаемой художественности, когда откровенен и смел. И сам он при этом достаточно откровенен и смел и выражается это у него не только в содержании, но и в форме - в отказе “от грамматик и правил”:
“А может, взорваться сейчас должна художественность такого типа - заклиненного на мастерстве: воздуха ей не хватает и соответственно - пороха, чтоб подъять бремя жизни и ее смыслов. Народы-то читатели сейчас стали и умные, и сметливые, и образованные - и захватывающие перипетии миропониманий, авантюры в духе, парадоксы и сюжеты в концепциях и теориях наук и культур и эпох - разве не имеют право стать предметом художественного мышления и вымысла и фантазии?”
Итак, более смелые темы должны дать новую художественную форму. А старые, значит, темы - и форму художественную оставляют старой, а значит, и превращают эту старую форму в нехудожественную, в невоздействующую на читателя. Так, что ли? - Вроде так.
“...А литература все себе знай накручивает-наяривает сюжетцы про то, как Таня любит Ваню, а Ваня любит Маню...”
Я, кстати, тут же вспомнил, как один рабочий жаловался на наши верха за то, что те, мол, сознательно делают нас (он имел в виду и рабочих, и интеллигенцию) темными, не посвящают нас в политические пружины и т. п. Он прав, рабочий, где-то по большому счету. Я “Дипломаты” читал когда-то. Так там написано, что Ленин был против тайн... У нас сейчас многое не так, как делал Ленин, значит, и тайны есть от нас...
Но это направление слишком далеко уведет. От Гачева... Ибо Гачев смел-смел, а до политики боится дотрагиваться - все-таки публично выступает, а не в дневнике, как я, и не приватно, как тот рабочий. Гачев свои “авантюры в духе” решил противопоставить не политике, а науке. Так безопаснее. И применяя - будучи безответственным самодеятельным критиком - “чтение во сердцах”, я предлагаю следующую цитату из Гачева читать, имея в виду что-то вроде моей Липы, что извлек у Липатова:
<<
Это уже... “противоискусственно” в современной насквозь искусственной цивилизации, что во всем есть плод искусства, техники, нарочитости - “индустрии” - “промышления” - “промышленности”, тогда как художник... выражает гораздо более натуральный, естественный человеку способ производства и жизни. И - чем ближе к природе, к “неискусству” - тем художественнее будет его сочинение - вот ведь какой парадокс у нас сам собой вышел - просто из игры слов вроде бы явившийся...Итак, вот что такое художественность: это позиция естества, его точка зрения - в насквозь искусственном современном мире и быте и отношениях межчеловеческих...
Прямодушно и простодушно вопрошать и глаголить - вот позиция “искусства” и художества в современном мире без козне-хитростей (как мне сообщил филолог Гаврюшин Н. К., исследовавший термин “техника”,- так его переводили в Древней Руси: “козни”, “хытрости”): достаточно кругом всяких таких “хытростей” и кузнецов-кознецов нашего счастья.
[Наше поколение будет жить при коммунизме!] А художник-недоросль, как мальчик в “Новом платье короля”, среди всеобщего морока мошенников, которые играли как раз на этой струнке - страхе человека показаться необразованным, невежественным, неумным,- дерзает наивно завопиять: “А король-то - голый!” - так неучено, непрофессионально, некорректно, неэтично!>>Это ж мое кредо! Я его даже заявил. Не помню, может, и в этом дневнике... И далее - не могу не похвастать - Гачев мне сердце маслом смазывает:
<<
Потому-то так тянемся мы ныне к простой достоверности дневников, документов, записей немудрящих,- что слишком много, перенасыщена цивилизация сегодняшняя всякого рода лукавым мудрствованием - в том числе и из оперы художественного вымысла и мастерства>>.И далее Гачев ставит дату: 29. 11. 79. Оказывается, на первой строке своей статьи он тоже поставил дату: 28. 11. 79.
И Гачев написал - в форме дневника. Чтоб ему верили. Чтоб он сам себе верил, чтоб не дал себе соврать. Чтоб написалось - как для себя. Без права на зачеркивание. И никакое это не притворство и не кокетничанье.
Все эти гачевские выверты Аннинский (его ученик) оценил таким образом, что я отчасти пришел в восторг, отнеся оценку в какой-то мере - к себе.
<<
В финале своего “Парадокса о художественности” Г. Гачев предлагает мне, читателю, ответить на “вопрос-загадку”: “То, что вы прочли только что, художественное или не художественное?”Отвечаю: к сожалению, художественное
>>.Ура! Значит, может быть, и я могу написать нечто художественное.
Но не для того, чтоб на этой части ответа Аннинского самоутвердиться, не для того, чтоб отговориться от его “
к сожалению”, я спорю с Аннинским.Этак - по Аннинскому - можно и Маяковского упрекнуть в кокетстве и притворстве. А у Маяковского сердце рвалось. Он не мог иначе. И Гачев не может иначе. Липа наша его заедает.
Аннинский: <<
Художественность как знак присутствия личности в безлично-функционирующем мире Гачев... со вниманием комментирует, верно показывая, что ТАКАЯ художественность, естественность, естественно выражающая дух творца, не должна слишком о себе заботиться>>.Вот только с этим и могу я согласиться.
А Аннинский: <<
Но в свете этой истины философское самопознание Гачева выглядит стилистически странно, потому что он... заботится об этом! В его демонстративно растрепанных фразах, в нарочитой “невыправленности” текста, в “нечаянностях” словоупотребления есть своего рода щегольство... Во всей этой “нечаянности”, повторяю, много специальных усилий, и я... воспринимаю эти усилия как знак недоверия мыслителя к своим силам.Это тем более жалко, что перед нами человек, которому это совершенно не нужно
>>.А мне нужно. Мне еще ни один профессионал не сказал: хорошо. Но не в том дело. А дело в том, что Гачев себя чувствует, как с закрытым ртом. Потому он и кричит, а не говорит по-человечески.
И если я, в своем узком кругу, не чувствую себя, как с закрытым ртом, то мне и непозволительно кричать по-хулигански. Поэтому, заканчивая этот блокнот, я закончу и этот дневник, прекратив, заодно, и его особую разнузданность.
Я не согласен с Гачевым, что “народы-то сейчас стали и умные” настолько уж, что можно с ними так обращаться, как Гачев себе позволяет. Слишком уж он. И я соглашусь здесь даже с Селивановой - как зав. отделом побаивающейся пускать Гачева на страницы “Литературки”. Я не стану ей писать, что изменил слегка свое мнение о Гачеве. Суть моего мнения осталась прежней: да здравствует гачевская смелость. Поправка лишь в одном: уважай, Гачев, нашу темноту: мы можем и не выдержать тебя, и это будет очень жаль. (Может даже я и напишу ему об этом...)
Вот я и завершил круг своих мысленных странствий за Гачевым.
Завершил и дневник.
Прощаюсь и... прошу прощения, если зря отнял время.
13. 11. 83
Конец второй интернет-части книги “Вроде дневника”
| К первой интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |