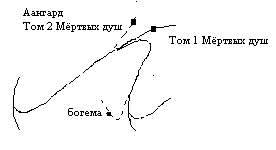
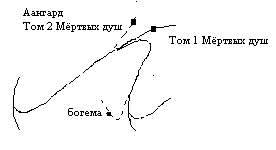
С. Воложин
Гоголь. Мёртвые души. Начало 2-го тома.
Художественный смысл
|
От Нетерпения это: дескать, уже есть, уже есть люди, с кем возродим Россию! |
Нетерпение (“Россия, вперёд?”)
|
Легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. М. Бахтин |
Нижеследующее необходимо читать после статьи с названием “Преднетерпение”.
Грех разбирать неизданное автором произведение, которое он счёл неудавшимся и сжёг. Тем более – по случайно сохранившимся кускам черновика, тем более - разбирать лишь начало его. Но если это второй том “Мёртвых душ”… (“Мёртвые души” ж всё-таки неоконченная вещь.) Если первый том вызывает споры: что хотел им сказать автор… То грех не проверить такую возможность: ведь была ж какая-то логика в сочинительстве второго тома; вдруг в нём найдём, за что он сожжён, и вдруг эта находка подтвердит или опровергнет результат синтезирующего анализа текста первого тома.
В первом томе “Мёртвых душ” Гоголь имел дело с “Адом” России. Перед нами открывались всё более низкие его круги. От самого верхнего (с никаким Маниловым) до самого глубокого (с порождающим бунт против строя безответственным временщиком Аракчеевым). Чичиков так или иначе относился к грешникам этого Ада, то - более или менее одобрительно кивая их грехам, то - отчуждаясь. Его кругом сопровождал повествователь, то рефлексирующий, - как бы отделённая от Чичикова совесть, - то безучастный историк его похождений, Чичикова не осуждающий, а как бы соблюдающий нейтралитет и увлекающий читателя героем. И в каждом эпизоде, в каждой строчке перед читателем шла игра оценок. Текст жил, дышал, переливался красками эмоций. Амплитуда переживаний от положительных к отрицательным – из-за большой грешности персонажей – оказывалась тоже большой. Читать – интересно. И ведь был ещё у кого-то ещё и катарсис от столкновения противочувствий, озарение, что этим всем хотел сказать автор.
Во втором томе, в первой его редакции (http://imwerden.de/pdf/gogol_mertviya_dushi_tom2.pdf), в первых главах, в “Чистилище”, так сказать, безусловных грешников нет. Тентетников – просто устал побуждать крестьян делать своё, доброе дело. Хлобуев – просто не умеет противостоять злым выходкам судьбы (падежу скота). Петух, впав в запредельное хлебосольство (аж заложив имение для этого), не догадывается, что разоряет своих детей. Кошкарёв – во внедрении в своём имении бюрократической заорганизованности доходит до просто глупости и тоже не замечает вреда. Лучший хозяин в России, Скудронжогло, сея вокруг разумное, доброе, но не вечное, а сиюминутное довольство физической, органической жизнью, при всём своём уме, не замечает, что засушил свою жену.
Развернувшееся ещё с первого тома разнообразие человеческих типов, продолжающееся в начале тома второго, в принципе поддерживало оптимизм автора насчёт потенциала России к возрождению. Но меньшая в начале второго тома грешность персонажей сама по себе снижала увлекательность чтения. Кроме того, падала необходимость угрызать совесть Чичикова, вращающегося теперь среди, в общем, добрых людей. – И вот усох рефлексирующий повествователь. Комизм исчез. Текст перестал играть в каждой строчке. - Гоголь-художник, наверно, стал страдать: исписался, мол. Он даже – в следующем после середины 4-й главы тексте – вернулся (против логики “Чистилища”) к прямым преступникам и заставил и Чичикова сделать подложное завещание. И повествование, конечно, ожило. Вернулся комизм. Но пропала общая дантова перспектива. (Так что для прояснения художественного смысла первого тома можно во втором томе текст после середины 4-й главы даже и не разбирать: его-то сожжение объясняется элементарным уклонением от темы и сверхсюжета, да и просто – в конце – торопливой скомканностью описанного.)
А тогда в первых трёх с половиною главах второго тома раскрывается беда с замыслом тома первого.
Хоть христианство с самого появления своего и предлагает людям плевать на мир здешний в расчёте на мир иной, но не осознавал ли Гоголь в глубине своей души, что ерунду он в 19 веке исповедует и художественно проповедует первым томом “Мёртвых душ”: неконкурентный от воздержания будущий мир? Выдумку. Желаемое, но невозможное. Выдумку, пусть при всей своей иррациональности довольно всё же рациональную: смирение есть спасение в безнадёжной ситуации. И не струсил ли он публиковать продолжение “Мёртвых душ”, чтоб не стала очевидной утопичность замысла поэмы?
Ведь без продолжения поэма имела хотя бы художественную ценность: идея дана “не в лоб”. Оттого – смутна. Действует больше на подсознание. И, будучи неосмысленна-неразгадана, не квалифицируется эта идея (и поэма) как вредная. И – можно спокойнее умереть. – Россию-то он всё-таки любит и зла ей не желает, а первый том уже – как слово-не-воробей – вылетело, и уже его не поймаешь.
Чтоб Гоголю так думать, нужно, правда, нам предположить, что он был способен думать, что выражать “не в лоб” это и есть художественно выражать, а также, что слово “подсознание” имело хождение в гоголевские времена. Ну и ещё – что самоограничение было именно полуосознаваемой идеей гоголевской поэмы (да и “Шинели”), существовавшей вплоть до окончания первого тома (и “Шинели”) больше в подсознании, чем в сознании, иначе получалось бы, что Гоголь не художник, а иллюстратор идеи, вполне осознанной автором до того, как он взялся за перо.
Но вдруг такие предположения не совсем бессмысленны… “В своей “Страшной мести” он написал: “Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее”. Мы видим, что еще в начале 30-х годов XIX века Гоголем было предвосхищено учение Фрейда о подсознании” (http://magazines.russ.ru/znamia/2005/3/vay19.html). – Тогда вопросы, заданные выше, существенные вопросы. - Так всмотримся ж внимательнее для ответа на них в этот сохранившийся первый черновик начала второго тома “Мёртвых душ”.
А там иные ситуации оказываются совсем не безнадёжными, как в “Аде” первого тома, где требовалось религиоподобное восполнение несчастия от знания, что ЭТИ беды - неизбывны.
Тентетников, да, впал здесь в депрессию, в бездеятельность. Да, первое впечатление, что это от какой-то прямо энтропии всего и вся. Слишком-де надо стараться: держать в подчинении себе - крестьян, в послушании крестьянам - их жён. Слишком. Устал, мол. - Но, похоже, усталость имела себе иную причину (хоть это и затемнено сюжетом: сначала ж там – об усталости с крестьянами, а потом – о провале с Улинькой). Ведь от появления Чичикова и его действий произошло примирение Тентетникова с генералом Бетрищевым, и совершилась помолвка с его дочкой. Депрессия, понимай, уйдёт. Но главное: произошла она не от какой-то неизбывной, экзистенциальной энтропии, с которой не сладить, а из-за почти недоразумения. Генерал, пусть и в отставке (шишка всё же), любил переходить на “ты” с окружающими чином пониже. Так почему его было не уважить в этакой малой слабости? Зачем было Тентетникову обижаться? – Недоразумение ж! – Это понял Чичиков и всё уладил (заодно под хорошее настроение купив у генерала мёртвых душ).
Но недоразумение-то – плод авторского сочинения (рояль за кустом), субъективности. Гоголь вполне мог это осознавать. И, не признавая мощи субъективного, конечно же, со сластью уничтожил он свою придумку за то, что она именно придумка.
Такого вот рода призыв касательно хандрящего - из-за пустяка, оказалось, - Тентетникова: “вперёд – это чудное словцо, так знакомое Руси, производящее такие чудеса над русским человеком”, - просто ж дезориентировал, получается, соотечественников, не с пустяками век за веком имеющими дело.
От Нетерпения это: дескать, уже есть, уже есть люди, с кем возродим Россию!
А их-то нет!
Так что – уничтожить главу!
Уничтожить Бетрищева, с его подмесью “себялюбия, честолюбия, самолюбия, мелочной щекотливости личной… любил первенствовать”, намешанных, “как случается в русском человеке… в каком-то картинном беспорядке” вместе с достоинствами, - Бетрищева тоже было не жаль. Потому что картинность беспорядка оказалась просто заявлена. Как на мирном поприще задействовать положительные свойства генерала в отставке: “самопожертвование, великодушие, в решительныя минуты храбрость”, - сделавшие его, в числе других, спасителем отчества в 1812 году? Он из-за них и мирную службу-то оставил. Как теперь дома дать ему “роль русскаго барина” и при том – возрождал чтоб Россию на пути к самоограничению?
Объяснить происхождение его отрицательных свойств “полуиностранным воспитанием” - мало помогало торжеству сомнительного для других идеала.
Разве что вдруг усомнившемуся в России Гоголю было жаль лирического отступления, вырвавшегося по поводу чичиковского анекдота о самооправдании грешников: “полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит”.
“Что значит, однако же, что и в падении своём гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушённой гнётом подлых страстей, ещё пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, ещё вопиющий: “Брат, спаси!” Не было четвёртого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата”.
(Трое были: генерал, смеявшийся над пострадавшим от пройдох, Улинька, гневавшаяся на них, и Чичиков, смеявшийся ловкости пройдох, добивающихся у пострадавшего прощения.)
Так четвёртый был – автор. Собственной персоной, раз исчез призрачный персонаж-рассказчик. Это от его имени лирическое отступление. И касается оно как раз обсуждаемой проблемы. – Не признаётся ли тут автор “не в лоб”, что в первом томе пафос исключительности русской был дутый и был хитрой, от противного, просьбой полюбить русских чёрненьким; что никакой они не достойный народ, а пропащий и погибающий.
И это было “не в лоб”. Что было художественно и чего было жалко.
А “в лоб” было – сожаление о Чичикове, который – вот – продал душу в лебезении, хоть и сделал доброе дело: помирит сейчас генерала с Тентетниковым. “В лоб” - сожаление о Чичикове, который не унимается в своей низости и – вот - не чистится в Чистилище.
Так по обоим поводам: из-за негодности для идеи Мизера и величавого Бетрищева, и скрытого смысла лирического отступления, - надо было и эту главу уничтожить, чтоб не подводить первый том под идейное развенчание.
Всмотримся в ещё одного обиженного судьбой помещика, Хлобуева, и вслушаемся в его разговор:
“…мне кажется, что будто русский человек – какой-то пропащий человек. Нет силы воли, нет отваги и постоянства… Право, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтоб из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живёт, собирает и копит деньгу, - не верю я и тому. На старости и его чёрт попутает. Спустит потом всё вдруг! И все так, право: и благородные, и мужики, и просвещённые, и непросвещённые. Вон какой был умный мужик: из ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, - пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского и выкупаться в шампанском”.
Этот размышлизм произносится в связи с тем, что случился падёж скота у крестьян, вот он, Хлобуев, руки и опустил. И крестьянам допустил руки опустить. И – вот: общее прекращение работы и разорение.
А произнесено цитируемое после – с авторской подачи - демонстрации помещиком Скудронжогло Чичикову, во-первых, что надо было Хлобуеву делать сразу после падежа (купить крестьянам скотину за свои деньги), во-вторых, что конкретно нужно делать Чичикову с этим поместьем сейчас, после покупки его у Хлобуева, чтоб возродить всё и приумножить. Причём подчёркнуто, что хоть по крови Скудронжогло не совсем русский, однако… “Есть впрочем много на Руси русских не русскаго происхождения, но в душе русских”. То есть недостижительность из русского менталитета вычёркивается, казалось бы. И есть-де основание Гоголю и этот фрагмент уничтожить из страха за уже опубликованное.
Но что если сложнее... Что если в образе Скудронжогло исключение всё же из русского бесхозяйственного правила привлёк автор. Именно автор. Во втором томе уже нет повествователя-историка, воленс-неволенс следующего за Чичиковым и заставляющего нас ценить Чичикова и его пристрастия по-делячески. И факт: этот чичиковский идеал, хозяйственный Скудронжогло, что-то как-то слишком внезапно – даже для фрагментарно сохранившегося черновика - исчезает из повествования. Сам, понимаете ли, привёз Чичикова к нерадивому хозяину, знал к кому, а сам не выдерживает вида бесхозяйственности и уезжает. А Хлобуев, продавший Чичикову имение и, собственно, не имеющий теперь, где жить, остаётся перед нами. Да ещё и прославляется как тип:
“…на Руси, в Москве и других городах водятся такие мудрецы, которых жизнь – необъяснимая загадка. Всё, кажется, прожил, кругом в долгах, и обед, который задаёт, кажется последний, и думают обедающие, что завтра же хозяина потащут в тюрьму. Проходит после этого 10 лет – мудрец всё ещё держится на свете, ещё больше прежнего кругом в долгах и так же задаёт обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащут хозяина в тюрьму”.
Но прославление ли это? - Мы видим: применено дословное повторение реплик, что в первом томе делалось ради комизма. - Так что: автор тут смеётся над персонажем или пробивается насмешливый голос рациональных людей в голосе автора?
Дальнейшее показывает: перед нами второе. Автор же – за нерациональность.
“…Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольствовал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если бы кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нём хозяин. Сегодня поп в ризах служил там молебен; завтра давали репетицию французские актёры; в иной день какой-нибудь, почти неизвестный никому в доме, поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и никого в доме это не смущало и не беспокоило, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нём такой обед, который удовлетворил бы вкусу утончённейшаго гастронома, и хозяин являлся праздничный, весёлый, с осанкой барина, с походкой человека, котораго жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжёлые минуты, что другой давно бы, на его месте, повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нём вместе с беспутною его жизнию. В эти горькия, тяжёлыя минуты развёртывал он книгу и читал жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть выше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами наполнялись глаза его. И странное дело! всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь; или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нём и присылал ему деньги; или какая-нибудь незнакомая проезжая барыня, христолюбивая душа, нечаянно услышав о нём историю и тронувшись, с стремительным великодушием женского сердца, присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда и не слыхал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою”.
Прекрасное противопоставление. Рациональности – иррациональности. И верующий Гоголь не мог это сжечь. А сжёг.
Значит, не потому, что устыдился глупости в 19 веке христианской идеи воздержания.
Значит, кровью обливалось его сердце, когда сжигал. И лишь художественный вкус тут помогал ему сжигать: слишком уж прямолинейно он противопоставлял. Лирическое отступление это - почти религиозная проповедь.
А что было делать, когда современные ему люди для художественного (мизера) непробиваемы, данное “не в лоб” не чуют. Может, потому не чуют, что в окружающей их жизни мизера и нет как цели. И что ж, тем не менее, делать нетерпеливому?
Вот Гоголь описывает Скудронжогло. Тот говорит, говорит, говорит. Читаешь - скулы в зевоте сводит от долгой-предолгой инвентаризации технологических приёмов по увеличению эффективности сельского хозяйства в его имении. 6000 знаков потратил. – Так это отрицание. А что утверждается? – Просто и не прочтёшь. Надо теперь заметить отрицание кое-чего другого. Вот оно: “Константин! Пора вставать, - сказала хозяйка, приподнявшись со стула”. Оказывается, и жена тут. Одна строка ей на полторы сотни строк мужа и заслушавшегося Чичикова. Но может ли родиться читательское отрицание по поводу такого игнорирования мужем жены. И, главное, – от двух отрицаний – микрокатарсис: так (рационально) жить нельзя! – возможен ли?
Отрицание игнорирования жены – возможно. Но - не микрокатарсис. Ибо перевесило ж одно отрицание другого.
И слушательница читки этой главы Гоголем заявляет:
“Когда он читал главу о Костанжогло, я ему сказала: "Дайте хоть кошелек жене его, пусть она шали вяжет". - "А, - сказал он, - вы заметили, что он обо всем заботится, но о главном не заботится" ...” (Смирнова-Россет. Из воспоминаний о Гоголе. http://gogol.lit-info.ru/gogol/vospominaniya/smirnova-rosset.htm).
Бедный Гоголь. Он обманывает себя, что она его поняла. ТАК ему хочется, чтоб его понимали.
А разве ж это понимание? Читательница хочет, чтоб жена Костанжогло, была, как Костанжогло; как жена Манилова была, как Манилов. Как вещи помещиков в первом томе, были маленькими копиями их хозяев: “каждый стул, казалось, говорил: "И я тоже Собакевич!"”. Всё тут, во втором томе, чтоб – как там.
Да кто она, эта читательница?!
Она “обходилась с ним дружески, как <с> человеком, которого ни в грош не ставят” (Там же). И это - зная, что знакома “с замечательным человеком”. Она ценит его психологическую зоркость так: “В каждом из нас сидит Ноздрев, Манилов, Собакевич и прочие фигуры его романа”. Она признаётся о реакции на чтение им разговора двух дам из первого тома: “Мы смеялись, не подозревая, что смех вызван у него плачем души любящей и скорбящей, которая выбрала орудием своим смех...”. Кто-то её потом научил, что надо было иное на уме иметь, когда смеялась она.
И вот бедный Гоголь слушается её и вносит исправление.
(Я так пишу, будто видел черновик Гоголя: “…сочинение это дошло до нас в “черновых, давнишних тетрадях, нечаянным образом уцелевших от сожжения”. Но тетрадей, заключавших в себе продолжение “Мертвых душ”, нельзя назвать черновыми в собственном смысле слова. Оне были тщательно списаны самим Гоголем с предшествовавшей им черновой рукописи… и потом уже испещрены множеством разновременных поправок. В некоторых местах переделаны целые листы и страницы…в других прибавлены новыя, или изменены старыя строки, фразы или слова; одне поправки сделаны при переписке текста, другия – по готовой уже рукописи; одне – единовременно, другия – в несколько приёмов и разными чернилами: чёрными, бледными, рыжими, а местами и карандашом. Из всего этого видно, что Гоголь много раз принимался исправлять и переделывать своё сочинение”. Я пишу, будто исследовал, когда он послушался своей негодной читательницы. Я этого не делал, но не исключено, что, ведомый логикой, я предсказываю результат того, кто когда-нибудь исследует этот вопрос на самом деле.)
И вот Гоголь сперва меняет фамилию помещика, потом читает главу, потом вносит изменения, спровоцированные Смирновой-Россет:
“В комнатах мог только заметить Чичиков следы женского домоводства: на столах и стульях были поставлены чистые липовые доски и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке.
- Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена? - сказал Платонов.
- Как дрянь! - сказала хозяйка.- Это лучшее средство от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый <год> всех мужиков. А это для настоек; а это для варенья. Вы всё смеетесь над вареньями да над соленьями, а потом, когда едите, сами же похваливаете.
Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты.
- Господи! что за старина! - сказал он. - Ну не стыдно ли тебе, сестра?
- Ну, уж извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня осьмилетняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке затем только, чтобы самой иметь свободное время для музыки, - нет, извини, брат, этого-то не сделаю.
- Какая ты, право, стала скучная, сестра! - сказал брат…” (http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0150.shtml).
Зачем он поменял фамилию на Костанжогло?
Предшествующая ж аж почти непроизносима была для русского языка. Уже в том одном виделось отрицательное отношение автора к достижительной морали. “В лоб” оно было, отношение. Как фамилия Правдин в допушкинские и доголевские времена предшествовавшего, риторического (Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте. Одесса, 1997) периода литературы. – И Гоголь сумел усмирить своё Нетерпение, осадить себя.
От грубого противопоставления впечатлений от роли мужа и жены в семье Костанжогло нечаянно отвратила Гоголя Смирнова-Россет.
Но лобовое “скучная” для достижительности он всё равно ввернул.
И он мог почувствовать в конце концов, что не может не руководствоваться совсем иным пафосом – Нетерпением – при писании второго тома. И что это Нетерпение выводит его за пределы искусства. И что надо поступать радикально – сжечь весь том.
Потому что недостижительность, воспетая нехудожественным способом, способна повредить этому идеалу очень и очень много. И пусть уж лучше она не будет в изданной части поэмы понята современниками и не восторжествует ею Россия в мире при жизни его, зато в достойном виде дойдёт идеал до потомков, а они и поймут, и осуществят его.
Гоголь оказался в преддверии авангардизма.
Ведь какова только искусству присущая функция? – “Непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного мироотношения человека” (Натев. Искусство и общество. М., 1966. С. 208). То есть это не собственно жизнь. “Искусство [же] слишком дерзко-самоуверенно, слишком патетично, ведь ему же нечего отвечать за жизнь, которая, конечно же, за таким искусством не угонится” (Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 7). А авангардисты – люди ответственные. Им витать в мечтах не пристало. Они готовы отказаться от непринуждающего свойства искусства. Они готовы выйти в жизнь. Сотворить скандал, например.
В год выпуска первого тома “Мёртвых душ” Гоголь сделал вторую редакцию “Ревизора” и позволил себе там выйти в жизнь, пользуясь тем, что пьесы тогда не только смотрели в театрах, но и читали. Он ввёл эпиграф:
|
НА ЗЕРКАЛО НЕЧА ПЕНЯТЬ, КОЛИ РОЖА КРИВА. Народная пословица |
Он обратился прямо к публике, непосредственно и принуждающе, как в жизни.
Скандал не замедлил разразиться:
“Характерна реакция на эпиграф М. Загоскина… “Загоскин… особенно взбесился на эпиграф к “Ревизору”. С пеной у рта кричит: “да где же у меня рожа крива?”. Это не выдумка”.” (Манн. Поэтика Гоголя. М., 1988. С. 382-383).
С продолжением “Мёртвых душ”, как ни тянуло Гоголя на что-то перформансообразное, он на скандал, в итоге, не пошёл, оставив первому тому его дух вовсе не “протестантского социального утопизма”, характерного “Выбранным местам из переписки с друзьями” (где и упокоилась его ответственность). И потому Россию своей поэмой позвал – осталось – вперёд, но… в мистическое сверхбудущее.
16 декабря 2009 г.
Натания. Израиль.
Первая публикация по адресу
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |
Из переписки |