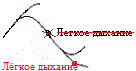
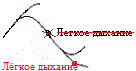
С. Воложин
Бунин. Легкое дыхание.
Художественный смысл. *
| Столкновение позитивного (для неуважаемого демонизма) с негативным (для неуважаемого плебея и гимназистов) рождается катарсис: гармонический идеал полноты жизни. |
С. Воложин
Счастье спора с самим Выготским
Во мне занозой много лет сидело то обстоятельство, что
Выготский в “Психологии искусства” почти нигде не позволил себе прямо назвать, в чем именно состоит катарсис от того или иного разбираемого им художественного произведения.Вот и бунинское “Легкое дыхание” осталось мною непонятым несмотря на блестящий анализ его элементов Выготским.
С пятнадцати лет красавица-гимназистка Оля Мещерская сделалась шлюхой, играющей в роковую женщину, за что вскоре была застрелена одной из своих жертв... - Что хотел “сказать” автор?..
Некто Баевский В. С. написал две чудно-тонкие фразы: <<
В “Евгении Онегине” многие авторские отступления находятся в “зоне сознания и речи” (используя термин М. М. Бахтина) кого-либо из действующих лиц. Написанные от имени автора, они сближаются с точкой зрения того или иного персонажа>> (В кн. Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983, с. 118-119).Вот так же написано и “Легкое дыхание” Бунина. Почти все - от имени автора, а там - почти все - в зоне сознания и речи классной дамы.
Цитирую и подчеркиваю то редкое, что вне этой зоны, что чисто авторское.
“...классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик,- она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она - идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская - предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов - и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной” о красоте женщины.
- ...главное, знаешь ли что? - Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть,- ты послушай, как я вздыхаю,- ведь правда есть?
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре”.
И на этих словах рассказ кончается.
Среди красот женщины там много перечислено. Зажигательного для мужчин, а следовательно, и для женщин, упивающихся успехом у мужчин. Не просто успехом, а их страстью. Гибельной страстью. Гибельной для мужчин ли, для женщин - не важно с точки зрения Оли Мещерской, демонистки по натуре.
Прожить бы жизнь дотла,
А там - пускай ведут
За все твои дела
На самый страшный суд...
Так вот для активной демонистки, Оли Мещерской, главное - легкое дыхание, как символ легкомыслия в жизни, пусть и приводящего к трагедии смерти во цвете лет.
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина...
А для классной дамы самое главное в красоте женщины - ее наименее эротическое качество - опять - легкое дыхание. В облике же красавицы Оли - лицо “с этим чистым взглядом”, несовместимым с сексом.
Классная дама, - потерпев подряд несколько крахов своего коллективистского идеала (служения брату, который служил России, не чуждой глобального мессианства в ее национальной идее, служения педагогике во имя воспитания молодого поколения в высоком духе), крахов, кстати, совпавших с поражением первой российской революции, тоже не чуждой мессианства, - классная дама “теперь” шатнулась в полярно противоположную сторону - в сторону, почти буддистскую, в сверхиндивидуалистическое отстранение от страстей при отказе осуждать даже самое аморальное, что рядом.
Пассивный демонизм, пассивный индивидуалистический фашизм!..
Он много где тогда,- в довоенное время,- возник более или менее подспудно, например, в Западной Европе, у Музиля (см. в моей книге “О сколько нам открытий чудных...” Одесса, 2003, с. 119). А такое время-то у Бунина - как раз до первой мировой войны - и описывается, хоть и написан рассказ в 1916 году.
Вот такие классные дамы, не умеющие, как умел Музиль, отдавать себе отчет в своих самых туманных переживаниях, такие классные дамы, наверно, и были совращены после войны - в Германии - активистским и коллективистским фашизмом.
Но то было потом и там. А пока и тут... В зоне сознания и речи российской классной дамы автор обеляет “то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской”
.Пассивной демонистке таки ужасен демонизм активный. И тем более пассивному хочется активного ассимилировать и обелить. Что и проделано формой рассказа, как это блестяще показал Выготский.
<<
...если бы нам была рассказана история жизни Оли Мещерской в хронологическом порядке, от начала к концу, каким необычайным напряжением сопровождалось бы наше узнавание о неожиданном ее убийстве! Поэт создал бы <...> особенное напряжение...Мы узнали бы приблизительно в таком порядке: как Оля Мещерская завлекла офицера, как вступила с ним в связь, как перипетии этой связи сменяли одна другую, как она клялась в любви и говорила о браке, как она потом начинала издеваться над ним; мы пережили бы вместе с героями и всю сцену на вокзале, и ее последнее разрешение, и мы, конечно, с напряжением и тревогой остались бы следить за ней те короткие минуты, когда офицер с ее дневником в руках, прочитавши запись о Малютине, вышел на платформу и неожиданно застрелил ее. Такое впечатление произвело бы это событие в диспозиции рассказа; оно составляет истинный кульминационный пункт всего повествования, и вокруг него расположено все остальное действие. Но если с самого начала автор ставит нас перед могилой и если мы все время узнаем историю уже мертвой жизни, если дальше мы уже знаем, что она была убита, и только после этого узнаем, как это произошло,- для нас становится понятным, что эта композиция несет в себе разрешение того напряжения, которое присуще этим событиям, взятым сами по себе... И так, шаг за шагом, переходя от одного эпизода к другому, от одной фразы к другой, можно было бы показать, что они подобраны и сцеплены таким образом, что все заключенное в них напряжение, все тяжелое и мутное чувство разрешено, высвобождено, сообщено тогда и в такой связи, что это производит совершенно не то впечатление, какое оно произвело бы, взятое в естественном сцеплении событий...
Этот закон уничтожения формой содержания можно очень легко иллюстрировать даже на построении отдельных сцен, отдельных эпизодов, отдельных ситуаций. Вот, например, в каком удивительном сцеплении узнаем мы об убийстве Оли Мещерской. Мы уже были вместе с автором на ее могиле, мы только что узнали из разговора с начальницей о ее падении, только что была названа первый раз фамилия Малютина,- “а через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом”. Стоит приглядеться к структуре одной только этой фразы, для того чтобы открыть решительно всю телеологию стиля этого рассказа. Обратите внимание на то, как затеряно самое главное слово в нагромождении обставивших его со всех сторон описаний, как будто посторонних, второстепенных и неважных; как затеривается слово “застрелил”, самое страшное и жуткое слово всего рассказа, а не только этой фразы, как затеривается оно где-то на склоне между длинным, спокойным, ровным описанием казачьего офицера и описанием платформы, большой толпы народа и только что прибывшего поезда. Мы не ошибемся, если скажем, что самая структура этой фразы заглушает этот страшный выстрел, лишает его силы и превращает в какой-то почти мимический знак, в какое-то едва заметное движение мыслей, когда вся эмоциональная окраска этого события погашена, оттеснена, уничтожена
>> (Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987, с. 150-151).Но читая Выготского создается впечатление, что это у Бунина такой идеал - безэмоциональности и отрешенности от действительности. Тогда как на самом деле авторские слова тут находятся <<в “зоне сознания и речи”>> персонажа - классной дамы.
Почему так произошло у Выготского? - Потому что к этому месту свой работы он еще не дошел до выведения катарсиса. Выготский, видно, - страстный человек. По крайней мере, в этой работе. Она-то - не подготовлена была им к печати! Вот страсть и пылает. Как подумалось в данную минуту, так и пишется.
Каждый пишет, как он слышит.
Как он дышит, таки и пишет...
Нет!
Это поэт так пишет. А не ученый. Выготский написал так. Так зато он не публиковал эту свою работу.
Мне могут возразить, что есть в рассказе описания событий, свидетелем которых не была классная дама и, следовательно, нельзя рассказ относить к ее <<
зоне сознания и речи>>. Например, наглое признание Оли начальнице гимназии, кто и когда сделал ее женщиной. Например, подробности этого деяния.Парируются такие возражения очень просто. Оля, оказывается, вела дневник, в котором беззастенчиво все описала про себя и Малютина. Она, издеваясь, дала дневник читать офицеру. Тот предъявил его судебному следователю. Зачитан он мог быть и на суде. И городок небольшой - всем все становится известно. И классная дама вполне могла обо всем услышать и знать, не присутствуя на месте действия сама. Ни на даче Мещерских, ни в кабинете начальницы гимназии. Писателю ничего не стоит все организовать так, чтоб его, всезнающего, речь была все же в
“зоне сознания и речи” персонажа, коль скоро у писателя образовалась установка на такую зону.Есть у Выготского и другие важные неточности.
<<
Может быть, эта жизнь, эта житейская муть хоть сколько-нибудь идеализирована, приукрашена в рассказе <...> может быть, она возведена в перл создания, и, может быть, автор попросту изображает ее в розовом свете, как говорят обычно?>> (С. 147) - Да! Если уцепиться за <<сколько-нибудь>>:“ “Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни...” ”
Разве это не идеализация абсолютной независимости от людей, разве это не идеализация никем не стесняемой свободы? Разве не естественно было Оле в таком настроении дойти до конца при появлении пятидестишестилетнего красавца Малютина, разлечься перед ним, флиртующим, на тахте и спровоцировать его на совокупление с собой, несовершеннолетней?
Скажете, это ж дано - с точки зрения демонистки. - Но ведь дано. <<Сколько-нибудь>>.
А разве не идеализация вседозволенности просвечивает в таких невинных шалостях:
“А она ничего не боялась - ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена”.
Правда,- скажете,- эти авторские слова - уже в зоне сознания, памяти классной дамы, задним числом пленившейся пусть и пассивной (невинной), но вседозволенностью супермэнов... супервумэнов.
Так или иначе. Идеализация налицо.
А Выготский трусит это признать:
<<
Может быть, он [автор] даже, сам выросший в той же жизни [“богатых и счастливых” и от пресыщения впадающих в демонизм], находит особенное очарование и прелесть в этих событиях, и, может быть, наша оценка [житейская муть на гнилых корнях] попросту расходится с той, какую дает своим событиям и своим героям автор?Мы должны прямо сказать, что ни одно из этих предположений не оправдывается при исследовании рассказа. Напротив того, автор не только не старается скрыть эту житейскую муть - она везде у него обнажена, он изображает ее с осязательной ясностью, как бы дает нашим чувствам коснуться ее, ощутить, воочию убедиться, вложить наши персты в язвы этой жизни
>> (с. , 147-148).Так вот не язвы, а идеализации. Только не авторские идеализации, а персонажей: активной и пассивной демонисток, Оли Мещерской и классной дамы.
А от столкновения этих противоположных идеализаций и является - вполне в духе Выготского же, только в духе глав, следующих после разбора Выготским бунинского рассказа - является катарсис. В душе нашей. И больше нигде. И нет <<
осязательной ясности>> относительно авторской точки зрения. И ее нельзя процитировать.Выготский же процитировать пытается:
<<
...вот в каких грубых и жестких выражениях, обнажающих неприкрытую правду жизни, говорит автор о ее связи с офицером: “...Мещерская завлекла его, была с ним в связи, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке - одно ее издевательство над ним...”>> (с. 148)И не замечает Выготский, что тут Бунин - в зоне сознания и речи казачьего офицера, апеллирующего к общественному мнению, каким тот его себе представляет, чтоб оно,- если не суд, то хотя бы оно,- его оправдало.
На Синусоиде идеалов идеал офицера находится на нижнем перегибе: обычный, индивидуалистический, довольно легко и вскоре достижимый. А то, что с достижимостью сорвалось... И что сорвался оттого и сам исповедующий такой идеал... - Так на то персонаж и сделан - “плебейского вида”. Низы стали поднимать голову и не терпеть от верхов помех. Разве что сорвавшись апеллируют к благопристойному общественному мнению этих верхов.
Но разделят ли Бунин такое общественное мнение? Хотел ли он его выразить своим рассказом, как то следует из текста Выготского? - Сомневаюсь.
И даже когда нет конкретного персонажа, а в зоне как бы самого общественного мнения находятся слова автора, даже и тогда нельзя согласиться с Выготским.
<<
Пустота, бессмысленность, ничтожество этой жизни подчеркнуты автором, как это легко показать, с осязательной силой: “...незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, что она не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство...”>> (с. 148)Нет. Вряд ли Бунин ради на гимназическом уровне выражения “фэ” ветренности сочинил свой рассказ. Мы уже видели, какие не-бессмысленность, не-ничтожество веют от демонизма, активного или пассивного. Да и то, что общественное мнение Бунин дает в зоне сознания офицера “плебейского вида” и “гимназической” общественности настораживает.
Но Выготский, несмотря на все допущенные им неточности, совершенно верно угадывает тот пафос, который вдохновил Бунина на создание этого рассказа: полнота, осмысленность, величие жизни. Гармонический идеал, находящийся на середине спускающейся ветви Синусоиды идеалов. Выготский его именно угадывает, ведомый Буниным. Оттого, что в негативное (как <<пустота, бессмысленность, ничтожество этой жизни>>) попадает оцениваемое неуважаемыми плебеем и гимназистами, и оттого, что в позитивное тянет идеализация того же жизненного материала, оцениваемая опять неуважаемыми демонистами, активные они или пассивные, - оттого Бунин приводит к не-пустоте, не-бессмысленности, не-ничтожеству, т. е к полноте, осмысленности, величию - к гармонии, воодушевлявшей его на творчество в 1916 году, посреди первой мировой войны. Выготский это угадывает и внушает своему читателю, тогда как фактически,- обманывая даже себя,- выводит как процитированный намек на отрицание отрицательных пустоты, бессмысленности и ничтожества.
Такое простое отрицание отрицательного можно увидеть в более простых рассказах. Посмотрите на до и после “Легкого дыхания” написанное - на рассказы “Господин из Сан-Франциско”, на “Казимир Станиславович”. Там тот же пафос! Отрицание по иному, но тоже пустой, бессмысленной и ничтожной жизни. У обоих персонажей нет фамилии, этого маркера общественной ценности человека. Оба подводятся к смерти, этому маркеру итога жизни, где всем естественно задуматься, зачем жизнь была прожита... (Оля фамилию имеет, потому что она таки - личность, яркая, не то что господин из Сан-Франциско или Казимир Станиславович.)
А Константин Паустовский совершенно не понял “Легкого дыхания”. Он пишет в предисловии к то`му Бунина издания 1973 года, содержащему этот рассказ:
<<
Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...Опомнился я только через час <...>
Все внутри у меня дрожало от печали и любви. К кому?
К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской.
В газете был напечатан рассказ Бунина “Легкое дыхание”.
Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом? Это не рассказ, а озарение, сама жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.
Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.
Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле.
Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.
За окнами [
поезда, увозящего Паустовского из Ельца] дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская - это бунинский вымысел, что только моя склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке>>.Обычное наивное таки, а не успокаивание себя, у Паустовского восприятие художественного произведения. И романтическое таки у него, но не приятие, а неприятие мира. Как и у классной дамы. Романтики (эгоисты в моральном плане, если одним словом) действительность, какая она есть, не принимают. Лишь влияние советскости, часто связывающее романтику с гражданским романтизмом (коллективистским), заставило Паустовского оговориться. А в советской действительности его самого, наверно, тоже что-то не устраивало. Вот он и был склонен к обычному романтическому бегству от действительности. Только под влиянием все той же агрессивной советскости не позволял
себе Константин Георгиевич додумывать вещи до конца.Одесса. Май 2003 г.
Виноват перед собой. Отдаюсь читаемому весь, некритически. Ну, если читаемое не совсем ерунда. Отдаюсь, и лишь потом, успев сесть в галошу относительно своего, выношенного мнения о том же предмете, я начинаю думать, соотносить и возражать победителю меня. Как бы после боя махать кулаками. В устном поединке такое было бы позорно. Но в письменном… Да ещё мой оппонент ни в жисть не узнает моих огрызаний… - Легко…
Речь о нескольких деталях бунинского "Лёгкого дыхания", объясняющих идеализацию-де Буниным лёгкого поведения гимназисток вообще на примере своей героини. – Так я понял Александра Скидана в
http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/sk15.htmlВ самом деле, почему Оля Мещерская – гимназистка? Почему сюжет рассказа рваный?
"- В слове "гимназистка" отзывается — хотя этимологически и не имеющее отношение к гимназии — слово "гимен" (по-гречески — "девственная плева", так называли и бога брачных уз Гименея)… роль мембраны, отделяющей и одновременно соединяющей одно пространство с другим, причем оба эти пространства имеют семантику интимных. Знаменательно, что именно этот колеблющийся признак, составляющий сущностную двусмысленность "гимназистки", конституирует "рваную" повествовательную структуру "Легкого дыхания" Бунина, где в решающей сцене откровенным образом вербализируется:
— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.
— Да, madame, — просто, почти весело ответила Мещерская.
— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница…"
"В лоб", мол, Бунин выражается. Нравится ему, чтоб малолетки рвали свои девственные плевы. Причём не с кем придётся, а с кем-то как бы предназначенным родом, патриархатом, тоталитаризмом всех-всех нынешних, да и не только нынешних, обществ (против которых сам-де Леви-Стросс выступил… и Жак Лакан).
"Не случайно Алексей Михайлович Малютин, сделавший Олю Мещерскую женщиной, является другом и соседом ее отца и одновременно — братом ее начальницы, и точно так же не случайно упоминается в рассказе и брат классной дамы, которая приходит на могилу Мещерской — "бедный и ничем не замечательный прапорщик": оба они — мужчины, и оба относятся к старшему поколению — поколению родителей и учителей Оли".
Покрывать несовершеннолетних, по Бунину-де, должны мужчины, стягивающиеся "в одну вышестоящую инстанцию, остающуюся "за кадром" и представленную лишь частично, своими функциями и полномочиями: отцовскую".
Под сурдинку почему-то и гимназист Шеншин в перечень попал, и нестарый казачий офицер. Я опустил их в цитате, чтоб не портили логику Скидана. А вот про властных можно не опускать:
""молодой царь, во весь рост написанный среди какой-то блистательной залы", на которого Мещерская смотрит во время разговора с начальницей; сама начальница, "моложавая, но седая", сидящая с вязаньем под портретом императора".
То есть начальница годится, так как начальница, так как под портретом императора и так как её брат лишил Олю невинности. И начальница, - если додумать волю Скидана, - становится заинтересованной в разврате несовершеннолетних, который Бунину нравится.
Ну и конец – очень значимое всегда место в структуре:
"В финале Бунин однозначно указывает именно на эту инициирующую инстанцию:
— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщин… Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза <…> нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание!
От своего отца Оля Мещерская наследует вместе с фамилией и образ женщины, "какой она должна быть", вплоть до "легкого дыхания" — каковое, чтобы стать тропом, уже должно быть включено в символическую цепочку, замкнутую на отца (или его заместителя: друга или соседа), на отцовское знание-книгу, которое дочь выучивает наизусть".
Мне особенно нравятся слова: "Бунин указывает" "
однозначно". Что это классная дама всё вспоминает – ни гу-гу. Что такой конец и в самое начало вводит классную даму – тоже молчок. А тем более, что всё повествование можно понимать преломлённым через эту классную даму.По Скидану сама классная дама вместе с начальницей олицетворяют две тупиковые позиции для женщины в патриархальном обществе. Но почему начальница – тупик для женщины? Из текста произведения видно только, что та поседела что-то рано. Ну и карьеру служебную сделала – начальница. Что: ценой личной жизни? Синий чулок? – Совершенно не видно из текста. Значит, нечего было строить симметрию с классной дамой, старой девой, что действительно драматично и тупиково.
Замечание Скидана, что в 1916 году патриархальное общество "находилось уже в процессе распада", объясняет, вообще-то, пафос Бунина, сторонника патриархальности, мол, при котором гимназистка – не субъект, а объект, и прелестный, и является щемящим поводом, чтоб об уходящей патриархальности сожалеть. Но разве не давно уж шёл процесс распада патриархальности? Разве не большее что-то рушилось в первую мировую войну? Разве не сильнее – реакция на неё: мечтой о гармонии?
Если запретить себе исповедовать нецитируемость катарсиса, а придерживаться того, что в произведении таки сказано печатно то, что хотел писатель сказать, сказано образно: рваность сюжета интереснее – рвание девственной плевы интереснее, друг отца порвал – даёшь патриархальность, лёгкое дыхание – контаминация лёгкого поведения и лёгкой смерти, что в обоих вариантах есть хорошо, очертание колена – вольность движения (опять хорошо), Мещерская – пещера – влагалище - замечательно, в общем, фигуральное – буквальное и смак, - то тогда надо мне сдаваться. И тогда не "
уничтожить ошеломительность", по Выготскому, взялся Бунин рваным сюжетом и тому подобной фигуральностью. Ошеломительность того, что старому впервые отдалась Оля, что сама спровоцировала его, что некрасивому казачьему офицеру отдалась, что она похотлива, и ей важно лишь, чтоб мужчина соглашался иметь дело с несовершеннолетней, что говорит офицеру о любви, лишь, получается, чтоб подбодрить его на акт, ошеломительность, что в таком возрасте уже шлюха. Уничтожить ошеломительность – ради чего-то невыразимого, а не ради смены минуса на плюс.Я понимаю журнал НЛО, опубликовавший Скидана без возражений. Это времён реставрации капитализма российское СМИ (Средство Множить Имморалистов). Ему минус, бывший таковым во времена Бунина, т.е. в России и дореволюционной и послереволюционной, - для НЛО минус есть только СССР-овский минус (шаг назад к патриархальности), - минус, который нужно превратить просто в плюс. Любой ценой.
Я рисковал, конечно, берясь невыразимое всё же вербализовать. Но у Скидана – хуже, площе.
Не образное ли у него "в лоб"? Что у Бунина есть всего лишь два из трёх: сочувствия, противочувствия и катарсиса.
5 января 2009 г.
Натания. Израиль.
Сегодня 12 июня 2009 г. Я до сих пор не поставил вышенаписанное в сайт. Почему? – Потому что я не понял на должном уровне произведений, в связи с которыми Скидан коснулся бунинского "Лёгкого дыхания". Я не освоил произведения тех литературоведов, которые Скидан привлёк в свою статью, и у меня нет возможности их освоить: ни возможности достать и прочесть, ни, возможно, понять своими старыми мозгами. И раз так, то не исключено, что моё, пусть и выглядящее удачным, огрызание не верно. Следовательно, дескать, нечего огрызаться. То есть в сайт ставить. Ибо тогда, получается, что сомнителен и ВЕСЬ мой разбор. А может, - и весь сайт.
Так вот я решил, что по крайней мере вот эта страница есть хорошее место для признания, наконец, что я не такой уж непоколебимый, как это может показаться и по огрызанию, и по самой моей статье, и по всему сайту.
Я сомневаюсь во многом. Даже в том, что я последователь Выготского, каковым я по-хлестаковски себя представил и каковым меня некоторые, - по некомпетентности своей, - признали.
Я ставлю точки над "i", - заявляю я, - когда сам Выготский от этого воздерживается. А не исключено, что Выготский не зря воздержался, по крайней мере, с "Лёгким дыханием". Он его анализировал, будучи уже советским человеком, не приемлющим смерть как составляющую идеала личности. А Бунин писал "Лёгкое дыханием" посреди Первой мировой войны (как "Тёмные аллеи" посреди Второй мировой). И что если Бунин писал, не мечтая о гармонии в страшное время, а противопоставляя личное общественному: самоубийство и убийство по причине половой, в грубом итоге, - массовому убийству политическому. Что если Бунин некий ницшеанец, дружащий с личностной смертью… Или он фэ массовой смерти "сказал", "сказав" фэ смерти одной…
Каждый вечер в Натании я хожу к морю смотреть закат солнца. Иногда у меня за спиной остаётся почти весь берег, иногда до берега я не дохожу полкилометра. В первом случае – среди пустого морского горизонта – солнце, садясь, кажется маленьким. Во втором – просвечивая деревья насквозь – оно по сравнению с ними кажется большим. – Чисто психологическое явление, от которого никуда не денешься, объективности не дождёшься….
И в минуту сомнения хочется спастись в субъективности. Ну лучше ж что-то выбрать себе и того придерживаться, хоть и видишь относительность картины, видимой из выбранной точки. Плохо ж чувствуешь себя, если болтаешься неприкаянным. Ни там, ни там…
У меня ж не бесконечные силы. Я ж не могу всё прочесть и осознать. Нельзя ж объять необъятное. Так что: за то я должен отказаться от обоснованного суждения?
Если я хочу спровоцировать, чтоб люди углублялись в произведение искусства, так лучше я признаюсь людям в своих сомнениях относительно результата с моей точки зрения, от неё всё-таки не отказываясь: катарсис это то осознанное нами и написанное не "в лоб", что хотел сказать автор противоречиями.
*
Сомневаться мне в своей правоте не пересомневаться…
Недавно – мимоходом – я ещё и так усомнился:
“Может, и “Лёгкое дыхание” не мечту о гармонии выражает, а упомянутое символистское изживание зла погружением в него… Правда: чего это от Бунина, современника серебряного века, ждать гармонии, а не символизма…”
А вот теперь прочёл Матюшкина (
тут), и в моём сознании он положил на лопатки Выготского.Ну, благо, без проверки всей творческой биографии Бунина (доверившись Матюшкину) можно о символизме чуть-чуть забыть:
“в отличие от русских символистов, разделявших преклонение Ф. Ницше перед “живой жизнью” и ее проявлениями, Бунин относился к ней всегда неоднозначно, что нашло отражение и в “Легком дыхании””.
Неоднозначность…
И одна, так сказать, значность, по Матюшкину, – буддийская философия:
“Перед нами типичный конфликт бунинской прозы 1910-х годов: противостояние мира чрезмерно организованной и лишенной жизни цивилизации и хаотичного, неразумного, но прекрасного в своей естественности мира природных людей <…> финал рассказа вызывает в памяти буддийскую мифологию, в особенности, учение о сансаре — вечном круговороте человеческих воплощений. О какой трагедии может идти речь, если смерти не было, а была лишь очередная трансформация “легкого дыхания”, которое на недолгое время воплотилось в Оле Мещерской, а теперь “снова рассеялось в мире”, чтобы воплотиться в какое-нибудь новое существо и подарить ему жизнь?”.
А противоположная, так сказать, значность, по Матюшкину:
“скепсис по отношению к ней [к буддийской философии]”, который выражен авторским отношением к классной даме, “женщине, живущей выдумками и чувствующей себя счастливой благодаря способности находить эмоциональный заряд в своих горьких фантазиях”.
Теория, на которой базируется Матюшкин, опирается на принцип дополнительности Бора, переведённый из микромира в наш мир лингвистом и философом Налимовым таким предложением: “для воспроизведения в знаковой системе целостного явления необходимы взаимоисключающие”. То есть противоречия остаются, но они не взаимодействуют с результатом. Катарсис выпадает из теории. “…принцип дополнительности прочно вошел в арсенал современной науки, пошатнув основы классической двузначной логики. На ее место пришли логики многозначные, где помимо ответов “истинно” и “ложно”, могут быть ответы “ни истинно, ни ложно”, или “и истинно, и ложно””.
Всё это очень по научному солидно выглядит. Но основано на… математической безграмотности гуманитариев.
Мне посчастливилось недавно прочесть книгу Жана Брикома и Алена Сокала – “Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна”, М., 2002. И там сказано, про свойства микромира названные безграмотными людьми противоречивыми: ““эти свойства характеризуют квантовую механику в очень специальных смыслах - для этого нужны знания математической теории - и в этих-то смыслах эти понятия не являются противоречивыми””.
Так что Налимов сел в лужу, а следом за ним и Матюшкин.
Матюшкин не придал значения тому, почему рассказ Бунина в сущности и начинается, и кончается кладбищем. Он не сделал вывода, что если в конце там определённо присутствует классная дама, то она, значит, некоторым образом присутствует и в начале, и, следовательно, вообще везде. Что все дифирамбы буддийской философии даны поэтому от её имени, а не от имени автора. Матюшкин невольно сделал эту буддийскую философию однозначно превалирующей. Весь его разбор на неё нацелен и выполнен блестяще. И лишь в одном месте он ошибается явно:
“Парадокс, но трагический пафос своего рассказа писатель отдает недалекой женщине”.
Он тут забывает собственные слова: “О какой трагедии может идти речь, если смерти не было”.
Нет. Строго говоря, есть и навязывание Выготскому:
“Иначе говоря, он [Бунин, мол] не смягчает трагизм (как считал Выготский), а просто не признает его”.
Так не Бунин, между прочим, а Бунин, будучи в зоне сознания классной дамы. Но, главное, не Выготский, а Выготский от имени гимназистов, казачьего офицера и вообще обывательского общественного мнения, и не трагизм, а “ошеломленность”.
В общем, сел в лужу Матюшкин.
2 января 2010 г.
Натания. Израиль.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |
Из переписки |