

С. Воложин
Ахматова, Гумилев, акмеизм.
Художественный смысл.
| Художественный смысл акмеизма – ницшеанская вседозволенность. |
Первая интернет-часть книги “Сезам, откройся! Штрихи к панораме “серебряного века””
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИСКУССТВА
КНИГА СЕДЬМАЯ
-----------------------------------------------------------------------
С. Воложин
СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!
Штрихи к панораме
“серебряного века”
Одесса 2000
Предисловие,
постоянно-переходящее
к каждой книге данной серии
- Миссия есть у каждого... Самое интересное... что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия...
“Хрустальный мир”. В. Пелевин
Моя миссия, по крайней мере в этой серии книг, заключается, видимо, в том, чтоб дать как можно больше примеров применимости Синусоиды - я это так называю - идеалов (с инерционными вылетами вон из нее), идеалов, которыми одушевлены были творцы произведений искусства при их создании, для выявления художественного смысла этих произведений.
Я было пробовал когда-то поделиться своей находкой: послал материал в центральную газету, в толстый журнал... - Не взяли. Сделал принтерные самоиздания (по паре экземпляров) нескольких работ и подарил их одной-другой библиотеке. - Взяли. Но - в отделы рукописей, и вещи не попали в общие каталоги. Напечатал несколько статей в местных газетах. - Но там не развернешься. И никто не понял, на какой системе все у меня базируется. Издал кое-что, крошечными тиражами, для библиотек. - В общие каталоги попало, но никто их там не ищет.
Нет. Надо - как в кибернетике: для надежности передачи информации обеспечь ее избыточность.
Когда-то я писал и думал: будь у меня сто жизней - я бы всю историю искусств построил по Синусоиде с ее вылетами....
Вот и надо внушить ту же мысль печатно, количеством моих применений такой Синусоиды.
Правда, я не мог это издавать сразу после написания, а теперь уже не полностью согласен с самим собой, прежним. - Ну, зато видна эволюция от книги к книге. Может, это даже и лучше для усвоения.
От автора
Благополучный мой читатель! Вы хотите импонировать своим знакомым как человек культурный? Да? А если вы чувствуете, что у вас слабина по этой части, - вы готовы устранить этот недостаток? Ну, если вам предложить эффективное средство...
Оно перед вами, в ваших руках.
Автор этой книги предлагает как бы универсальный ключ к представляющимся совершенно непонятными творениям таких знаменитостей, как Ахматова, Пастернак, Мандельштам и другие.
“Бородок ключа” это синусоидальный закон истории изменения идеалов искусства. Узнав закон, вы поймете вдохновение писателей, стихийно подчинившихся ему, и - их произведения.
Другой секрет - как “ключ” повернуть - состоит в том, что задаемся вопросом: зачем - с точки зрения художественного смысла целого произведения - его автор применил (сознательно или неосознанно) ту или иную деталь.
И один и другой секрет не мной открыт и не мое изобретение. Они известны с начала ХХ века. Но им не повезло. На Западе, на пути цивилизации, массы в них не нуждались, а на Востоке, на пути тоталитаризма, государствам они опасны. Да и теперь, нам, в полемике с недавним прошлым, опять больше нужна тенденциозная правда, чем непредвзятая.
Но все-таки мы Восток, и Запад в нас, если нуждается, то не в последнюю очередь как в помощнике по выползанию из их духовного кризиса, свирепствующего там давно.
Кто ж им, да и нам, поможет? Вы, благополучный читатель. Но - вы не готовы? Так принимайтесь за самообразование, самообразование по руководствам, как раз и рассчитанным на неподготовленных, как данное.
Здесь, когда вы следите за разворачиваемыми перед вами сотнями ответов на вопросы “зачем такие детали?”, когда эти ответы, то есть художественные смыслы десятков конкретных сочинений - вы увидите - тяготеют к идеалам (тех уже единицы по типам), которые, будучи разными, выстраиваются в синусоиду, между прочим, единую во все времена,- тогда вы чувствуете, что приобщились к Искусству. А количество умеет превращаться в качество, и вы уже замечаете, что способны не только следить за мной, но и предугадывать.
Поздравляю: вы научились пользоваться “ключом”.
Теперь проверьте себя и меня. Если у вас, может, впервые в жизни, возникли собственные (обоснованные!) соображения о каком-либо стихотворении (а они, все без исключения, полностью цитируются), если вам захотелось спорить, или пуще того - прочесть другие вещи, других поэтов и других критиков, значит, цель книги выполнена.
И отныне вас ждут особые удовольствия.
Осознание сходства требует более развитой способности обобщения и концептуализации, чем осознание различия.
Л. С. Выготский
Науку составляют факты, соотношения между ними и, главное, систематизация этих соотношений с помощью сознательно упрощенной модели явления.
А. Б. Мигдал
Вступление
Однажды, читая толстый искусствоведческий альманах, одну за другой статьи в нем: о Барокко и о маньеризме,- я понял, что передо мной (если статьи сопрячь) открывается, так сказать, красная нить, вокруг которой можно единообразно организовать всю историю искусства. С тех пор,- уже пошел второй десяток лет,- я успешно нанизываю на эту нить произведение за произведением. Много чего открыл я для себя с помощью этой ариадниной нити.
Сперва она представлялась в виде непрерывной синусоиды, подъемы и спады которой колеблются между парными оппозициями: высокое - низкое, дух - тело, коллективизм - индивидуализм и так далее.
Потом на верхних и нижних перегибах моя нить-синусоида обрела отростки-обрывки. Они изображали как бы инерцию взлета и падения тех, кто не в силах удержаться на синусоиде при ее перегибах:
Идеал высокий, одухотворенный, небесный
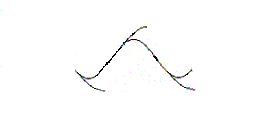
А потом на этих же перегибах логика размышлений потребовала восстановить по перпендикуляру к плоскости синусоиды (мыслим плавный выход на эти новые отростки). Это - соскальзывание с тонкой плоскости искусства в околоискусство: в упадничество или в авангардизм,- а далее - и просто в неискусство: в проповедь, в публицистику и т. д. и т. п.
Движущей силой искусства от идеала к идеалу является разочарование (или наоборот - очарование) то в высоком, то в низком (или в других парах противоположных идеалов). Разочарование - на перегибах кривой, очарование - на плавных участках.
Нижние дуги такой Синусоиды искусств можно рисовать утолщенными, что обозначало б массовость искусства, его популярность. Все остальное - потоньше, в том числе и перпендикуляры к плоскости, что означало б элитарность.
Факты расщепления кривой символизировали б идейно-психологическое разнообразие художников в эпохи разочарования: одни - устойчивы, другие - приспособленцы, третьи - вообще не выдерживают.
А как опознавательные знаки времени можно было б поставить точки в характерных местах этого уже довольно сложного построения и назвать эти точки... впрочем, не всему в так систематизированной истории искусства найдется общепринятое название:
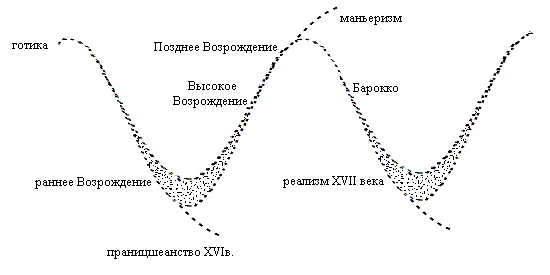
Затем эта схема у меня усложнялась синусоидами более короткого периода колебания от высокого к низкому идеалам и синусоидами со сдвигом фазы.
Впрочем, хронология становления моей ариадниной нити была не такой (да это и не важно для общего взгляда на нее). Например, срывы с Синусоиды вниз стали мне ясны совсем недавно. И так как акмеизм, похоже, хорошо укладывается на один из таких срывов, я им и займусь.
*
Стали в перестройку публиковать Гумилева. Один сборник называется “Золотое сердце России”... В предисловии пишут, что Гумилев акмеист и что акмеизм отверг символизм - за запредельность и неопределенность последнего. И Гумилеву, мол, в борьбе с символизмом <<
необходимо было призвать психологизм Шекспира, воспевать радости тела, свойственное Рабле, физиологизм Вийона...>> А так как призван был в этот ряд и Теофиль Готье - этот враг мещанства,- то я подумал, что акмеизм - нечто вроде нового барокко, нечто среднее между низким и высоким идеалом, среднее между телесным и духовным, скажем так: отрезвление от слишком высоких залетов символизма, но и отказ от слишком низких вылетов натурализма, в борьбе с которыми символизм так слишком высоко залетел.Так вот: если принять определение, что в веках повторяющееся барокко - это соединение несоединимого, то Гумилев, вроде, оправдывал мысль, что акмеизм это новое барокко.
Смотрите - “Лесной дьявол”. Сюжет: ужаленный ядовитой змеей павиан стремится к целебной траве на известной ему лужайке на другой стороне реки. Но брод оказался занятым войском и обозом карфагенского царя Ганнона. Поняв, что погибнет, павиан, взбесившись (а это уже был симптом отравления), прыгнул на шею ближайшего к нему коня. Тот понес и, пока павиан шею ему не перегрыз, умчал сидевшую на нем девушку и павиана далеко в лес. Удовлетворив гнев, павиан вспомнил о целебной траве, но, взглянув на девушку, забыл о спасении. Он уже насиловал недавно одну слишком удалившуюся от селения молодую негритянку. И ему захотелось теперь белокожую.
<<Не спеша, со зловонной пеной желания вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом... Но змеиный яд делал свое дело, и, едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь>>.
И он сдох. А девушка лишилась чувств. Их нашли. Голову павиана отрубили и насадили на кол. А девушку, как лишенную невинности лесным дьяволом, что беспрецедентно, жрецы повелели сжечь, чтоб ее дыхание не оскорбляло достоинство богини Иштар. Царь Ганнон, однако, пожалел жизнь гордой и знатной красавицы. Он понял по ее виду, что она не тронута. Он объявил, что ее защитила богиня Иштар и что он берет в жены отмеченную милостью богини.
Когда умащенная индийскими благовониями юная невеста медленно отправилась в темноте на ночь в царский шатер (к довольно равнодушному к ней Ганнону), она наткнулась на кол с головой павиана. И...
<<...в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с Необоримой и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие видения окружают его? Страшно умереть в борьбе с богами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний.
Порывистым движением девушка наклонила свои побелевшие губы к пасти чудовища, и мгновенный холод поцелуя остро пронзил все ее тело. Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным падению многих вод, и когда наконец она отшатнулась, она была совсем другая.
Не спеша, по-новому спокойная и задумчивая, она продолжала свой путь. Ее щеки больше не пылали, и не вздрагивало сердце, когда она думала о Ганноне. Первый девственный порыв ее души достался умершему из-за нее лесному дьяволу>>.
Соединилось несоединимое: и она душой отдалась так страстно желавшему ее, как никто, и она осталась девственницей для законного супруга.
Или вот. “Путешествие в страну эфира”. Между Инной и Грантом не удается даже флирт, так как они, особенно Инна, ждут от любви чего-то совершенно необыкновенного по сравнению с любовью других людей. Ее, еще девицу, видимо страшит низменная физиологическая сторона любви. А Гранта, человека, знакомого, как ясно из повествования, с сералями Востока и чайными домиками Японии, тоже по-видимому не ждут открытия в любви к Инне. Грант познакомил с Инной третьего, Мезенцова, чтоб тот им мешал. И все мучаются бедностью чувств. Да вдруг набредают на идею раскрепощения чувственности при наркоопьянении. Происходит групповое вдыхание эфира. Тут-то и совершается невозможное: в наркотическом сне Инна и Грант (видя одинаковый сон) исключительно роскошно, среди экзотики, обладают друг другом (во время их сна находящийся физически рядом, в той же комнате, Мезенцов в их сне отсутствует, а они - в его сне отсутствуют). А после сна, по наблюдению опытного Мезенцова, последнему ясно, что совокупление было и физически. Но для любовников - был только странный сон.
Опять соединение несоединимого.
Все получалось по схеме. Только вот беда: больше примеров не находилось. Но все стало на свое место, когда я почитал статью Коржавина об Ахматовой. Коржавин обратил внимание на одну неглавную тенденцию в истории России в начале ХХ века.
Главной же была революционная тенденция.
Да, Россия оказалась слабым звеном капитализма. Взрыв здесь в ХХ веке был неизбежен. Слишком сильна была традиция консерватизма, негибкость правительства, слишком задавлен был народ, по сравнению с другими народами на несколько столетий запоздавший с освобождением от крепостничества, и потому и в капитализм входивший слишком нищим и бесправным. И в то же время Россия была не сонная Азия. В общем - слабое звено.
И правы, думаю, те, кто отдает должное отрицательному результату коммунистического эксперимента в России как поучительному опыту для человечества: идти к коммунизму нужно не по-советски.
Но фокус в том, что этот несоветский (а какой? рузвельтовский? - сам родившийся как реакция на советский) начинался как еле уловимая тенденция задолго до Рузвельта. И сверхчуткие это чувствовали.
Н. Коржавин: <<
Эпоха, которая совпала с “серебряным веком”, была эпохой кризисной во всех странах европейской культуры. И везде - это ясно прочитывается, например, в “Докторе Фаустусе” Томаса Манна - были явления, подобные нашему “серебряному веку”. Впрочем, на кризис это вовсе не походило. Скорее на расцвет. Казалось, цивилизация торжествует окончательную победу. Все несовершенства бытия одними воспринимались как частные недоделки величественного здания... Как же - такой расцвет, а еще есть бедные и голодные! И нет еще полной свободы!.. Чуткие если не понимали, то чувствовали, что голодных и в рамках этого общества в их странах скоро не будет... а свободы, во всяком случае личной, и сейчас достаточно>>.Иными словами: всегда полсвета плачет, а полсвета скачет. И среди скачущих были провидцы, что плачущих, по крайней мере в странах европейской культуры, станет мало через век-другой.
И при таких благополучных настроениях скачущей половины света мерзостным ощущалось уже само материальное благополучие большинства (как оно некоторым виделось).
А “серебряный век” в России это, собственно, время после революции 1905 года. <<
К тому времени,- пишет Коржавин,- часть публики [часть!] начала терять интерес к политике - тот “политический мистицизм”... который до этого был основой духовной жизни почти всей русской интеллигенции; идея светлого будущего мало-помалу обнаруживала свою скудость. А раз так - захотелось счастливого настоящего, да такого, которое было бы способно наполнить жизнь не меньше, чем отмененное царство справедливости. Престижность героизма и жертвенности кое-где [кое-где!] сменилась престижностью изысканного вкуса, культом красоты и изящества, богатства страстей и душевной сложности>>.Коржавин пишет о презиравших пошлость, а если об искусстве, то о нижнем вылете вон с Синусоиды.

И вот для них,- пишет Коржавин,- <<
единственное, что еще оставалось неосвоенным и неприрученным (и потому представляло интерес), был “мир страстей”. И совсем не в ракурсе открытий Достоевского, то есть не в смысле стремления осознать эту унижающую тайную власть подпочвы и самоутверждения...[
Эгоизма. Достоевский же был враг эгоизма как маньерист XIX века, верхнего вылета с Синусоиды.]...власть подпочвы и самоутверждения не только над мгновенными решениями и поступками людей, но даже и над самыми их высокими побуждениями - и по возможности от нее [
от власти эгоизма] освободиться. Наоборот, [в акмеизме] культивировалась как признак душевного богатства не защита от страстей, а беззащитность перед ними>>.И Коржавин уточняет: <<
Не о сложности человеческих ситуаций речь, а только о безграничном праве неповторимых личностей на самовыражение и самоутверждение. А это само вело к необходимости такой личностью быть, во всяком случае претендовать на силу чувств, при которой “все дозволено”. В поэзии эти претензии проявились невероятной “поэтичностью” (разными видами внешней экспрессии) и утонченностью (форсированной тонкостью)... Были люди - самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамен на исключительность.В сущности, это “ницшеанство”, печать времени...
>>И когда я читаю у Коржавина о вседозволенности в чувствах при их утонченности, я иначе понимаю и “Лесного дьявола” и “Путешествие в страну эфира”.
Чувства павиана, в глазах девушки, отличались вседозволенностью: он осмелился спорить с Необоримой. Он - герой: ради нее пошел на смерть. Что с того, что мы знаем, что это не так, что животная страсть двигала павианом. Зато она возбудила - в итоге, потом - едва ли не равную страсть в женщине. А это уже что-то из ряда вон для человеческого существа. “Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным падению многих вод”. Человек дал бы ей такое переживание? Это ли не противопоставление пошлым чувствам Ганнона?
<<В белом шелковом шатре ожидал Ганнон свою невесту... Золотым стилем на восковых дощечках он описывал пройденный им путь и отмечал количество купленной и отнятой у туземцев слоновой кости. Мечтать и волноваться в ожидании первой брачной ночи было не в его характере>>.
Спрашивается, а почему Гумилев не изобразил просто, как павиан насилует молодую негритянку или и ее, и молодую карфагенянку и какие из ряда вон выходящие эмоции те при этом испытывают? То-то была бы вседозволенность эмоций и беззащитность перед страстями! Но... Это было бы грубо. И если б он окрасил положительно их эмоции - ему бы не поверили: слишком противоестественно скотоложество. Поэтому негритянке Гумилев отпустил лишь пару слов двусмысленности: “стоны и плач”, а карфагенянку провел через такие эмоциональные передряги, что поцелуй в губы мертвого павиана, выпадая все-таки из ряда вон, не кажется ни чистой воды выдумкой, ни грубостью.
И, тем не менее, поцелуй юной невесты является особенно из ряда вон выходящим, потому что она поступила вопреки не только общественному мнению (было темно, и никто не видел), но и вопреки богине Иштар.
Это как Стендаль, вживаясь в возрожденческий буйный порыв от Бога к человеку, в одном своем рассказе, описывая молодых итальянок, в летний вечер, после жаркого дня лакомящихся мороженым, дал одной из них произнести такие слова о лакомстве: “- Ах, если б это еще был и смертный грех!..”
Мол, еще изящнее, утонченнее, чем грешить с мужчиной.
Оно и понятно. На нижних загибах Синусоиды стадиального движения искусства, когда идеал - здесь, в настоящем, почему бы не случаться ницшеанскому по типу срыву с Синусоиды в сверхчеловеческое, против пошлой достижимости идеала и джентльменского набора благ.
Не зря тот же вживающийся в Возрождение Стендаль вывел в одной новелле совершенно особого возрожденческого титана, из пошлого дон-жуанского ряда вон выходящего (и, вроде, действительно в XVI веке жил прототип героя), - аристократа Ченчи, женщин исключительно только насиловавшего.
Вот они - никакой моралью не обузданные страсти.
У Гумилева в “Путешествии в страну эфира” нейтрализатором уз морали является эфир.
Зачем, спрашивается, наркотик, если Инна и Грант, похоже, нравятся друг другу? Да затем, что без наркотика их чувство не приобретает остроту, какую бы они хотели и какая без наркотика, видно, для них недостижима. Например, подразумевается, что сон от эфира у Инны и Гранта общий, одинаковый. И чем как не наркотиками можно было вот так разнуздать девственницу Инну:
<<Сколько времени мы пробыли на этой поляне - я не знаю. Знаю только, что ни в одном из сералей Востока, ни в одном из чайных домиков Японии не было столько дразнящих и восхитительных ласк. Временами мы теряли сознание, себя и друг друга, и тогда похожий на большого византийского ангела андрогин говорил о своем последнем блаженстве и жаждал разделения, как женщина жаждет печали. И тогда же вновь начиналось сладкое любопытство друг к другу>>.
Или странный-престранный рассказ “Дочери Каина”.
Бесстрашный красавец рыцарь Джемс Стоунгемптон был послан королем Ричардом Львиное Сердце в разведку (дело было в крестовом походе в Ливане). И попал рыцарь в грот, где семь красавиц, дочерей Каина (того, библейского, что убил Авеля) стерегли его вечный сон (буквально сон). Красота девушек была совершенно феноменальна, и сэр Джемс захотел взять любую из них в жены. Но, оказалось, это невозможно: девы исполняют завет самого Бога - сторожить сон отца до Страшного суда. И младшая, видно, влюбившаяся в сэра Джемса, впервые за тысячи лет заплакала. А сэр Джемс от этого совсем потерял интерес к жизни и, вернувшись в войско, не смог жить как окружающие. Его отправили домой. Но и там ему было не житье. Он кое-как домучался и умер, не причастившись.
Что тут и почему? Не понятно. А ницшеанство акмеизма дает путеводную нить.
Этот отказ, в сущности, от жизни (а тем более от причастия) есть богоборческий протест против обуздания чувств, вызываемых красотой.
Ведь обратите внимание, какая первопричина вмешательства Бога? (У меня она даже проскользнула мимо внимания в первом чтении, когда со мной еще не было “ариадниной нити”.) Каин воспылал страстью к своей младшей дочери, красавице Лие.
И, надо думать, потому Бог обрек на фантастическое заключение всех дочерей Каина, что иначе они по наследству передадут своим дочерям неописуемую красоту, способную вводить в грех грехов, а своим сыновьям - передадут поползновения отца их, Каина: игнорирование кровосмешения во имя красоты.
И сэр Джемс, молчаливо отрекшись от Бога, не давшего ему красавицу Лию, объективно солидаризировался с Каином.
Любую характерную вещь Гумилева можно объяснить с позиций ницшеанства. А уж “Скрипка Страдивариуса” - точно характерная. Я помнил о ней как о таковой по предисловию В. Полушина к книге сочинений Гумилева. Что же было в самом рассказе - забыл. И вот стало интересно: перечитать - я найду ницшеанство?
Конечно же, нашел.
Скрипач Паоло Белличини столкнулся с обузданием своих желаний и не перенес этого.
Каково было его желание? - Записать и сыграть приснившуюся ему музыку. А в чем было обуздание? - В том, что сыграть ее можно было лишь на такой скрипке, до какой человечество доработалось бы лет через тысячу, если идти тем путем, какой выбрал великий мастер Страдивариус, сделав скрипку, подаренную им Паоло.
Смог Белличини смириться с тем уровнем техники и технологии изготовления музыкальных инструментов, какой он застал, родившись не тысячу лет после Страдивариуса, а через тридцать? Нет. Уж больно он неукротим - Паоло Белличини. И потому он с досады ломает лучшую скрипку Страдивариуса.
А на фоне музыканта - черт. Он хочет, чтобы во имя его, дьявола, а не во имя Бога шло человечество по пути музыкального прогресса. Страдивариус шел во имя Бога. Значит, его скрипку нужно было уничтожить. Вот черт и воспользовался неукротимостью чувств Белличини.
А не будь тот неукротим, не было б гениального музыканта. Опять Гумилев сталкивает красоту с моралью и благосклонно дает первой победу.
Или вот такой штришок.
Какой музыкой соблазнил черт, навеяв сон Белличини? - Своей собственной, чертовской, которую сам сочинил “в ночь, когда гунны лишили невинности полторы тысячи девственниц, спрятанных в стенах франконского монастыря”.
Все сходится, до мелочей. Вплоть до такой. Каин в “Дочерях Каина” назван отцом красоты и греха. И здесь, в “Скрипке Страдивариуса”, опять упоминается Каин. И его, Каина, наставником в деле искусства, оказывается, был черт.
И думаете, в той дьявольской мелодии были интонации боли и отчаяния? - Нет.
<<...Скрипка-Прообраз звенела и пела, охватывая небо и землю, и воздух томительной негой счастья...>>
Как тут не вспомнить стендалевских женщин с мороженым, сожалеющих, что сосать его не есть смертный грех.
И гумилевский черт и сам Гумилев, пожалуй, благодарны должны быть Богу и его заветам: есть что нарушать и испытывать оттого особые, неведомые пошлой довольной толпе, переживания.
И как тут не вспомнить, за что Ницше восхищался Возрождением: <<
Если у нас преступник представляет собой плохо вскормленное захиревшее растение, то это бесчестит наши общественные отношения; во времена Ренессанса преступник процветал и сам себе добывал род добродетели,- конечно, добродетель в ренессансном стиле - честь (virtu) - добродетель, свободную от моральности (moralina)>>.А Чаадаев и Возрождение и его прообраз, древнегреческое искусство, порицал за <<
...гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле... ничего подобного никогда не наблюдалось в других цивилизованных обществах мира. Одни только греки решились таким образом идеализировать и обоготворять порок и преступление, так что поэзия зла существовала только у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию>>.То-то радуется Ницше и огорчается Чаадаев на том свете. У греков Геракл за ночь двенадцать девственниц лишил невинности, и это были просто девицы, и, можно думать, кричали они, может, от боли физической и духовной. А у Гумилева полторы тысячи, и это в монастыре, может, монашки, и крики - совсем другие: томительной неги... на виду друг у друга... в божьем доме...
Ну а как быть с Африкой, к которой Гумилев питал пристрастие и в жизни и в поэзии? Просто ссылкой на экзотику не обойтись. Мало ли какие побудительные мотивы толкают к экзотике?..
Возьмем сборник стихов “Шатер” и самое, пожалуй, трудное для интерпретации в избранном мною (вслед за Коржавиным) духе - “Судан”. Он кончается таким куплетом:
Вечер. Глаз различить не умеет
Ярких нитей на поясе белом;
Это знак, что должны мусульмане
Пред Аллахом свершить омовенье,
Тот водой, кто в лесу над рекою,
Тот песком, кто в безводной пустыне.
И от голых песчаных утесов
Беспокойного Красного моря
До зеленых валов многопенных
Атлантического океана
Люди молятся. Тихо в Судане,
И над ним, над огромным ребенком,
Верю, верю, склоняется Бог.
Видите: совсем боголюбивый тот, кто от имени автора здесь.
А все дело в том, что выбран тут предметом поэтизации ребенок. Детство многопланово и может служить образом самого разного, вплоть до противоположного. И ангельскую чистоту может символизировать детство и, наоборот, столь милую акмеизму необузданность. Действительно, у ребенка процессы торможения в головном мозгу менее развиты, чем у взрослого. Ребенок менее сдержан. И разброс поведения у него огромен: от детского деспотизма до ангельской кротости и пресмыкательства перед авторитетом.
Символ ангельской кротости страны-ребенка-Судана - вот такие стихи:
А кругом на широких равнинах,
Где трава укрывает жирафа,
Садовод Всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акаций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провел многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.
И т. п.
А вот символ пресмыкательства:
...И на тронах из кости слоновой
Восседают, как древние бреды,
Короли и владыки Судана,
Рядом с каждым прикованный цепью
Лев прищурился, голову поднял,
И с усов лижет кровь человечью,
Рядом с каждым играет секирой
Толстогубый, с лоснящейся кожей,
Черный, словно душа властелина,
В ярко-красной рубашке палач.
Перед ними...
...надменно проходят французы,
Гладко выбриты, в белой одежде,
В их карманах бумаги с печатью,
Их завидя, владыки Судана
Поднимаются с тронов своих.
Ну а вот детский деспотизм этого ребенка-Судана:
...Иногда луговые пожары.
День, когда затмевается солнце
От летящего по ветру пепла
И невиданным зверем багровым
На равнинах шевелится пламя,
Этот день - оглушительный праздник,
Что приветливый Дьявол устроил
Даме Смерти и Ужасу брату!
В этот день не узнать человека,
Средь толпы опаленных, ревущих,
Всюду бьющих клыками, рогами,
Сознающих одно лишь: огонь!
Ну а после того, как напроказничал, можно и успокоиться, и помолиться на сон грядущий - смотри первую цитату. Ею кончается “Судан”.
Стихотворение “Сахара” все есть воплощение и выражение необузданности, безразличной к добру, к людям, и - пафос своеобразной красоты в своем разгуле:
Все пустыни друг другу от века родны.
Но Аравия, Сирия, Гоби -
Это лишь затиханье Сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.
Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив
До зеленой доходит Сибири.
[Ничто сахарскую пустынную сущность не останавливает: ни моря, ни горы.]
Потому что пустынные ветры горды
И не знают преград своеволью,
Рушат стены, сады засыпают, пруды
Отравляют белеющей солью.
И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш зеленый и старый
Жадно ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.
Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.
И когда, наконец, корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.
Вот какой красивый кошмар. Я процитировал начало и конец длинного стихотворения. А в середине - всякие экзотические красоты, более или менее опасные для, например, человека: миражи, смерчи, вечерние живописные зори. И всюду - неутилитарная любовь к природе без человека. Например:
Солнце клонит лицо с голубой высоты,
И лицо это девственно-юно,
И как струи пролитого солнца чисты
Золотые песчаные дюны.
Лишь еле заметно пробивается корысть: оппозиция обществу (сытому и благополучному, как мы вывели ранее):
Ни в дремучих лесах, ни в просторах морей,
Ты в одной лишь пустыне на свете
Не захочешь людей и не встретишь людей,
А полюбишь лишь солнце да ветер.
А вообще Гумилев так тонет в экзотике, она так довлеет себе, что иногда и невозможно по конкретному какому-нибудь стихотворению об Африке определить происхождение его тяги к необычному. Стихотворения длинны и построены по принципу инвентаризации красот, поразительных для среднего европейца и доступных (в начале ХХ века) далеко не среднему европейцу. Если же средний туда попадет (не сверхчеловек Гумилев), то даже Африка опошляется:
С обвалившихся стен
И изгибов канала
Слышен хохот гиен,
Завыванье шакала.
И в ответ пароход,
Звезды ночи печаля,
Спящей Африке шлет
Переливы рояля.
(“Суэцкий канал”)
Или вот (заметьте подчеркнутое):
С африканского берега сотни пирог
Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
И стараются их отогнать на восток
С аравийского берега сотни фелук.
Если негр будет пойман, его уведут
На невольничий рынок Ходейды в цепях,
Но араб несчастливый находит приют
В грязно-рыжих твоих и горячих волнах.
Как учитель среди шалунов иногда
Океанский проходит средь них пароход,
Под винтом снеговая клокочет вода,
А на палубе - красные розы и лед.
Ты бессильно над ним, пусть ревет ураган,
Пусть волна как хрустальная встанет гора,
Закурив папиросу, вздохнет капитан:
“Слава Богу, свежо! Надоела жара!”
(“Красное море”)
Можно ли по этим зернам негативизма к благополучной Европе определить пафос творчества Гумилева? Нет. И такие произведения его не красят.
То ли дело “Дагомея”.
Я толстый том сочинений Гумилева открыл впервые на “Дагомее” и прямо оцепенел от неожиданности и необычности.
Дагомея
Царь сказал своему полководцу: “Могучий,
Ты высок, точно слон дагомейских лесов,
Но ты все-таки ниже торжественной кучи
Отсеченных тобой человечьих голов.
Ожерелий, колец с дорогими камнями
Я недавно отправил тебе караван,
Но ты больше побед одержал над врагами,
На груди твоей больше заслуженных ран.
И, как доблесть твоя, о испытанный воин,
Так и милость моя не имеет конца.
Видишь солнце над морем, ступай! Ты достоин
Быть слугой моего золотого отца”.
Барабаны забили, защелкали бубны,
Исступленные люди завыли вокруг,
Амазонки запели протяжно, и трубный
Прокатился по морю от берега звук.
Полководец царю поклонился в молчаньи
И с утеса в бурливое море прыгнул,
И тонул он в воде, а казалось, в сияньи
Золотого закатного солнца тонул.
Оглушали его барабаны и крики,
Ослепляли соленые брызги волны.
Он исчез, и светилось лицо у владыки,
Точно черное солнце подземной страны.
Апофеоз власти и воодушевленного подчинения ей. Это как Сталин и расстреливаемый по его воле полководец Якир, при расстреле выкрикнувший: “Да здравствует Сталин!”
Мыслимо ли, чтоб Гумилев, расстрелянный большевиками, воскреснув и оставаясь верным духу своего творчества, воспел бы необузданность Сталина? - Думаю, да.
И все бы сошлось: Сталин это примазавшийся к революции человек, примазавшийся в преддверии ее победы и в преддверии привилегий победителям; Сталину же приглянулась подвернувшаяся возможность попирать пошлость победителей. Его называют коммунофашистом. А фашисты исповедовали идеалы Ницше. Акмеизм - тоже...
Поэту, правда, пришлось бы быть неким дальтоником, который скорее видит красоту,- что полководец тонет в сиянии золотого закатного солнца,- а не что он в воде тонет.
Ярким примером подобного дальтонизма являются “Записки кавалериста” (это о первой мировой войне).
Вот любой отрывок для иллюстрации.
<<Было решено выровнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали; он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас.
Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в “Войне и мире” посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу - это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: “Так... отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо...” И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно >>.
*
Говорят, что акмеизм - это пир во время чумы. Что ж, вакханалии “Декамерона” тоже рассказываются якобы на пиру во время чумы. Но я бы хотел заметить другое: разные люди могут быть на таком пиру. В 10-х годах ХХ века были: истерики в лице упаднических футуристов-скандалистов, были трагики (Блок), ни на минуту, ни на стих не забывавшие о социальном предреволюционном ужасе вокруг, а были довольно искренние дальтоники, не смотря на дальтонизм прозревавшие благоприятное будущее капитализма и благоденствие в нем большинства и презиравшие благоденствие за пошлость - Гумилев.
Так вот, посмею заподозрить, что Ахматова - хотя б поначалу - была такой, как Гумилев.
Она тогда была певцом богемы. Надо знать только, что бывает богема и богема, и еще богемы - вспоминаете троящиеся разветвления вверху и троящиеся разветвления внизу - в перегибах Синусоиды искусств (всего шесть разветвлений на период)? - они имеют отношение к богемам.
Гамлет, хамящий Офелии на представлении бродячих артистов, тоже вел себя богемно. А пьянки Клавдия с пушечным выстрелом в честь каждого выпитого им бокала - чем не богема?
Так вот, богема Ахматовой - против пошлой богемы типа богемы Клавдия и Гертруды, ставшей, наконец, из его любовницы - его законной женой, не переставая быть королевой, как и при Гамлете старшем.
Берем любое ее стихотворение из сочиненных в 10-х годах.
Вечером
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюдце устрицы во льду.
Он мне сказал: “Я верный друг!”
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
“Благослови же небеса -
Ты первый раз одна с любимым”.
1913 г.Казалось бы, что за пошлость перед нами: поддается женщина похотливому желанию мужчины, при этом ломается сама перед собой, мол, она поддается, потому что любит его. Банально?
Однако, в том-то и дело, что нет. Героиня так остро осознает неестественность положения (как положение устриц - во льду, как запах моря - в тысячах километров от него), она так сливается со скорбью и невыразимым горем скрипок... Ее любовь насколько трезва, настолько и бессильна перед своим любимым. Из этого противочувствия (термин Выготского) - как из кремня об кресало выскакивает искра - рождается возвышение чувств: такой любви - все можно (может быть, в данном случае,- вспомнив, где низ, а где верх в Синусоиде искусств,- вернее было бы сказать не по Выготскому: не возвышение, а понижение чувств).
Что мы получили? Уже знакомую ницшеанскую вседозволенность, совсем по Коржавину, достигнутую форсированной утонченностью и невероятной поэтичностью. Коржавин же писал: <<Это значило... выгрываться в разыгранные роли, а потом писать от их имени, веря, что от своего>>.
И если взглянуть в таком свете, то вопрос: насколько неправ был Жданов в 1948 году, назвавший Ахматову блудницей, когда она в 1913 году выгрывалась-таки в эту роль и писала от ее имени, как от своего: “Все мы бражники здесь, блудницы...”? - Если Жданов относил эти слова к персоне Анне Горенко, писавшей под псевдонимом Ахматова (а проверять, именно ли так сказал Жданов, я не хочу), то он был, наверно, не прав. Но если б понять его по-коржавински, то прав: акмеистские стихи Ахматовой восходят к философии Ницше, высокой нравственностью относительно так называемых общечеловеческих ценностей не отличавшейся. О последнем, впрочем, сегодня немодно и непрестижно заявлять, но будем мужественны.
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.
Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
О как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
1 января 1913 г.
После публичного разоблачения культа личности Сталина и переоценки мнения Жданова опальную Ахматову, ее раннюю лирику, так пытались приспособить к совковой идеологии: мол, образ больной любви у ранней Ахматовой был образом больного старого мира. И яркой иллюстрацией к этой мысли было только что приведенное стихотворение.
Действительно похоже. Пир... Чума...
Только тоньше - как в стихотворении “Вечером”. Та же ситуация. Такой же мужчина, любящий героиню, как любит хозяев предательница-кошка, гуляющая сама по себе. И мужчину этого героиня подлавливает лишь на похоть - своей узкой юбкой. И та же она, осознающая всю неестественность своего положения якобы любимой, как неестественны на стенах ресторана цветы, птицы и облака, как неестественен сам ресторан с навсегда забитыми окнами - не увидишь через них, что за погода-природа за окнами. И так же героиней все это настолько остро переживается, что по сравнению с какой-то другой, той, “что сейчас танцует” и,- раз больше ничего о той не известно, - то по сравнению с той, что в гармонии с пошлой действительностью, героиня - достойна участи противоположной: та - “непременно будет в аду”, значит, эта, героиня, - в раю.
Здесь ад и рай - в переносном смысле. Перед раем в прямом смысле слова героиня такая же бражница и блудница, как и все здесь, в описываемом ресторане: она, героиня, живет не во имя Бога и не во имя Его завета “плодитесь и размножайтесь” - она живет во имя любви, страсти в данном случае не похоже, что к мужу (что еще прощено было б Богом, вспомните “Песню песней” Библии). Она живет во имя любви и страсти даже не к любящему ее всей душой мужчине. Рай в духе этого стихотворения - это награда за святую силу страсти саму по себе, какой, видно, нет у той, другой, потому пошлой и заслуживающей наказания, то бишь ада.
Итак, опять воспевание сверхчеловека, исключительного по силе эмоций: до бессилия перед ними.
Или вот - очень характерное в этом плане стихотворение.
Сероглазый король
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
“Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой”.
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
“Нет на земле твоего короля...”
1910 г.Понимаете, “слава тебе, безысходная боль!” Здесь опять женщина не может выдержать и отступает перед силой чувств, и это прославляется.
Королева, ставшая за ночь седой от горя, достойна большого уважения за, так сказать, несдержанность ее природы. Но та была законной женой. Несдержанности ее горя потрафляло общественное мнение, пошлое общественное мнение благополучного общества.
А героиня, чья дочка с серыми глазками явно от сероглазого короля, в ином положении: ей нужно таить свое горе от всех и от домашних и мужа - в первую очередь (еще неизвестно, не наигранное ли спокойствие ее мужа и что за ночная работа во времена королей: не сторожить ли с оружием в руках и не против короля ли это оружие вчера было пущено - есть за что...). В общем, ей - раскрыться нельзя.
Но несдержанность чувств героини находит выход.
Кто покусится на святыню сна дорогого ребенка? - Она. Она должна немедленно (хоть малютка только заснула - вечер ал), сейчас же, смерти вопреки, увидеть живыми эти любимые серые глаза.
Я извиняюсь за разжевывание. Утонченный стиль Ахматовой - для догадливых. Но догадаются ли иные догадливые до вседозволенности, утонченностью воспеваемой Ахматовой из стихотворения в стихотворение? Или иначе: согласятся ли они принять ницшеанский ее пафос, если их неприятие (этакой, мол, притянутой мною безнравственности) не положить на обе лопатки железной, хоть, может, и нудной логикой?.. Во всяком случае, без продумывания до конца лично я (довольно догадливый, вроде) не понял Коржавина, читая его намеки об ахматовском акмеизме как о ницшеанстве. Потребовался труд души, собственная простановка всех точек над i. Так что, по крайней мере субъективно, я имею право на письменное оформление этого труда.
А Ахматову понимать трудно еще и потому, что, как пишут, ее стихи - свод пятых актов трагедий. И она сама о них писала: “читателю-зрителю предлагается присутствовать при развязке”. Вот и представьте себе, что пьесу вы не читали, раньше не видали, а сейчас пришли на пятый акт и - понимай. Так что критик, исследователь просто обязан представить своему читателю реконструированные первые четыре акта. Я по крайней мере считаю, что критик, в отличие от художника, обязан быть элементарно понятен.
И теперь я должен перейти опять к разбору стихов, потому что я и сам еще не знаю, насколько прав Коржавин насчет акмеизма и Ахматовой. Я ведь пишу не после того, как стало ясно, а наоборот: в процессе писания и черкания все и выясняется, ну, разве что иногда оказывается, что черкать приходится довольно мало - это когда генеральное предчувствие (здесь: что Коржавин - прав) оказывается верным и лишь подтверждается и подтверждается.
С Гумилевым - подтвердилось, с Ахматовой - боюсь - так гладко не будет.
Надо только брать стихи наобум, тогда результат эффектнее будет.
Итак.
Он любил...
Он любил три вещи на свете:
За вечерей пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.
1910 г.Многозначительные троеточия и в заглавии, и в конце. Что они значат? Ну ясно, что или “его” вовсе нет уже на свете, или “его” нет с ней, а не то, что вот, мол, он временно уехал, например, в путешествие. Наверно, развелись. С Гумилевым Ахматова действительно развелась довольно скоро после замужества. Я не помню, когда она за него вышла замуж, но если и после этого стихотворения - это дела не меняет: она могла предчувствовать, вжиться в будущую себя, в замужнюю, а еще точнее - по Коржавину - в истерическую женщину, для которой сдаться своим эмоциям, в том числе и отрицательным, не есть отрицательная характеристика себя.
Но - дальше. Наобум. Что-нибудь.
Подражание И. Ф. Анненскому
И с тобой, моей первой причудой,
Я простился. Восток голубел.
Просто молвила: “Я не забуду”.
Я не сразу поверил тебе.
Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнул уголок?
И всегда открывается книга
В том же месте. И странно тогда:
Все как будто с прощального мига
Не прошли невозвратно года.
О, сказавший, что сердце из камня,
Знал наверно: оно из огня...
Никогда не пойму, ты близка мне
Или только любила меня.
1910 г.
Изложу по-своему.
Почему причуда? Это была не любовь с его стороны? А почему не поверил ей, что она его не забудет? Потому что и сходился-то, предполагая, что и с ее стороны - не любовь?
Если так, то довольно пошлая историйка. Но (опять это но!)... На фоне безусловной благополучной пошлятины (“возникают, стираются лица, мил сегодня, а завтра далек”) упомянутая “причуда” постепенно оказывается из ряда вон выходящей, исключительной.
Все как будто с прощального мига
Не прошли невозвратно года.
А все, что исключительно в области эмоций - это ж идеал, идеал пресыщенного и ненавидящего пресыщенность, это ж идеал акмеиста. И тогда герой свое сердце осознает огненным - экая неукротимая стихия. Важно, что она бушует. А что зажгло: его любовь, ее любовь - собственно, не важно.
Никогда не пойму, ты близка мне
[и я люблю тебя до сих пор]
Или только любила меня
[в отличие от многих других, не любивших].
“Ай-ай-ай,- сказал бы священник,- как грешно жил”.
Я не зря вспомнил про священника, я вспомнил про Бориса Филиппова, исследовавшего ахматовскую загадочную и непонятную - о демонизме надцатых годов ХХ столетия - “Поэму без героя”:
<<Демонические токи поэмы настолько сильны, что разделаться с ней - не только автору, но и внимательному, пристальному читателю - невероятно трудно. Поэма-исповедь. Поэма-дневник - человека в эпохе - и эпохи в человеке... Ахматова - верующий церковно человек... понимает [после бурной своей молодости], что жить-то легче без Христа, но умирать легче с Ним [она начала поэму в 40-м, а кончила в 60-м]... Она [теперь, немолодая] знает, что поэзия, что искусство - в лучшем случае только исповедь, а часто и искушение. Для нее, Ахматовой, демонизм - не стилевой прием, а реальность [ее жизни и жизни ее круга в начале века]. Для нее поэтому “Поэма без героя” - исповедь и самопреображение в двух направлениях - и религиозном, и психоаналитическом: вспомнить, восстановить всю обстановку давнего прошлого, камнем лежащего на душе - значит избавиться от чего-то, что пригнетает и делает дух наш и душу больными. И здесь, в этой исповеди - очищение духа во имя искупления: и личного - и за всех и вся: мы ведь все виноваты за всех и за каждого - и каждый несет вину не только за себя самого.
И та же исповедь - один из методов психоанализа, один из наиболее мощных методов лечения...>>
Значит ли это, что ранняя Ахматова была все же - по-совковому - выразительницей больного после- (1905) и пред- (1917) революционного общества?
Нет. Больных выражали декаденты и авангардисты, по-разному, но не имевшие идеала. А Ахматова, акмеисты, никогда к ним не причислялись. Акмеисты - имели идеал: ницшеанский.
Потому их произведения ясны, чеканны и, в итоге, понятны в общем-то.
А в частности? Подходя конкретно, то и дело робеешь: получится ли понять... И если получается, то это каждый раз - труд души и хочется запечатлеть.
Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
Лежат, пестры, на черноземе.
Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.
А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.
1913 г.
Вот уж, казалось бы, - низкий достижимый и достигнутый идеал, как идеал так называемых старых мастеров: вспомните натюрморты голландской живописи XVII века:
...груды овощей
Лежат пестры...
Это - уставшая от городской ресторанной жизни женщина, вырвавшаяся из своего круга, в который входили не только акмеисты, но и футуристы, и декаденты. Как ни особняком акмеисты держались в кафе “Бродячая собака”, но они ходили именно туда, куда приходили и их антиподы. И насколько ненавидела героиня Ахматовой неестественность той обстановки: нарисованные на стенах цветы, птицы, облака, забитые окошки, сигаретный дым,- настолько нравиться ей должны цветы живые, пахнущие, естественная природа: пруд, ряска и даже искусственная, но тоже по-своему естественная - трудовая обстановка: рогожа, парники, грядки.
Все - так. И все-таки...
Еще лучше - мальчику. Он живет в сказочном таинственном мире. Его чувства напряжены настолько, что даже вдали от пруда он боится, открывая героине тайну этого пруда: там живет карась и с ним большая карасиха.
Героиня мгновенно вживается в чувства мальчика и чтит их. За то, что они из ряда вон выходящие.
Вот эт-то - таки жизнь!.. Не то, что отдыхание душой в естественной банальности.
Вышло. А ведь поначалу было невдомек: что тут к чему? Но что, если что-нибудь еще возьму - и, хоть убей, не укладывается в схему?
*
“Веселые братья” (неоконченная повесть) Гумилева.
Опять фамилия Мезенцов, как в “Путешествии в страну эфира”. Но на этот раз повествование - как бы от его имени. А это ведь, поначалу хотя бы, с авторской точкой зрения ассоциируется. И этот Мезенцов вполне благопристойный человек. Он входит в контры с представителем как бы дьявольского начала - Митей, являющимся злым гением для любви двух пейзан, Маши и Вани.
<<...эта милая пара, он - запевала старообрядческим гимнам, розовый и кудрявый, как венецианский мальчик, она - спокойная и послушная, с вечно сияющими, как в праздник, глазами.
Одна только тень нависла над их любовью - в образе Мити, ловкого парня с красным насмешливым ртом и черными, жесткими, как у грека или цыгана, волосами. Взялся он неизвестно откуда, попросился переночевать, целый вечер шушукался с Ваней, а потом застрял. И стал Ваня после этой беседы сам не свой. Щеки его еще порозовели, глаза заблестели, а работать стал лениво и с Машей ласкаться как будто оставил, с завалинки первый уходить начал. Спросили пришельца, какой он волости, да есть ли у него паспорт, а тот отвечал, что человек он прохожий, а паспорт его - нож за голенищем. Урядник приезжал, он напоил урядника.
“Не человек, а огорчение одно”, - говорил старый мельник, хозяин Мезенцова, и Мезенцов соглашался с ним...>>
Митя, похоже, совратил Машу, чтоб Ваня от нее отказался и пошел с ним, человеком прохожим. И Ваня пошел. А Маша утопилась. И Мезенцов совсем Митю не одобряет, а нагоняет этих “прохожих” и собирается разоблачить Митю перед Ваней, рассказав, что сон Маши о том, как она согрешила с Митей, есть таки сон и не больше; что ученый Фрейд открыл такое явление: человеческое сознание вытесняет в сон (в явный или в сон наяву) то, что стыдно; что Маша, не зная этого феномена и того, что бывают сны наяву (без четкого засыпания), по сути, оклеветала себя сама.
Причем, когда Мезенцов еще собирался на погоню,- это специально отмечено,- он захватил томик Ницше.
И дальше по ходу действия получается, что никак Ницше на него не влияет, он книгу теряет, так ни разу и не почитав. Митю Мезенцов если не разоблачил, то опасаясь ножа за голенищем у проходимца. А если и согласился путешествовать с ним, то соблазнившись этнографическими посулами Мити:
<<...как же было упустить возможность небывалого приключения, которое может навсегда создать ему славу в четвертом отделении Академии наук в Петрограде>>.
И пока путешествовали, Мезенцов временами очень остро испытывал неприязнь к Мите:
<<...нет, он проберется за ним в его осиное гнездо и там громко расскажет о Машиной смерти...>>
Какое же тут ницшеанство, спрашивается? Что-то обратное, скорее.
А что Митя этот связался с вроде богоугодным делом - опозорить науку за то, что она враждебна религии - так мало ли к каким возвышенным идеям примазывается криминальный элемент. Похоже, Мезенцова “богоугодностью” Мити не собьешь.
Списать, что ли, все эти несоответствия акмеизму на неоконченность повести?
И все же, все же...
На первых же строчках повествования есть такое:
<<Николай Петрович Мезенцов, приехавший в этот глухой угол собирать народные сказки и песни, а еще более гонимый вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русским интеллигентам...>>
Что ж? Уж не то ли бегство из пошлой действительности, что мило акмеизму?
Один персонаж, кажется, чеховский, некая пресыщенная дама, произнесла: “Так скучно... Хоть война случилась бы, что ли...”
К чему это я? - А к тому, чтоб сравнить гумилевского вояку из “Записок кавалериста” с гумилевским же Мезенцовым из “Веселых братьев”.
Как начинаются “Записки кавалериста”?
<<Мне, вольноопределяющемуся - охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем>>.
И посмотрите, что это за фантастические мечтания в “тихие” недели на фронте:
<<Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза, звезды и забавлялся, соединяя их воображаемыми золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках - курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение>>.
Гумилевский кавалерист еще похлеще, чем та дама: и парадная война ему - тут как тут, и фантастические мечтания посреди нее.
А теперь посмотрим, чем это не аналогия состоянию Мезенцова, в которое он в конце концов пришел, убежав от пошлой обыденности и странствуя от чуда к чуду.
<<Чайная стояла за деревней... хозяин... заметив на Мезенцове остатки городского костюма, указал путникам на господскую половину... Мезенцов... с наслаждением растянувшись на диване, погрузился в ставшее для него теперь обычным занятие, которое с каждым днем он ценил все выше - лежать и ни о чем не думать. Ему нравилось открывать в этой области новые, как ему казалось, приемы и возможности. Смотреть на какую-нибудь вещь, случайно оказавшуюся перед глазами, и уверять себя, что она и есть самая драгоценная в мирозданьи и что ради нее и только благодаря ей и существует все остальное. Воображать, что он уже умер, распался на атомы и теперь цветет какой-нибудь араукарией в Мексике, стоит розовым облаком над Пекином, бродит белым медведем в Ледовитом Океане - и все это одновременно. На этот раз он принялся повторять Бог знает почему припомнившееся ему слово “мяч” и уже через несколько минут почувствовал, что этот мяч, сперва только отвлеченный, стал воплощаться с неимоверной стремительностью. Вот он заслонил Митю и Ваню, чайную, всю Россию и на мгновение заколебался на земле, как зловещая опухоль. Но мгновение прошло, и уже земля стала его опухолью, а потом пригорком, песчинкой, пылинкой на его буйно растущей поверхности. Уже нет ни времени, ни пространства, ни вечности, ни бесконечности, а только мяч и один закон его головокружительного возрастанья. Когда Мезенцов очнулся от этого кошмара, уже смеркалось...>>
Ведь правда, что аналогия - полная?
А дело в том, что Мезенцов нашел себя в этом бродяжничестве. Никакой нравственной основы не осталось в его путешествии. Песни и сказки он собирать перестал с тех пор, как примкнул к этому демону Мите. Этнографический интерес остался лишь как самообман. Мезенцов не ведет записок, никакой передачи сведений в Академию практически не предвидится. Митя его, как Мефистофель Фауста, просто по договору ублажает, показывая чудо за чудом, фактически набредая на чудеса, что неизбежно “в этой стране безмерностей” - Восточной России, Предуралье.
Ассоциация с “Фаустом” очень плодотворна. Ведь “Фауст” Гете произошел из идеологии немецкого штюрмерства XVIII века. А культ героя, типичный для литературы “бури и натиска”, включавшей в себя и первую часть “Фауста”, был порожден несогласием с серым однообразием мещанского существования, с проповедью принципа “золотой середины”. И безоглядное отстаивание идей свободы приводило штюрмеров (это факт литературы) к крайностям: безудержному восхвалению эгоизма, утверждению имморализма, объявлению божественной исключительности гения, короче - к идее сверхчеловека, что впоследствии неоднократно подхватывалось ницшеанцами и фашистами, в частности.
Гумилев пишет:
<<Давно Мезенцов докурил все свои папиросы, потерял вконец истрепавшегося Ницше и сломал зубную щетку, но ему радостно было, подобно странствующему рыцарю, идти от чуда к чуду>>.
Здесь все значимо. Папиросы - наркотик и, в чем-то, удел слабых. И Мезенцов, поневоле перестав курить, как бы приобщается к сильным. Он теперь не чистит зубы, и ему плевать. Это он приблизился к презиранию обычных человеческих норм. А что потерял томик Ницше, так ушел от книжности, стал практик, когда читать уже не столь актуально.
А практика - это практический отказ от разоблачения Мити перед Ваней. И отрицательные характеристики Мите со стороны Мезенцова по ходу повествования прекращаются. И это понятно: и у Мезенцова, и у Мити оказывается одинаковая суть - избегание обыденщины. Митя же делает это виртуозно. Так почему б Мезенцову не отдать Мите должное:
<<...А где у вас тут по вечерам девки собираются? - неожиданно закончил Митя.
-... На мосту, знамо, а то где еще...
На мосту уже заливалась гармоника, похожая на голос охрипшего крикуна, и голоса в свою очередь очень напоминали гармонику. Посреди круга девок парень в прилипшей к телу потной рубашке танцевал вприсядку. Он по-рачьи выпячивал глаза и поводил усами, как человек, исполняющий трудное и ответственное дело. Зрители грызли семечки, и порою шелуха падала на танцора и прилипала к его спине и волосам. Он этого не замечал. Митя подмигивая мужикам и щекоча девок, в одно мгновение, как он один умел это, протолкался сквозь толпу, толкнул плясавшего так, что тот покатился в толпу, и, пронзительно взвизгнув, пустился в пляс. Девушки захохотали, потом замолкли очарованные. А опрокинутый только что парень уже подходил, вызывающе засунув руки в карманы и поглядывая недобрым взглядом. Видно было, что он решил драться. Митя последний раз подпрыгнул, щелкнул каблуком и остановился как раз, чтобы встретить врага. Быстро взглянул он на рачьи глаза и оттопыренные усы и усмехнулся, сразу оценив положение.
- Покурим, что ли? - сказал он, деловито открывая коробку папирос. Парень остановился озадаченный.
- Спичек вот нет,- продолжал Митя,- да ладно, достанем.
- У меня есть спички, начал Мезенцов, догадавшийся о его тактике.
[Выручает.]
- Давай! А ты папиросу-то поглубже в зубы возьми, это тебе не козья ножка! Повернись по ветру, вот тебе и огонь.
- Да ты постой,- бормотал сбитый с толку парень.
- Чего стоять! Я плясать хочу. А папироска хорошая, ты не думай. Вижу первый сорт...
...Митя плясал вдохновенно, закрыв глаза, как поющий соловей>>.
Выгодно подан Митя. Нечего сказать.
Или вот, скажем, такая - для Мити - обыденность, как соблазнить девицу... Как превратить ее в необыденность?
<<Митя остановился за углом.
[Эта сцена - по сути - как бы продолжение процитированной выше.]
Он был не один. Свежий девичий голос звучал умоляюще:
- Князь мой яхонтовый, останься еще хоть на денек, как я буду без тебя?
- Да так и будешь, как была.
- Да зачем же тогда ты плясал так, слова такие говорил?
- Пляс - дело молодое, а слова, что птицы, вылетят, и нет их...
- Слушай, я еще ни с кем не гуляла... первый раз... Хочешь верь, хочешь нет. Пойдем сейчас на гумно, мать не хватится.
- Мне что придти. И этого нам не надобно. Есть у меня на чужой стороне зазнобушка, да не одна. Ищи, воро`на, себе во`рона и оставь меня, ясна сокола. Чего ж ты расхныкалась? Разве мало парней на свете? Ну, иди, иди, тут мои товарищи.
Мезенцов кашлянул, и Митя показался из-за угла. Лицо его еще сияло оживлением пляски, и только изогнутые брови сдвинулись, образовав маленькую гневную морщинку, которая очень его красила>>.
Вам не кажется, что Мезенцов не зря обратил внимание на Митину красоту без неприязни? Просто этому почитателю Ницше нравится живой ницшеанец. Тем более, что тот красив.
И наверно, чтоб оттенить от этого, красивого, другой, некрасивый выход из пошлого пресыщения (в искусстве - если можно так назвать ту сферу жизни - этому другому выходу из пошлости соответствует джойсовский - в “Улиссе” - выход в модернистское издевательство над литературой, собой и читателем), - так вот, чтоб оттенить Митин демонизм, Гумилев дал пример сатанизма, неэстетического деяния, безнадежно и обреченно претендующего на эстетизм:
<<Навстречу пробежал мужичонка в рваном армяке. Шапку он держал в руках, и на лице его было написано отчаянье, смешанное с безграничным восторгом. “Гуляет... не дай Бог как гуляет”,- пробормотал он и скрылся. Наконец, в поле за деревней Мезенцов увидел огромный молотильный сарай, из которого и доносился шум. Перед дверью были в беспорядке навалены, очевидно поспешно выкинутые, земледельческие орудия и несколько снопов, а в щели лился яркий свет. Этот свет почти ослепил путников, когда они вошли. Внутри было по крайней мере человек триста. Мужики с раскрасневшимися от вина и духоты лицами жались по углам, принарядившиеся парни собирались кучками, а перед ними пели осипшими уже голосами бабы и девки в огненно-ярких кумачовых платках. Пеньем управлял низенький, лысый человечек, с лицом подрядчика и в поддевке из тонкого сукна.
А посередине комнаты, совершенно один перед накрытым столом сидел мужчина лет тридцати пяти, бывший центром общего внимания. Мезенцову сразу бросилось в глаза его бледное, слегка опухшее, мускулистое лицо, иссиня черные волосы и усы и самоуверенный, почти дерзкий взгляд. Позднее он разглядел черную тужурку с форменными петлицами, выдававшую в их владельце инженера путей сообщения. На столе стояла наполовину пустая бутылка шампанского и большой золотой кубок из тех, которые назначаются призами или дарятся на товарищеских проводах.
- Кто это? - шепотом спросил Мезенцов у соседнего мужика, но не получил ответа, потому что все вдруг замолчали - это сидевший поднял руку и устремил взор на вошедших.
- Привет вам, гранды Испании! - загремел его голос.- Откуда и куда направляете вы стопы?
- Мы люди прохожие,- хмурясь, отвечал Митя: видно было, что приветствие ему не понравилось.
- Прохожие, иначе проходимцы. Ну а знаете ли вы, кто я?
- Откуда нам знать?
- Павла Александровича Шемяку не знаете?- и сидевший оглянулся вокруг, как бы ища сочувствия своему негодованию.- Инженера путей сообщения? А Сольвычегодско-Мамаевскую железную дорогу кто вам построит? Кто изыскания третьего дня закончил - птица? Нет, извините, не птичка, а я. Все теперь у вас будет: и книги, чтоб девкам папильотки закручивать, и калоши, чтобы подэспань танцевать, граммофоны, вино, сардинки и сифилис. Приобщитесь к культуре, а мне уж позвольте погулять. Понимаете, да? Правда? Ну, благодарю вас!
Он вежливо поклонился и вдруг крикнул, обращаясь к подрядчику:
- Афанасий Семенович, а ну, мою любимую!
Афанасий Семенович неистово взмахнул короткими ручками. Бабы и девки грянули хором, невыразимое слышалось в каждой их интонации:
Если барин без сапог,
Значит, барин педагог.
“И...ах!”- рявкнули мужики.
Если барин брехать рад,
Значит, барин адвокат -
продолжали женщины уже с тайным сочувствием.
“И-ах!”- громче орали мужики.
Если барин всем пример,
Значит, барин инженер.
тянули женщины, и благоговейный восторг перед воспеваемым сделал на мгновение их осипшие голоса почти прекрасными. “И...и...и...”- зашлись мужики, приседая от напряжения, с выпученными как на хлыстовских раденьях глазами. Шемяка слушал, прищурясь и наклонив голову.
- Хорошо,- с чувством сказал он и залпом опорожнил кубок, который сейчас же снова был наполнен услужливым Афанасием Семеновичем из бутылки, стоявшей под столом.
Но Шемяка больше не стал пить. Он поймал движение путников, повернувшихся было к дверям, и остановил их вопросом:
- Куда это? Ты, розовый, иди сюда, выпей.
Сразу десятком услужливых рук Ваня был выпихнут на середину сарая.
- Выпей, выпей,- повторял Шемяка настойчиво, заглядывая ему в глаза.
Ваня слегка побледнел и сжал губы.
- Не хочу вашего вина,- сказал он вдруг негромко, но твердо.
- Нет? Гнушаешься,- ласково продолжал Шемяка.- Ну, все равно! Видишь девок? Выбирай какую хочешь себе на ночь! Я скажу, любая пойдет.
Девки хихикнули, а некоторые и оробели.
- Не надо мне и девок ваших,- как бы на что-то решившись, громче отвечал Ваня.
- Да ты что, обалдел?- зашептал ему Афанасий Семенович, но притих от гневного жеста Шемяки.
- И девок не хочешь? Так, так!- задумчиво повторял инженер.- Чем же мне тебя подарить? Деньгами разве?- он засунул пальцы в жилетный карман, нетерпеливо выбросил на пол несколько десятирублевых бумажек и наконец достал совсем новенькую, похрустывающую пятисотенную.- Вот, возьми. Избу новую поставишь, лошадь купишь. Не в грязи-то жить, с хлеба на квас перебиваться. Или - ты человек молодой - в Москву поезжай, учиться, в люди выйдешь.
Среди мужиков пронесся завистливый ропот. Девки придвинулись ближе.
- И денег ваших не хочу!- просто крикнул уже совсем бледный Ваня.- Ничего, ничего, потому что вы - диавол!
Толпа замерла.
- Что?- удивился Шемяка, как-то странно подмигнув.
Ваня в отчаянии огляннулся. Сзади стоял слегка согнувшись Митя и держал руку за голенищем. Это его ободрило.
- Потому что вы диавол,- повторил он медленно, словно не своим голосом.
И только в этот миг Мезенцов заметил, отчего так светло в сарае. Во все стропила, балки, притолоки были воткнуты церковные свечи - копеечные, пятикопеечные и толстые рублевые. Нагретый воск душистыми белыми слезами капал на грязный пол и спины крестьян. Видно было, что Афанасий Семенович не останавливался ни перед чем, чтобы угодить своему господину.
- А ведь верно!- вдруг крикнул Шемяка с просветлевшим лицом и ударил по столу.- Как это никто не догадался, ты один? Эй, вы, паршивцы, отвечайте,- обратился он к толпе,- дьявол я или нет?
- Точно так, батюшка Павел Александрович, дьявол,- низко кланяясь, загудели мужики.
- А вы, бабы, как думаете?
- Дьявол, батюшка, как есть дьявол!
- Ну, а Афанасий Семенович, значит, Вельзевул?
- Он самый, родимый, сразу видать.
Афанасий Семенович озирался сконфужено и отирал пот с лысины. Шемяка засунул руку в карман и вытащил горсть полтинников и рублей, среди которых темнели и золотые.
- Подбирай уголечки,- и он швырнул деньги в метнувшуюся толпу.
Митя воспользовался общим смятением, подхватил под руку Ваню, дернул за полу Мезенцова, и все трое оказались на воздухе>>.
Как акмеизм на моей ариадниной нити разошелся с перпендикулярным плоскости искусства ответвлением - современным акмеизму модернизмом Джойса, так отвращаются друг от друга демонический Митя и сатанинский Шемяка. Последний, кстати, интеллигент, что, пожалуй, тоже не случайно. Это интеллигенту в первую очередь присуще страдать - до маразма - от утраты идеала и невозможности прибиться хоть к какому-нибудь: низкому или высокому - идеалу.
Ну а может быть, что Мите аналогия - романтизм? Скажем, идиллический,- как выражался Коржавин, отвергая причастие акмеизма к романтическому искусству. Может ли быть, что Мите аналогия - романтизм, не удовлетворенный действительностью, романтизм, стремящийся вернуть ее к прошлому - к идиллии преобладания религиозности, романтизм, стремящийся к отбрасыванию неприемлемого в этой, нынешней действительности материализма, науки. Ведь вон Митя к целому братству примкнул, к тайному международному обществу, поставившему себе целью скомпрометировать всю европейскую науку, последовательно вводя в нее неверные данные. Ведь, вроде, во имя Бога действовало то общество: опозорится наука - вспомнят люди про Бога. И, значит, нечто, принимаемое за идеал, руководило братством.
Исследуем.
Как видит братство Гумилев глазами Мезенцова? Как совокупность интересных (не без странности), но темных людей, обманутых проходимцами похлеще, чем Митя. Об этом не сказано в неоконченной повести, но уровень образования Мезенцова несомненно таков, что он знает, что религии давно - еще со времен Платона - справились со своими разногласиями с наукой и, следовательно, не могут относиться серьезно к негодным попыткам им помочь в противостоянии науке. Вот потому братья в “Веселых братьях” представлены такими убогими:
<<Мезенцов и Ваня... замерли в изумлении перед вытоптанной небольшой площадкой, полной объедками и тряпьем, как воронье гнездо. И посреди этой площадки, тоже напоминая чету ворон, сидели два долговязых человека в дырявых ботинках и лоснящихся от жира длиннополых сюртуках. Их прыщавые, угреватые и безбородые лица казались совсем молодыми... Большая недоеденная кость, подозрительно похожая на лошадиную, лежала между ними. Это были Филострат и Евменид, братья Сладкопевцевы.
- Что это вы так запрятались?- весело закричал Митя.- В Огуречном надо было ждать.
- В Огуречном и ждали,- дружно ответили братья,- только там притеснять нас стали, вот мы сюда и ушли.
- Да кто притесняет-то?
- Староста. Как мы, значит, работали с усердием, в нас и влюбилась дочка старосты, ну и мы в нее, конечно. Отец и пристает - женись. А как мы женимся оба сразу на одной? Так и ушли.
- Так что, она в вас обоих влюбилась, что ли?
- А как же иначе? Говорит, что ей Евменид нравится, только мы на это не согласны, мы двойня, у нас с детства все общее.
- Так как же вы любите? Как устраиваетесь?
Братья сокрушенно вздохнули.
- Да никак! Всякая наша любовь бывала несчастная, по этому самому. Оно конечно, какая-нибудь и согласилась бы, только мы так не можем, мы только в законном браке. А иной раз, особенно после сна, так хоть в петлю.
- Вам бы в Тибет поехать,- вмешался Мезенцов,- там полиандрия, одна женщина за многих выходит сразу.
- Ну?- обрадовались братья.- Нам бы хоть какую-нибудь, хоть черную, только чтоб вдвоем. А как туда проехать?
- Через Индию можно или через Китай.
- И сколько стоит дорога?
- Мезенцов прикинул в уме цену второго класса на пароходе - он не представлял себе, чтобы можно было ехать в третьем.
- Тысячи по две на каждого.
- А пешком нельзя?>>
Это - “историки”, псевдоисторические лжедокументы изготавливают. Географию не знают.
А вот - “химик”, получивший задание опровергнуть Лавуазье, закон сохранения массы веществ при химических реакциях:
<<Навстречу путникам на окраине уже ясно видного села ковыляла какая-то фигура, похожая на медведя. “Калека”,- с удивлением подумал Мезенцов. Однако, когда они подошли ближе, он не заметил в ней никакого убожества. Миша волочил за собой то ту, то другую ногу, а иногда шел совсем плавно и ровно. Руки его то отвешивались, то подбирались. Веки его, казалось, прикрывали ужасные бельма, и странно было видеть вдруг хорошие серые глаза. Он шел как-то боком и, не дойдя нескольких шагов, остановился застыдившись.
- Здравствуй, ясный,- сказал Митя, целуя его.- Ну, каковы дела?
- Дела ничего, что дела,- бормотал Миша, потирая щеку, которой коснулись Митины губы, и, наконец, осмелев, поклонился Мезенцову и Ване.- Простите меня.
- Что ты, что ты, милый?- заторопился Митя.- Это свои.
И он продолжил, обратившись к товарищам:
- Он боится, что вы осудите его, зачем ноги не так, зачем руки не так, а что судить-то, еще не известно, сами мы лучше ли.
И он обнял Мишину шею с одной из самых своих очаровательных повадок.
Изба, в которую они вошли, была большая и светлая, потому что два окна ее выходили на запад. На окнах ситцевые занавески, приятные по краскам и затейливые по рисунку. Несколько покрашенных киноварью и суриком лубков - “Взятие Плевны”, “Страшный Суд” и “Бова-королевич” - озаряли тесовые стены. Но сразу бросалось в глаза нечто неестественное, как павлиний хвост у быка, как собака на верхушке дерева. Это были высокие липовые нары в углу, сплошь заставленные ретортами, колбами, змеевиками, банками с притертой пробкой. Горела спиртовка, такая, на каких подогревают кофе, а над ней в стеклянном стаканчике клокотала какая-то бурая дрянь. Недоеденная селедка лежала посреди кристаллов купороса. “Так вот во что превратились алхимики,- со злорадной усмешкой подумал Мезенцов.- Ясно, этот Миша ищет философский камень”.>>
Все это люди достаточно забитые, чтоб такой Митя, обходя их, одного за другим между Волгой и Уралом, своим ножом за голенищем и пересылаемыми с ним деньгами держал их в повиновении.
Разве может эта братья, к тому же исподтишка бунтующая, выражать собой некий идеал, пусть и обращенный в прошлое, как “идиллический” романтизм? - Нет.
Зато Митя, имея за плечами какое-никакое целое общество с его финансовыми средствами (умудряются и деньги из кого-то охмуренного выкачать), - Митя, этот верный опричник некой мафии, свой идеал сверхчеловека вполне может исповедовать. Но идеал это, получается, не романтический (романтизму свойственно даже в индивидуалистическом идеале иметь в виду некое общественное настроение индивидуалистов). Митя же не связан ни с кем и ни с чем, кроме своих прихотей по части необычного:
<<...уже смеркалось, и хозяин, зажигая висячую керосиновую лампу, бормотал под нос, как бы не обращаясь к Мезенцову: “Бог знает, что там на дороге, лошадь не лошадь, медведь не медведь. Ваши товарищи глядят, пошли бы и вы”.
Мезенцов вышел на крытое крыльцо. Шел тот же свинцово-серый дождь, и дорога блестела, как широкая река. Все попряталось: собаки, куры, коровы, и в этом унылом запустении по дороге со стороны Урала медленно и неуклонно двигалась какая-то темная туша, действительно похожая на вставшего на дыбы медведя.
- Мужик,- сказал долговязый Митя.- Это Ваня тут нивесть что придумал, а я сначала говорил, что мужик.
- Да, но какой,- оправдывался Ваня,- хуже иного прочего. Ты погляди как он идет.
Мезенцов осознал справедливость этого замечания, когда путник поравнялся с чайной. Действительно, он с каждым шагом уходил выше колена в топкую грязь и с каждым шагом вырывал ногу словно молодое деревцо, и не смотря на это пел задорно, громко и невнятно - Мезенцов разобрал только фразу: “Ой, други, ой, милые, кистеньком помахивая”. Огромный рост и черная курчавая борода, закрывавшая до половины его грудь, делали его похожим на крылатых полулюдей-полубыков Ассирии. Он не удостоил взглядом ни чайную, ни стоящую перед ней группу и уже прошел, когда Митя крикнул ему:
- Зайди, дядя, что тебе по грязи шлепать, посушись.
- А для ча?- повернулся тот, и Мезенцов увидел чрезмерно светлые глаза, как у полководца в решительный час генерального сражения.- Что я, баба, чтобы дождя бояться?
- На бабу ты действительно не похож,- критически оглядывая его, сказал Митя,- а так, зайдешь, расскажешь что.
- Некогда мне со всякой шушерой язык трепать,- последовал грубый ответ, и прохожий, увязнувший благодаря остановке почти по пояс, рванулся словно лошадь от каленого железа и действительно вырвался.
- Водки выпьешь,- крикнул ему вдогонку Митя, который не любил отказываться от своих прихотей.
- Ставишь?
- Ставлю.
- Четверть?
- Куда тебе, облопаешься.
- Не твоя печаль.
И прохожий, не обтерев ног, похожих от налипшей грязи на слоновьи, вошел в чайную>>.
И такого подчинил Митя. Как же ему не покорить душу начинающего ницшеанца Мезенцова...
Одного я не могу объяснить внятно: зачем настоящие чудеса впускает Гумилев в повествование.
Вообще - оно понятно: когда идеал гнездится в области необычного, как тут не попасть иной раз в мистику. Так появляются совместные сны (“Путешествие в страну эфира”), тысячелетние сны (“Дочери Каина”), творческие сны (“Скрипка Страдивариуса”).
В оппозиции символизму акмеизм свою мистику сделал предельно реалистической, не туманной, почти материалистической, мол, мало ли что может присниться.
Но зачем Гумилеву было такое чудо в “Веселые братья” подбрасывать, я не знаю:
<<То, что увидел Мезенцов, и тогда и после казалось сном, так это было необычно и в то же время потрясающе реально. Толпа отхлынула от лавки, старухи - охая и причитая, старики - крестясь. Больной приподнялся и схватился обеими руками за сердце, лицо его стало зеленоватого цвета, как у мертвеца. Казалось, его поддерживает только неизмеримость его муки. А изо рта его, разжимая стиснутые зубы, ползло что-то отвратительное стального цвета в большой палец толщиной. На конце, как две бисеринки, светились маленькие глазки. На мгновение оно заколебалось, словно осматриваясь, потом медленно изогнулось, и конец скрылся в ухе несчастного.
- Рви, рви!- взвизгнул Митя и, схватив одной рукой червя, другой уперся в висок больного. Его мускулы натянулись под тонкой рубашкой, губы сжались от натуги, но червь волнообразными движениями продолжал двигаться в его руке, как будто она была из воздуха. Больной ревел нечеловеческим ревом, зубы его хрустели, но вдруг он со страшным усилием ударил Митю прямо под ложечку, Митя отскочил, ахнув, а червь высвободил хвост, причем он оказался слегка раздвоенным, и скрылся в ухе. Как заметил Мезенцов, он был не многим больше аршина>>.
Зачем было делать, чтоб у Мити хоть что-то да не получилось?..
Не понятно.
Зато как много другого благодаря ариадниной нити истории искусства стало понятно.
*
И все-таки тревожно. Отчего не так, как с другими стилями, с другими художниками? Там - озарит понять одну вещь, и как обвалом идет понимание других. И понятно почему. Пафос-то творчества у художника меняется медленно (если вообще меняется). А тут, с акмеизмом, как-то не так. Каждая вещь уже после выяснения сверхзадачи стиля предстает как все же загадка, словно то общее, что об акмеизме уже знаешь,- для этой вещи не применимо.
Ну не спасаться же каждый раз, кивая на исключения из правила, на нетипичность.
...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.
Что это? - Ну пусть нечто чуткое и сдержанное, раз “внимает шорохам” и терпит - лицо окунуто в воду. Так что?
Напряжение, правда, от такого противоречия большое (если вдуматься). Действительно: рана и чтоб без стона, без звука. Как статуя.
В этом, что ли, двойник поэту - статуя?
А может-таки, в этом.
“Все в мире - контрапункт, противоречие”,- сказал один великий. И в мастерстве артиста - тоже контрапункт.
Вот, скажем, Станиславский свою технику исполнительского искусства не изобрел, а открыл. Это ж естественно: чем больше сдерживаться, тем сильней взрыв, когда нет сил сдержаться. В том же - в двух словах - суть системы Станиславского. Не надо себя насиловать и натужно выворачивать из себя внешние проявления чувства. Надо наоборот. Сдерживать эти внешние проявления - как наша раненая поверженная статуя. Внутренне же - внимать шорохам - накачивать себя деталями вживания в положение. И тогда чувства взорвутся и проявятся внешне. И вот это будет - игра. Тут-то притворяться - не потребуется, знай только давай себе волю.
А это ли не идеал акмеизма?
Тонко, да? Так что даже не видно, да? Кажется притянутым?
А ведь, если вдуматься, Ахматовой нужно было, чтоб возникло такое подозрение, коль скоро толкование произнесено. И Ахматовой нужно было, чтоб толкование хотя бы не было очевидным. Ей необходимо было затруднить понимание своих вещей. Потому что суть акмеизма глубоко индивидуалистическая, можно сказать - сверхиндивидуалистическая. Это ж срыв с того загиба Синусоиды, который находится “внизу”.
Массовому искусству типа сериала “Богатые тоже плачут” нужно, чтоб зритель чувствовал себя догадливее и героев и автора: он, зритель, мгновенно ориентируется в обстановке, а герой все еще не догадывается, и сам автор настолько откровенно затягивает реакцию героя, что рискует нарваться на нетерпение - выключение телевизора. Но автор все-таки не доводит до ссоры со зрителем, массовым, по крайней мере. И - зритель снисходит до автора. Зато автор получает для своего произведения сотни миллионов зрителей.
А акмеист дает вершину, с крутейшими откосами. Хочешь - взбирайся. Сможешь - взберешься. А помогать? Это не в его духе и не в духе тех, кто берется взбираться.
Мало таких? Тем лучше. Сверхчеловеков и должно быть мало.
Вот, думаю, откуда произошел и такой прием, как предъявление только пятого акта драмы.
*
А как, кстати, с драмами Гумилева? Ведь вот все классические пять актов, скажем, в “Отравленной тунике”... Все там понятно. И - как писал поэт - там “всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет”.
Имр, пылая местью за убийство отца, мелкого князька, явился из Аравии в Константинополь с предложением подчинить страну Византии, если ему дадут войско для мести. У императора Юстиниана другая страсть - расширение империи. Он готов воспользоваться раздорами в Аравии, он также хочет присоединить Трапезонд, выдав дочь Зою замуж за царя Трапезонда и следом тут же того отравить. Императрица Феодора тоже снедаема страстью - отомстить падчерице Зое за то, что та обозвала ее уличной блудницей. Ее месть - назвать Зою блудницей. Ну а Зоя сгорает от скоропостижной любви к Имру. И, наконец, царь Трапезондский кончает с собой от измены Зои, его невесты.
Что тут скрыто? И что - необычного (если страсти считать за обычное, по крайней мере,- в искусстве)?
А скрыт,- как всегда в неприкладном искусстве,- художественный смысл. Необычность же его - в характерной (для акмеизма, в частности) аморальности идеала.
Мне, по долгом размышлении, кажется ключевой в этом плане последняя сцена последнего, пятого, действия. Вот оно все:
Сцена пятая
Феодора и Зоя
Феодора
Теперь вы безопасны для меня,
Затворница заговорить не может
[Это Зоя. Ее за прелюбодеяние император наказал схимой.]
И мертвый тоже.
[Это Имр. Его отправились отравить.]
Наступило время
И мне сказать всю правду без утайки.
Тебя я ненавидела всегда
За руки тонкие, за взгляд печальный
И за спокойствие, как бы усталость
Твоих движений и речей твоих.
Ты здесь жила, как птица из породы,
Столетья вымершей, и про тебя
Рабы и те с тревогой говорили.
Кровь римская и древняя в тебе.
Во мне плебейская, Бог весть какая.
Ты девушкой была еще вчера,
К которой наклонялся только ангел,
Я знаю все притоны и таверны,
Где нож играет из-за женщин, где
Меня ласкали пьяные матросы.
Но чище я тебя, и пред тобой
Я с ужасом стою и с отвращеньем.
Вся грязь дворцов, твоих пороков предков,
Предательство и низость Византии
В твоем незнающем и детском теле
Живут теперь, как смерть живет порою
В цветке, на чумном кладбище возросшем.
Ты думаешь, ты женщина, а ты
Отравленная брачная туника,
И каждый шаг твой - гибель,
Взгляд твой - гибель,
И гибельно твое прикосновенье!
Царь Трапезондский умер, Имр умрет,
А ты жива, благоухая мраком.
Молись! Но я боюсь твоей молитвы,
Она покажется кощунством мне.
(Уходит)
Зоя стоит несколько мгновений, потом падает на колени лицом в землю.
Зое слово не дано. Ее действие - есть признание правоты Феодоры. Последнее слово осталось за Феодорой. И это слово - не женщины, не блудницы, не императрицы, а философа. Можно даже сказать - здесь звучит беспримесный голос автора. И потому, что тут - философия, и потому, что авторская воля была именно так кончить трагедию.
А теперь вдумаемся: против чего и за что Феодора?
Она - против крайней низости императорского двора, лицемерно прикрывающегося высотой христианской морали и религии. И она - за неприкрытый, тоже крайний, блуд.
Смею отметить, что она не за низменный, неэстетический, явный и крайний блуд, как у Шемяки в “Веселых братьях”. Она отдавалась, надо думать, не всякому пьяному матросу каждый вечер и не тому, кто больше заплатит, а тому, кто в каждый отдельно взятый вечер сумел ее поразить, выпадал из ряда вон. Как когда-то Имр в Александрии:
Имр
Видишь этот шрам?
Ты помнишь, как меня ты укусила
В Александрии теплой лунной ночью,
Когда ты танцевала перед нами
И я тебе мой бросил кошелек
С алмазами, не с золотом? Ты помнишь?
Не говорите мне, что кошелек с алмазами в тот вечер был наибольшей ставкой. Это еще была и красивейшая ставка: кошелек с алмазами! брошен! Это было из ряда вон. И сам Имр,- если судить по пьесе - гений-любовник-красавец-поэт,- был, без преувеличения, подарок судьбы. И, может, Феодора не врет в каком-то смысле, что любила только его одного:
Я до тебя не знала наслажденья,
Я отдавалась просто, как дитя...
Может, с Имра и начался артистизм, аристократизм, ницшеанство ее блуда? А если даже она теперь, пятнадцать лет спустя, перед Имром и лукавит, то - вспомним стихотворение “Судан” и подумаем заново - как отдается блудница-дитя? Что если предельно своенравно?.. Не просто тому, кто соперников победил ножом или кошельком. Хоть поставивший жизнь и все состояние на карту - тоже может произвести впечатление.
И еще. Имр говорит: “В Александрии твоей любовью многие хвалились”. Хвалились, заметьте. Может, не только потому, что она очень уж красива и очень уж много соискателей набиралось и потому, мол, трудно было ее добиться... Может, еще и потому, что просто трудно было ей угодить - выйти из ряда вон?.. Доводы все хоть и не безоговорочные, вероятностные, но смотрите, сколько их. Что если не зря?
Это - относительно строчки “Меня ласкали пьяные матросы”.
Я позволю себе высказать еще пару не обоснованных текстом пьесы предположений. Само попадание Феодоры в жены императору можно объяснить тоже результатом все того же резона: император - это из ряда вон. Как в той шутке: мужчина состоит из мужа и чина. А что осталась Феодора при дворе, хоть лицемерие ей противно, так она уже не так молода, чтоб подчинять себе любые обстоятельства. Да и такое обстоятельство, как император,- раз уж она с ним связалась,- попробуй подчини... Птичка попалась в золотую клетку. И кто знает, попади такая Феодора в дохристианский императорский двор, к какому-нибудь Нерону, она б его любила все время, вместе со двором - за то, что из пошлого ряда вон выходят. А в Константинополе - таятся. И - она их ненавидит.
Потому, может, и введена в трагедию роль евнуха (существа мерзкого по определению) - священника и доверенного лица императора: нельзя ж было самого императора сделать евнухом.
Ну а представители истинно христианской идеологии, не лицемеры, это, конечно, ее, “ницшеанки” VI века - личные враги. Если б Зоя и не назвала ее блудницей, Феодора обязана была с ней враждовать. Потому что у той неземной вид, как бы с иконы сошла:
...незрелая девчонка
С печальным ртом, огромными глазами...
Другое дело, что моральные устои Зои оказались не совсем твердые.
Ах, кроме наставлений и обеден,
Я ничего не слышала... -
откровенничает она с поразившим ее Имром. Но другим, особенно мачехе, она могла не открываться. И мачеха, как и рабы, могла не знать, что за иконоподобным ликом таится огонь-девица, христианским страстотерпцем физически быть не способная.
Ну, хорошо. Зоя оказалась обманной христианкой, как и евнух, и Юстиниан, и Феодора. А идею истинного христианства Гумилев испытал на пригодность дать идеал?
Испытал. В образе царя Трапезондского. И отверг ее, умертвив царя не в конце трагедии, умертвив между прочим, в рассказе евнуха, и вообще не дав царю главной роли.
Нет, автор добросовестно вжился в эту идеологию, превосходно мотивировал ее бытие в VI веке при императорском дворе...
Действительно, как могло получиться, что истинный христианин оказался возле Юстиниана, где христианством лишь прикрывали пошлую свою суть обжор, пьяниц и сладострастников?
Кстати, что суть - такова, сказано прямо и достаточно авторитетно - евнухом, доверенным императора и заведующим идеологическим (христианским) прикрытием сути. Смотрите:
Зачем же ты приехал в Византию,
Смешной дикарь? Таких, как здесь, духов
Из мускуса, из розового масла,
Из амбры и раздавленных левкоев,
Ты не найдешь от стран гиперборейских
До смертоносной Суматры и Явы.
На наших празднествах едят быков,
Оливками и медом начиненных,
И перепелок маленьких и нежных,
И вкусных, вкусных, как блаженство рая,
Мы запиваем их вином заветным,
Что от тысячелетий сохранило
Лишь крепость дивную да ароматность
И стало черным и густым, как деготь.
А женщины! Но здесь остановлюсь,
Затем что я принадлежу к священству.
Так как же в эту “грязь дворцов” (слова Феодоры - ей пошлятина не по нраву) попал царь Трапезондский? А из-за иконописного облика Зои.
Когда б не Зоя, разве бы я кинул
Мой маленький, мой несравненный город...
Впрочем, он и в своем-то городе, и где бы то ни было счастлив лишь постольку, поскольку на свете существует Зоя:
...вдалеке от милой
Мне кажется, что принял бы я казнь
За звук шагов ее, за шорох платья...
И если странно робок он с Зоей -
Когда же наступает миг свиданья,
То радуюсь я каждой проволочке -
так потому это, что он почти не верит своим глазам (и правильно, как оказалось, не верит), что Зоя - воплощение христианского идеала. Царь Трапезондский достаточно зрелый человек, чтоб понимать: истинного христианства в так называемом христианском мире - нет почти.
...я еще страны не видел,
Где б звонкой птицей, розовым кустом
Неведомое счастье промелькнуло.
Я ждал его за каждым перекрестком,
За каждой тучкой, выбежавшей в небо...
[Это даже на грани богохульства, потому что царство Божие по Евангелию возможно лишь после второго пришествия Христа на землю, а не сейчас.]
За каждой тучкой, выбежавшей в небо,
И видел лишь насмешливые скалы,
Да ясные, бесчувственные звезды.
Христианство, истинное, массовое, кончилось к VI веку. И это знали все. Вспомните слова Феодоры:
Ты...
[Зоя, со своей похожестью на икону.]
...здесь жила, как птица из породы,
Столетья вымершей, и про тебя
Рабы и те с тревогой говорили.
Кстати, почему “и те”? Потому что христианство возникло среди обездоленных, едва ли не среди рабов в первую очередь. И им призвано было религией воздавать больше, чем всем. Среди рабов можно было ожидать и наибольшей длительности сохранения истинного христианства. Но и рабы в сущности отказались к VI веку от него, истинного, не веря уже ни во что и совсем опустившись. С тревогой замечать иконоподобие Зои могли лишь те, кто еще недавно впал в безверие. Так если даже те, в ком можно было больше всего ожидать приверженности настоящей вере, считали Зою анахронизмом, то она (ее внешний вид) анахронизмом и была.
Но она-то была - лишь по видимости истой христианкой. А вот царь Трапезондский - по сути. Он - последний из могикан настоящей веры:
А знаю я - о как я это знаю!-
Что есть такие страны на земле,
Где человек не ходит, а танцует,
Не знает боли милая любовь.
Понимать буквально, так это, наверно, страны, в которых еще не кончился золотой век (так называли тех, кто еще не достиг цивилизации и расслоения на свободных и рабов, патрициев и плебеев). А понимать иносказательно, так “есть” - в сверхбудущем, после второго пришествия Христа.
Такой, не от мира сего человек, не нужен был при императорском дворе и потому, получив Трапезонд в наследство Зое, Юстиниан намеревался царя отравить.
Но и сам автор, избавившись от такого персонажа до конца трагедии, отказал ему, как носителю не того идеала, что по сердцу автору.
Да, автор сделал уход персонажа из жизни красивым (тот бросился со строительных лесов вокруг Софийского собора):
...встал на страшной высоте
Лицом на юг позолоченный солнцем,
Как некий дух, и начал говорить.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он говорил о том, что этот город
И зданья, и дворцы, и мостовые,
Как все слова, желанья и раздумья,
Которые владеют человеком,
Наследие живым от мертвецов,
Что два есть мира, меж собой неравных:
В одном, обширном, гении, герои,
Вселенную исполнившие славой,
А в малом - мы, их жалкие потомки,
Необходимости рабы и рока.
Потом сказал, что умереть не страшно,
Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь,
Раз умерли Мария и Христос,
И вдруг, произнеся Христово имя,
Ступил вперед, за край стены, где воздух
Пронизан был полуденным пыланьем...
И показалось... что он стоит
Над бездной, победив земную тяжесть.
Но эта красота, т. е. как бы торжество христианской идеи, возможна как таковая лишь при наличии еще большей силы и красоты - идеи реализма, исповедуемой евнухом, в чьи уста вложен рассказ о смерти царя Трапезонда, и идеи сверхчеловека, исповедуемой автором.
Драматург обязан сделать равносильными сталкивающиеся мировоззрения (иначе остроты коллизии не будет), и драматург не имеет права появляться сам. Как же ему обозначить, на чьей он стороне?
Компоновкой.
Мне могут возразить, что в трагедиях автор бывает на стороне героя, погибшего последним: тот умер - идеал его остается жить в сердцах зрителей. Феодора же - не главный герой и она - победила. Лишь слова ее - последние. Последней же на сцене остается Зоя. Она, правда, не убита - повержена.
Так зададимся вопросом: кем? Лжехристианином Юстинианом? Или в прошлом открытой, а ныне тайной “ницшеанкой” Феодорой? И за что повержена: за свое “ницшеанское” прелюбодеяние? Или за свою невольную двуличность?
Явно от Феодоры падает Зоя. Та ее добила. Значит,- по нашему шаблону,- какой идеал должен остаться в душах зрителей, читателей? Двуличие? - Некрасиво звучит... Что, если переназвать? - Противоречивость человеческая...
Зоя действительно хотела противоположного: и христианства, и “ницшеанства”:
Отец... я девочка и только!
Позволь мне доброй быть и быть счастливой!
И она со своей противоречивостью вполне соответствует противоречивому миру, красочно описанному ее отцом, чувствующим себя в таком мире, как рыба в воде:
Зоя
Отец, ужели брачная туника
Отравлена?
Юстиниан
Отравлена.
Зоя
Зачем?
Юстиниан
Зачем пылают молнии на небе,
Сжигая достоянье поселян,
Зачем бывают бури и самумы,
Бывают ядовитые цветы?
Дитя мое, законы государства,
Законы человеческой судьбы
Здесь, на земле, которую Господь
Ведет дорогой неисповедимой,
Подобны тем, какие управляют
И тварью, и травою, и песчинкой.
И еще:
Ты видишь, Зоя, так же непонятны
Мне замыслы твои, твои желанья,
Как для тебя мои, затем и создал
Господь голубоглазую покорность
И веру ясную, чтоб люди жили
В согласьи там, где быть его не может...
Есть добро и зло. И нужно реалистично к этому факту относиться. И Зоя сделала даже шаги, чтоб это принять. Она отвечает яркой и мудрой речи отца:
Отец, ты мудрый, знающий, ты Кесарь,
Помазанник Господень, для тебя
Пути добра и зла, страданья, счастья
Переплелись, ведут тебя ко славе,
Которую ты примешь в небесах...
[Ей не бежать хочется, как царю Трапезонда, да и Феодоре, от этого реализма, прагматизма, именуемых теми обоими лицемерием; нет, она хочет приладиться со своей противоречивостью к противоречивости мира.]
...Тогда как я, я - девочка и только!
Позволь мне доброй быть и быть счастливой!
И не устраивало ее тоже противоположное: нареченный жених, царь Трапезонда, - за то, что робок, что не пробирается к ней в постель тайно, до свадьбы, и Имр - за то, что не объявляет о своих отношениях с ней и не берет ее как жену с собою в военный поход.
И все это столь человечно в своей противоположности. Так что, если гуманистический идеал (пошлый, с точки зрения “ницшеанки”, и грешный, с точки зрения христианки) - что, если гуманистический идеал воспел Гумилев в “Отравленной тунике” в целом и в образе Зои в частности?
Думаю, что нет.
Заметьте, как падает Зоя на колени в конце пьесы: лицом в землю. Из нее как бы стержень вынули. Рухнул ее мир, ее противоречивый мир, ее противоречивый (лицемерный, двуличный - по мнению других) идеал. Лицом в землю упал уже человек без идеала. И после такой, духовной, гибели зрителю уносить в своем сердце нечего.
Мог ли этого хотеть акмеист Гумилев? - Нет, конечно.
Да и мы, зрители или читатели, получили заряд от пьесы вовсе не двуличности,- а получили мы заряд неудержимого порыва, который и целый стиль, акмеизм, срывает с плавной Синусоиды искусств - вон, вниз. И непорочный носитель этого порыва - главный герой трагедии - Имр. Он нигде и никогда не отступил от себя, и он действительно - главный, больше всех именно действует: соблазняет Зою, а когда-то потрясает своей любовью многоопытную Феодору, теперь - шантажирует ее прошлым и через нее вертит Юстинианом, бросает Зою, набрасывается на царя Трапезонда, убивает арестовавшего его воина, связывает евнуха, отправляется во главе войска мстить убийце отца. А если он и врет царю Трапезонда - так потому, что видит в нем соперника, которого нужно победить - как угодно. И если он отказывается от клятвы не прикасаться к женщине, пока не отомстит за отца,- так он не раб своего слова. Он свободен. И в свободе своей сделал, казалось бы, невозможное: и соблазнил дочь императора, и получил войска его для мести.
И, наконец, он последняя жертва в трагедии, о чем упомянуто за три строки до конца:
...Имр умрет.
Вот этот-то умрет, а идеал его призван остаться в сердцах зрителей и читателей.
А идеал этот - “ницшеанца” VI столетия. Смотрите:
Помню
Одну мою любовь я...
Зоя
Расскажи!
Имр
Плеяды в небе, как на женском платье
Алмазы, были полными огня,
Дозорами ее бродили братья,
И каждый мыслил умертвить меня.
А я прокрался к ней, подобно змею.
Она уже разделась, чтобы лечь,
И молвила: “Не буду я твоею,
Зачем не хочешь ты открытых встреч?”
Но все ж пошла за мною, мы влачили
Цветную ткань, чтоб замести следы.
Так мы пришли туда, где белых лилий
Вставали чаши посреди воды.
Там голову ее я взял руками,
Она руками стан мой обвила.
Как жарок рот ее. С ее грудями
Сравнятся только зеркала,
Глаза пугливы, как глаза газели,
Стоящей над детенышем своим,
И запах мускуса в моей постели,
Дурманящий, с тех пор неистребим.
Как тем стендалевско-возрожденческим женщинам нужно было для большего сладострастия, чтоб сосать мороженое было еще и смертным грехом, так этой паре для большего счастья нужно было не хотеть “открытых встреч”. Иначе говоря, брак - пошл.
И Имр великолепно разлюбил Зою, отдав теперь душу мщению за отца, как только Зоя ему отдалась. Ему плевать, что она горюет, провожая его в поход - он весь в проектах сражений и излагает их ей при прощанье. Ему плевать, что она боится оставаться со своими врагами без него, и только пообещал ей вооружить ее против мачехи сведениями, ту порочащими, но так и не вооружил, не рассказал, отвлеченный шествием данных ему под начало войск. Он даже не поцеловал Зою на прощанье - так спешил он распоряжаться погрузкой войск на галеры. Он и только он всегда в центре собственного внимания. А каким иным может быть сверхчеловек! И нежно влюбленной в него Зое он завещает память о себе как о кровожадном, раз он сейчас обуреваем жаждой мести, крови, усилившейся от появившейся возможности кровь пролить:
В твои ночные сны
Являться буду я окровавленным,
Но не своей, а вражескою кровью.
Я головы владык, мне ненавистных,
Обрубленные, за волосы взяв,
Показывать тебе с усмешкой буду,
И ты тогда поверишь, что недаром
К моей груди вчера припала ты.
Я подумал, что внимательный читатель может задать мне язвительный вопрос: “Так что: раз любимая женщина (любимый мужчина) для любящего (любящей) представляется существом из ряда вон выходящим, то поэт, писатель, взявшийся это живописать - “ницшеанец”?” Отвечу: “Не обязательно”.
Сравним Имра и Эрнани, героя классики революционного романтизма. Оба, например, уединяются ночью с любимой тайком от родителя (попечителя) девушки. Обоснование - похожее: Имр - бродяга, Эрнани извергнут из общества несправедливо: его, дворянина, попросту обобрал более сильный феодал, ставший королем. Поэтому хоть “нежелание открытых встреч” в обоих случаях это образ отвергания ненавистной действительности, но Имр выражает сугубо индивидуалистическую прихоть: запретный плод - слаще, а поведение Эрнани есть образ более или менее широкого оппозиционного политического, социального и т. п. движения. Соответственно чувства любви у Имра и Эрнани - разной мобильности. У Имра, за которым ничего, кроме него самого, не стоит,- изменчивы, и он Зою фактически перестает любить назавтра после прелюбодеяния. А у Эрнани, за которым - некий социум,- чувства инерционны: он любит раз и навсегда. Более того, любят раз и навсегда и аристократические враги Эрнани, потому что они, вместе с Эрнани, есть образное противопоставление прошлого, идеализируемого как не пошлое в пику пошлому настоящему, которое и было свергнуто революцией, разразившейся незадолго после выхода трагедии “Эрнани” на сцену. Гюго чувствовал подземные толчки революции - и соответствующую сделал пьесу. Гумилев не чувствовал никаких толчков, все шло, мол, от хорошего к лучшему, и это было скучно - и он сделал свою пьесу тоже соответствующей.
Так что взять темой любовь - еще не значит быть ницшеанцем.
*
Вот и Ахматова, по крайней мере, когда была чистокровной акмеисткой, воспевала не вечно, а миг длящийся апофеоз любви:
Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.
Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.
Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,-
Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.
Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,-
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.
1913 г.
Император Петр и Нева еще с пушкинского “Медного всадника” в русской литературе выступают против быта, против Евгения, против пошлого счастья его с Парашей, против семейного очага, теплоты. А раз против, то они с Ахматовой союзники, хоть Петр против быта во имя государственного начала, а героиня Ахматовой - во имя сверхчувства.
Сверхчеловеки оба:
Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера...
И в конце концов, кто знает,- раз Ахматова так проникновенна - может, ницшеанская философия права` и счастье - миг. И чтоб его не испохабить, надо его оборвать и не сюсюкать...
*
Я так победительно выглядеть стал, раскалывая один за другим твердые орешки акмеистских произведений, что неловко.
А ведь я пишу - рискую. Я ж не знаю, куда меня выведет анализ очередного произведения. Так с Ахматовой я - единства мысли ради - стараюсь не переходить 14-й год. А в томике Гумилева, что у меня под рукой, дат нет. И вот я нарвался на перевод эпоса “Гильгамеш” - и, если вникнуть, то получается, что здесь уже другой Гумилев. Слава Богу, что эта вещь напечатана с предисловием (самого Гумилева), и оно - датировано: 7 августа 1918 года. И там сказано, что поэт пользовался трудом французского автора, вышедшим в 1917 году. Значит, “Гильгамеш” переводился на достаточном временно`м удалении от зарождения акмеизма, который - все признают - долго не просуществовал.
Итак, как же открылся передо мной “Гильгамеш”?
Меня опять поразил конец. Он как бы оборван. Но сначала я перескажу, что было перед ним.
Царь Гильгамеш, на две трети бог, занимался безобразиями вроде ранее упоминавшегося Шемяки из “Веселых братьев”, только помасштабнее - как царь, гигант и почти бог:
Он прекрасный, сильный, он мудрый,
Божество он двумя третями, человек лишь одною,
Его тело светло, как звезда большая,
Но не знает он равных в искусстве мученья
Тех людей, что его доверены власти.
Гильгамеш, не оставит он матери сына,
Не оставит он жениху невесты,
Дочери герою, супруги мужу,
Днем и ночью он пирует с ними,
Он, кому доверен Урук блаженный,
Он, их пастырь, он, их хранитель,
Он, прекрасный, сильный, он, мудрый.
Крестьяне вокруг Шемяки тоже того восхваляли, а все-таки...
Мольба их достигла высокого неба,
Небесные боги, владыки Урука, сказали Аруру:
“Вот создала ты сына, и нет ему равных,
Но жесток Гильгамеш, днем и ночью пирует,
Жениху не оставит невесты и мужу супруги,
Он, кому доверен Урук блаженный,
Он, их пастырь, он, их хранитель”.
Богиня Аруру вняла жалобам и создала героя Эабани, силой своей способного поспорить с Гильгамешем. Последнему, мол, станет не до пиров. Однако Гильгамеш нашел подход к Эабани. Он подослал к нему блудницу, и та обольстила и убедила героя, что Гильгамеша ему не одолеть, а лучше - дружить. Не без капризничанья Эабани поддался.
И они вдвоем выступили против какого-то чудовища - Хумбабы. (Тут - должен признать - непонятно. С одной стороны, этот Хумбаба вредит людям, с другой - люди не хотят, чтоб Гильгамеш шел на него. Боятся, что ли, что Гильгамеш погибнет? Привыкли, что ли, к своему тирану и боятся, что с чужим будет еще хуже? Для моей версии о художественном смысле гумилевского перевода, признаюсь, выгоден акцент на изрядной таки бесполезности для народа подвига Гильгамеша.) Герои убивают Хумбабу к шестой части эпоса.
(Все, что происходит, происходит с ведома, с помощью одних богов против других богов. Их количество, имена, создают впечатление дурной бесконечности и затемняют повествование. Но, что делать - это ж древний-предревний эпос, и Гумилев его не пересказывает, а переводит, хоть и признавая в предисловии, что подсократил эпос. Итак, боги аккомпанируют, но не ведут мелодию сюжета.)
Одна из богинь, Иштар, врывается в сюжет после победы над Хумбабой: она хочет взять в любовники Гильгамеша. Тот противится, ибо знает, что та всех своих прежних любовников всячески изводила. Иштар обиделась на пренебрежение к себе и с помощью еще более сильного бога наслала на наших героев небесного быка. Эабани его победил. Слава досталась скорей Гильгамешу, чем Эабани, а Эабани заполучил проклятье какого-то бога и умер (к девятой части).
Гильгамеша это проняло, и он испугался, что тоже умрет когда-нибудь, хоть он на две трети бог. И он, сквозь разные перипетии, отправился на тот свет поговорить с тенью друга Эабани: может, тот, умерев, узнал смысл жизни или секрет бессмертия, и Гильгамеш, приобщившись к этому знанию, будет знать, что делать. По дороге он узнает от лодочника Ут-напиширима, за что боги сделали его, лодочника, бессмертным: за спасение, так сказать, генофонда жизни во время всемирного потопа, учиненного богами сгоряча (вот откуда произошла легенда о Ное, появившаяся в Библии тысячелетия спустя после эпоса о Гильгамеше). Подвиг Ут-напиширима описан частью одиннадцатой, наидлиннейшей.
В конце концов Гильгамеш добился желаемого: вышла к нему тень Эабани, и в разговоре с ней он кое-что понял. Кое-какое воздаянье, какая-то справедливость на том свете соблюдается, и смысл ее в том, что хуже - тени того, кто в обычной жизни жил лишь для себя и другие от него добра не видели и относятся - в памяти о том - плохо.
С другом своим говорит Гильгамеш, говорит с Эабани:
“Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,
Скажи мне закон земли, который ты знаешь!”
“Не скажу, друг мой, не скажу я!
Если бы закон земли сказал я,
Сел бы ты тогда и заплакал!”
“Что же? Пусть я сяду и заплачу!
Скажи мне закон земли, который ты знаешь”.
“Голова, которой ты касался и которой радовался сердцем,
Точно старый мешок полна она пыли!
Все тело мое пыли подобно!”
“Того, кто умер смертью железа, ты видел?” - “Видел!
Он лежит на постели, пьет прозрачную воду”. -
“А того, кто убит в бою, ты видел?” - “Видел!
Мать и отец его голову держат, жена над ним наклонилась”. -
“А того, чье тело брошено в поле, ты видел?” - “Видел!
Его тень не находит в земле покоя”. -
“А тело, о чьем духе никто не печется, ты видел?” - “Видел!
Остатки в горшках и объедки улицы ест он”.
На этом эпос, казалось бы, немотивированно обрывается.
Казалось бы... Потому что надо посмотреть самое начало. Там - продолжение.
Имеется в виду, что Гильгамеш понял, что жил неверно, что жить надо для других. Он вернулся и принялся делать добрые дела для народа. И за них, а не за пьянство и дебоши - народ Гильгамеша запомнил, что и овеществилось в таблицах с записями о Гильгамеше, которые, после вступления, получается, цитируются. (В таблицах, впрочем, больше всего фигурирует кипение в действии пустом. Но это уж путь наибольшего сопротивления - по Выготскому, вы помните эту фамилию?) К морали, высказанной в начале эпоса, ведет ход эпоса. Вот она, отделенная пробелом от остального:
О том, кто все видел до края вселенной,
Кто скрытое ведал, кто все постиг,
Испытывал судьбы земли и неба,
Глубины познанья всех мудрецов.
Неизвестное знал он, разгадывал тайны,
О днях до потопа принес он весть,
Ходил он далеко, и устал, и вернулся,
И выбил на камне свои труды.
Стеною обвел он Урук блаженный,
Чистого храма Эанны святой
Золотил основанья, меди прочнее,
И высокие стены, с которых жрецы не ходят,
Заключил в них надпись на камне, лежащую там издревле.
Посмею выразить очень немодную теперь мысль: в 1917-1918 годах на Гумилева произвело-таки впечатление такое выходящее из ряда вон обстоятельство, как революция, поставившая индивидуализм вне закона и пожелавшая на путях коллективизма избавиться от несчастья и дать счастье в этой жизни, а не в загробной, в которой, как еще Гильгамешу открылось - ничего такого уж хорошего нет.
Все остается людям, и в том состоит бессмертье. Таков, по-моему, художественный смысл гумилевского перевода “Гильгамеша”. И если он не исказил суть шумерского мифа, то, анекдот: вчерашний ницшеанец открыл, что идеал, подобный коммунистическому, зародился в человечестве за тысячи лет до христианства (которое,- можно ли оспаривать?- есть источник идеи христианского коммунизма).
Может, не зря Гумилев, этот вчерашний ницшеанец, не прогнал от себя заговорщиков против большевиков. Но, может, не зря и то, что он ничего не сделал в пользу заговора. Человек он был неизворачивающийся. И если на следствии говорил большевикам, что пересмотрел свое отношение к их власти, то, наверно, пересмотрел и - принял ее.
Не за аморальность, конечно, в которой принято теперь винить большевиков, а за коллективизм.
В этой связи замечу: мое предположение, что, доживи он до 1937 года, он бы славил Сталина за коммунофашизм (как акмеист и ницшеаннец), видимо, было преувеличением его неизменяемости.
И - одна заминка. Гумилев в моей ариадниной нити, ведущей по истории искусства, находится на отростке. Все отростки в этой схеме предполагают, что попавшие на нее художники не могут изменить свое мировоззрение, не могут согнуться, могут лишь сломаться: перестать творить или вообще уйти из жизни самовольно. Отростки, не замыкающиеся на плавно поворачивающую Синусоиду, символизируют индивидуальные свойства характера - твердость духа, консерватизм, если хотите, в условиях, крайне не подходящих для твердости и консерватизма.
Когда история страны, региона поворачивает к индивидуализму, прагматизму, материализму, они не могут отрешиться от коллективизма, ригоризма, идеализма. Когда история поворачивает к коллективизму (как это и было в России в начале ХХ века), они не могут отрешиться от индивидуализма.
Мне уже случалось натыкаться на все-таки изменчивость столь несгибаемых натур. Гумилев - как видим - еще один из них. Значит, ариаднину нить надо тоже изменить: дополнить пунктиром, возвращающим некоторых с отростков на Синусоиду:
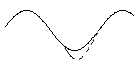
Что же, живи, то есть изменяйся и усложняйся, моя схема.
Впрочем, пунктир может обозначать не только “возвращение некоторых”, но и “неорганическое развитие”. Это - как натянутая улыбка.
Вот, как натянутая улыбка, и гумилевский “Гильгамеш”. Нудный. В сон клонит при чтении. Прямо заставляешь себя дочитать до конца. Не оттого ли, что не в свои сани сел Гумилев? Революция затянула его. Но она была не по нему.
Конец первой интернет-части книги “Сезам, откройся! Штрихи к панораме “серебряного века””
| Ко второй интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
К четвертой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться |