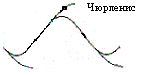
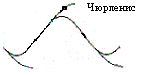
С. Воложин
Чюрленис. Художественный смысл произведений живописи и литературы
Седьмая интернет-часть книги
Разрешение Каунасского музея Чюрлёниса на публикацию в интернете репродукций произведений Чюрлёниса:
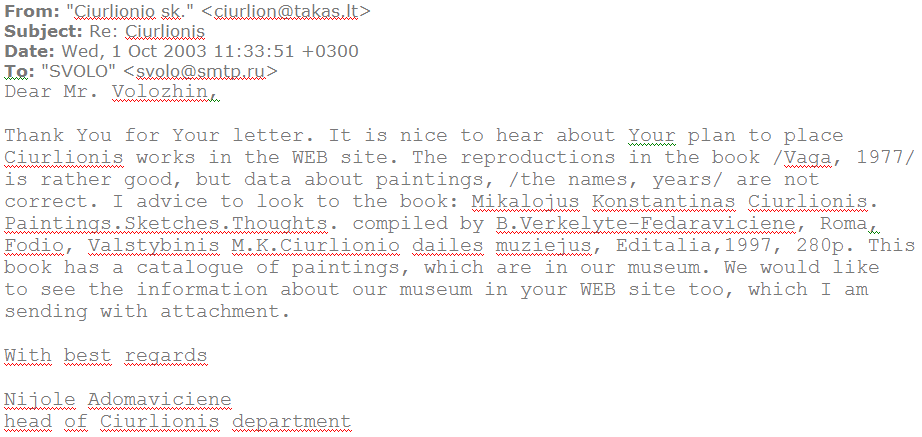
8
Вершина над пропастью
Все в жизни контрапункт,
то есть противоположность.
М. И. Глинка
8.1
К замечаниям Чюрлениса
о языке и технике живописи
Если бы Чюрленис был жив и прочел бы, как связывают его творчество, его вкусовые тяготения и отталкивания с художественными фактами, рассеянными едва ли не по всей истории изобразительного искусства, он бы, вероятно, удивился не меньше, чем тогда, на выставке Литовского художественного общества, при виде зрителя, потрясенного его картинами. Недаром для него такой неожиданностью было увидеть произведения, в чем-то похожие на его собственные.
Бенуа был исключительный эрудит и знаток искусства. Немыслимо, чтобы он не назвал создателя гравюр. Почему же Чюрленис не запомнил имени? Опешил? Почувствовал себя обескураженным?
Чего доброго, доживи Чюрленис до наших дней, ему больше импонировали бы такие искусствоведы, которые в законном восхищении его самобытностью и исключительностью делают нынче упор на его “художественное одиночество”.
Для ценителей и ценимого это естественно, когда они плохо знакомы с историей искусства. А в одном письме своем Чюрленис прямо писал, что пренебрегает изучением эстетики и истории...
Что ж, художнику, вообще говоря, простительно. Он как ребенок. Тому не нужно учить грамматику, чтобы в один прекрасный день ошеломить окружающих совершенно правильным употреблением “взрослых” слов. И как полуторагодовалый человек все-таки овладевает внутренним принципом целого языка (перед тем, как бегло заговорит на нем), так и великий художник - пусть исподволь, пусть неосознаваемо - а все же усваивает поворотные вехи прошлого и в своем вкусе и практике перекликается со всей историей искусства. Потому же, кстати, он и умеет почувствовать, куда движется история.
“Мои боги...” Как близко к сердцу он принимает то, что историки доброжелательно называют теперь возвращением к “первоистокам”, возрождением традиций более древних, но, быть может, и более фундаментальных, чем ренессансные.
И впрямь, то, что началось в Европе с гогеновского протеста против паневропеизма, с вангоговского восхищения стилем японских гравюр и то, что переросло спустя десятилетия в так называемый “декоративный реализм”, в монументальный символически-обобщенный реализм прогрессивного искусства ХХ века, в том числе и советского, - не имеют ли эти явления посредником между собой, в какой-то мере, Чюрлениса?
Кустодиевский “Большевик”, идущий через горы времени, через крыши домов и главы церквей... Эта первая, еще в 20-х годах, попытка по-новому ощутить широкое победное дыхание революционного века - была бы такой - как ее оценивают - неуверенной, если бы лучше было известно тогда творчество Чюрлениса?
“Каким плодотворным могло бы быть развитие... в живописи больших пространств, в монументальной фреске,- писал Ромен Роллан.- Это - новый духовный континент, Христофором Колумбом которого несомненно остается Чюрленис...” И еще Горький. Не приземленностью ли художественного восприятия революционной эпохи возмущался он, когда именем Чюрлениса звал к сочетанию реализма с романтикой?
Все так. Но было бы пустым делом опять сомневаться в исконной идеологичности искусства Чюрлениса в пользу монументальности и декора.
Отражая эпохальные события нашего времени, такие как соревнование двух миров, выход на историческую арену колониальных народов и тому подобные глобальные процессы, художники теперь не могут обойтись без монументальной обобщенности, вневременности, имперсональности, без возрастания роли, к примеру, силуэта и контура, без упрощения (даже лаконизма) изображения и сюжета - без этих черт, которые мы в изобилии наблюдаем у Чюрлениса. И ему самому эти древние, еще ассирийские и египетские, приемы тоже нужны были для задач мирообъемлющих, не меньше, - для столкновения мировоззрений в микрокосме человеческой души. В этом-то и состоит основа родства огромных нынешних муралей и панно с маленькими пастелями Чюрлениса.
Но уже сами скромные размеры чюрленисовских работ говорят о том, что их создатель уверенно чувствовал себя не в монументально-декоративном, а в совсем другом, для живописи более важном русле, в русле интеллектуализации изобразительного искусства.
И подчеркнутое обобщение видимых форм, и резкое выделение главного, и смелое опускание второстепенного, и даже усиленная декоративность - все это в ХХ столетии идет, в конечном счете, от стремления сказать языком живописи некое слово, от преобладания выражения над изображением. Так что идеологическая, а не прикладная тенденция по-прежнему магистральна в живописи. Особенно теперь, когда все искусства развиваются под гегемонией литературы, когда все они так или иначе усваивают себе (каждое по-своему) духовную, интеллектуальную силу словесного выражения.
Были времена, были в истории культуры другие эпохи: архитектурные, скульптурные, живописные. Наша эпоха - литературная. Ибо литература давно уже стала тем звеном в цепи искусств, которое становится ведущим, как только в обществе назревают великие революционные перевороты. Вспомнить хотя бы Вольтера и Гете, Достоевского и Толстого. Так как же не царствовать литературе в преддверии величайшей из революций, ведущей к уничтожению эксплуататорского строя на Земле.
Даже конец предыдущей культурной эпохи, завершаемой Вагнером, Рихардом Штраусом и Дебюсси, даже время господства над искусствами самого субъективного из них - музыки, как нельзя лучше соответствовавшей всемирному расцвету в XIX веке домонополистического капитализма с его культом свободной личности - даже и это время уже находилось как бы под упреждающим (литературным) влиянием будущего - времени наиболее неспокойного - под влиянием культуры империализма и социализма. В “музыкальных” приобретениях живописных произведений, в колорите, в гармонии цвета и света - это литературное предчувствие, во всяком случае, заметно. Если скульптура и архитектура, может быть, и мало получили от субъективистской промузыкальной тяги к выражению настроения и символизации тонких душевных движений, то живопись (особенно импрессионистов) приобрела невиданную ранее способность отражать зыбкость, переменчивость, противоречивость, взаимопревращаемость - прямо-таки саму диалектику жизни. А не решительный ли это шаг к умению живописать идеи (шаг, впрочем, но не более).
Конечно, все не просто. Музыка не рвалась передать литературе свое главенство. Наоборот. Смутность мятежной обстановки, неясность социально-эстетических позиций художников, неотчетливость лирических “вдохновений революции” тянула к “слиянию” с искусством, наименее поддающимся идейности. Тянуло к музыке. Художественные феномены вроде музыкальной поэзии Блока или живописи Чюрлениса как раз и подтверждают драму борьбы литературных и музыкальных тенденций.
Когда музыка влияла на живописца своей древней стихией тождества: узнаванием сходства в текучем процессе звучания, ритмичностью, повторами - тогда художник впадал скорее в наркотизацию своих зрителей, склонялся к “докультурной”, как уже ранее говорилось, к компенсаторной функции искусства. Но зато когда музыка пронизывала художника своей стихией контраста: диссонанса с консонансом (благозвучием), устоя с неустоем, нарастания с разрядом, насыщенности с прозрачностью, медленности с быстротой, стягивания с растяжением и т. д. и т. д. - когда музыка пленяла воображение творца высшим своим видом диалектико-контрастного оформления мировоззрений - формой сонатно-симфонического аллегро,- тогда уж ему было не до самообманов и грез, а он готов был тогда в своем беспощадном художественном “продумывании” жизненного опыта опрокинуть все, даже привычные представления о мире.
Внедряя “сонатные” противоречия едва ли не на каждом квадратном сантиметре своих последних картин, Чюрленис доходил до такой сомнительной парадоксальности, что если не истолковывать их как фантастический сон, то вообще не объяснишь себе их построение.
Вот последний из “Рексов”
(214) Чюрлениса. Обрывистые скалы и зеркально-гладкое море... содержат в себе какой-то огромный глобус, целую планету с материками и океанами. Та, в свою очередь, заключает в себе... некий жертвенник с чистым бездымным пламенем. Отражаясь во всепроникающем первом море, жертвенник вместе с отражением выглядит... как гроб. И планета тоже охвачена каким-то траурным кольцом, разрывающимся, впрочем, вверху. И вдруг оказывается, что этот темный вертикальный разрыв - фон для короля... прозрачного, светлого и призрачного, восседающего на светлом же троне, венчающем планету. Короля, фон и небо над скалами пронизывают полупрозрачные сферы, то резко, то незаметно переходящие друг в друга. Все выше, выше: к метеоритам, кометам, астероидам, к самому седьмому небу с толпами ангелов - вздымаются друг над другом хрустальные сферы. И вдруг, там, наверху, видишь увенчанную короной темную голову - как бы тень светлого короля! Оказывается, темный фон светлой фигуры все время был силуэтом темного короля и его трона. И эта зловещая тень гораздо больше светлого силуэта, и пронизывает все сферы, и упирается в темного же тона, но уже бездонный космос. Но и сама эта обширная тень так же прозрачна и призрачна, как и светлый мираж короля...Все это довольно мутно и темно для бодрствующего ума. Но поскольку такие опрозрачненные миры становятся для сознания чем-то всепроникающим, как сами противоречивые законы Природы (или, положим, Сверхприроды),- постольку это уже не “хоры стройные светил”, не музыкальный уклон, а воплощение отвлеченных идей. А это или надуманность и рассудочность (в худшем случае), или интеллектуализм (в лучшем), в общем же, это стремление найти зрительный эквивалент мысли, или, одним словом,- литературность.
Так перерождается влияние музыки в эпоху заката ее главенства над искусствами. И, может быть, именно историческая судьба ее в каком-то последнем итоге, подспудно, определила личную судьбу Чюрлениса: предпочесть музыке изобразительное искусство.
Но ведь не литературу же! Коль скоро Чюрленис был одарен во всех трех искусствах, почему он не задержался на литературе, которой занялся едва ли не раньше, чем рисованием? Еще в 1902 году, в Лейпциге, он написал притчу о посланце, и она была не менее символична, чем картины его любимого Беклина. И ее обыденный зачин, незаметно вводящий в бесконечную протяженность города, и простой странник, оказавшийся пророком, и обыкновенная зелень, ставшая столь недостижимой - все образы этого произведения как нельзя более подобны беклиновскому сочетанию правдоподобия с иррациональностью. Символика вполне получалась у Чюрлениса и литературными средствами.
Однако если символизм Беклина его для собственной практики не устраивал - за фотографическую, трудоемкую и громоздкую подробность, использованную для подсознательного самообмана (мол, раз изобразимо ирреальное, то достижим и идеал в нынешней жизни), - то символизм литературный должен был его не устраивать еще больше: за легкую, свободную, безграничную гибкость слова, которое само по себе есть мысль, “теория”. А теориям того смутного времени Чюрленис - уже известно - с пристрастием не верил: “Красивейшие идеи немного позвучат в воздухе... а свинская жизнь все тянется своим чередом
...”Так что вполне понятно, что при крайнем недоверии к словам, он в конце концов вообще вычеркнул литературную практику из своего творчества. И дело здесь не в том, что он литовским языком так и не овладел полностью (хотя и переехал из Польши в Литву по патриотическим мотивам). Дело в том, что, как и всегда, он больше выражал настроение общественных групп, чем собственные настроения.
Вот так и получилось, что главным поприщем Чюрлениса стало изобразительное искусство. Слишком, видимо, конкретны были его идейные искания, слишком определенны и пластичны образы, чтобы он вполне мог самовыражаться, оставаясь лишь музыкантом. А с другой стороны, совсем он заблудился в жизни и очень уж честным был человеком, чтобы увлекать неизвестно куда как можно больше людей наиболее широко доступным искусством - литературой.
* * *
И все-таки по велению времени он как живописец предельно приблизился к литературе. Его картины находятся уже как бы между живописью и графикой. А графика - это самое литературное изобразительное искусство, и не потому, что она склонна “рассказывать”, имеет фабулу и сюжет, преодолевает временну`ю ограниченность циклами и сериями, а потому, что вслед за словом, которое совсем не похоже на обозначаемый им предмет, графика принципиально не маскирует дистанции между предметом и его изображением.
Несколько легких штрихов пастелью - и перед нами жутко-спокойный мир “Тишины”. В раме, собственно, почти нетронутый картон. Изображено не столько море и небо, сколько впечатление потухания, истаивания... и моря, и неба - всего на свете. И вот эта минимальная предметность изображения и его максимальная условность и свобода при совершенно нескрытой технике исполнения делают художественный язык Чюрлениса почти графическим и ближайшим (в живописи) родственником языка литературного.
Чюрленис почти отказался от масляных красок. Ими можно достигать тончайших переходов из тона в тон; они долго сохнут и поэтому ими можно, неоднократно подправляя, добиваться точнейшего сходства с натурой; они лучше всех материалов приспособлены для передачи всей полноты жизни реальной плоти вещей, мельчайших нюансов формы - и всего этого не нужно было для художественных задач Чюрлениса. А нужна была ему техника, в которой живопись и графика сосуществовали б как бы на равных правах. И он нашел такую в пастельных карандашах и этим опять проявил уже знакомую - но всегда удивительную - чуткость к самым глубоким изменениям в истории искусства.
Издавна, еще от уравновешенных, “гармоничных” эпох,- еще с античности и средневековья,- повелось ценить в живописи гладкую, тонкую, блестящую до глянца поверхность красочного слоя. Но в сущности такая заглаженность противоречила беспокойному духу нового времени. И вот, век за веком, постепенно, по мере того, как миром овладевал капитализм, а духовной жизнью - культ индивидуалистической свободы личности, в красочный слой произведений живописи все больше и больше проникал так называемый художниками “темперамент”: наслоения делали все толще,- пастознее (от слова “паста”),- шершавее, мазок все менее сглаживали с соседним мазком, состав красок стали применять такой, чтобы при высыхании поверхность была полуматовой и даже матовой. И пастель (тоже от слова “паста”), с ее бархатистой фактурой, оказалась пределом такой многовековой тенденции.
Правда, матовую живопись, к которой стремятся многие современные художники, можно получить и при письме темперными красками. Что ж. Темперу (частенько с карандашом - для графичности)
использовал Чюрленис в своем творчестве.Если оценивать живопись по взаимной гармонии материала, задач и достижений, то непревзойденной вершины она достигла в масляных красках, а именно, когда их стали использовать наиболее всесторонне: когда тона получали и физическим смешиванием красок на палитре, и смешиванием оптическим - за счет просвечивания грунта и нижних слоев сквозь многочисленные тонкие прозрачные верхние наслоения. Обеспечивать последние - особенно длительный процесс, и при все белее динамизирующейся жизни он все менее удовлетворял художников. Технико-художественное восприятие живописца заменялось философско-художественным, и понемногу техническое знание, являвшееся в прежнее время опорой живописцу, стало представляться уже стеснением художественной свободы. Образовалась непрерывная тяга к убыстрению и упрощению живописной техники. Многослойные работы старых мастеров постепенно были вытеснены способом однослойным, оптическое смешивание - физическим, часто прямо на холсте.
Это, если обобщенно, тоже было пролитературной тенденцией (между прочим, вполне соотносимой с вековым демократическим устремлением Европы). И пастель, совершенно непрозрачная, и тона которой не нужно предварительно подготовлять на палитре, оказалась пределом развития и по этой линии.
Чюрленис, может, потому и успел на столь многое откликнуться и так много написать (около 300 работ за шесть лет), что освоил эту быстрейшую в живописи технику. Из-за нее, правда, он лишил себя возможности давать ту особую красоту цвета, необычайную насыщенность и звучность тона, какая достижима лишь в многослойной живописи прозрачными красками. Но ему для выражения идейного смятения и неуверенности и нужна-то была не “живопись, а “бледнопись”, не материальность, а воздушность. И непрозрачные краски как нельзя лучше для этого подходят, так как больше, оказывается, отражают и рассеивают свет, чем прозрачные.
В общем, можно сказать, что, по крайней мере, задачи и материал гармонировали у Чюрлениса весьма удачно. А в его словесном неодобрении высокой живописной техники иного современника (есть и такое) еще нужно разобраться, прежде чем вывести, мол, и в собственной практике он технику не ценил.
“Сегантини хорош,- писал Чюрленис,- однако слишком большой техник, чтоб мог быть гениальным”.
Кто же такой Сегантини? Итальянский дивизионист, поздние работы которого отмечены влиянием символизма. (Раз символист - ясно, почему Чюрленис примеривал к нему имя гения.) Ну, а что такое дивизионизм? - Это импрессионизм, доведенный до предельной методичности.
Импрессионисты изобрели второй вид оптического смешения красок (непрозрачных - в духе времени). Первый вид, как говорилось, это просвечивание тонких слоев прозрачных красок друг сквозь друга. А во втором виде оптического смешения - очень близко положенные мазки чистых цветов как бы смешиваются, давая в глазу зрителя сложный цвет, если рассматривать картину издали. Любой из живописцев позднейшего времени в большей или меньшей мере использует это изобретение. Чюрленис - не исключение.
Но если все применяют такой метод для трепетности, непосредственности выражения, то дивизионисты выдвинули на первый план рассудочность творчества, холодный интеллектуализм. Их научное (не подсказанное натурой) разложение сложных тонов на чистые цвета, их аккуратные мелкие мазки правильной формы, их эстетизация способа выполнения картины приводят к ощутимой сухости и бездушности. А это для гения было так же неприемлемо, как скрупулезная техника старых мастеров - для художников ХХ века, самого неспокойного столетия во всей человеческой истории.
* * *
Ну, хорошо,- скажут,- бледное письмо оправдано. А как же с рисунком, который Бенуа не защищал от упреков в дилетантстве и беспомощности? Даже в преамбулу вынесен этот факт, а до сих пор не обсуждался...
Правильно. И более того: письменные свидетельства самого Чюрлениса и о Чюрленисе дают повод поконкретнее подойти к подобным каверзным вопросам.
Что смешило Чюрлениса, когда был он принят в сообщество ведущих художников России - в петербургский “Союз”? Отчего он “не привык трактовать себя серьезно”?
“Отец может заказать лучшие портреты и даже целую дюжину у нашего Баранаускаса” (это был друскининкский фотограф). Так отшучивался Чюрленис. Но что, если?.. Что если у него самого не очень-то получалось похоже?..
Сестра его пишет о результате одного сеанса - о срисованной с нее и перечеркнутой девочке: “...вроде бы и похожа была на меня...” То же, не более, можно сказать о брате, сличая два наброска (в три четверти и в профиль) с его тогдашними фотографиями анфас...
Среди опубликованных зарисовок Чюрлениса есть ученические эскизы голов. Многие датированы предпоследним годом его учебы, и среди них найдется одна-другая, проработанная довольно тщательно. И что же? - Попадаются
(289, 292) перечерненные “провалившиеся” тени, “выпадающие из тоне” детали - что называется у художников “замученный рисунок”.
А ведь где как не в изображении человеческих голов, как не в портретной живописи наиболее бесспорно доказывает художник свое совершенство во владении рисунком. Так, может, не случайно избегал Чюрленис портретов и вообще более-менее крупных лиц в своих картинах? Только “Истина”, “Дружба” и “Пан” - исключение. А то все пейзажи да пейзажи писал он...
Пусть лица в “Пане” - достаточно сомнительные по мастерству - выполнены еще достаточно рано: ближе к началу учебы в Варшавском училище, в 1904 году. Но в знаменитой “Дружбе”
(3), написанной в 1906-1907 годах, лепка губ, например, выглядит просто жалкой даже по сравнению с едва проработанными щеками, лбом, носом и переносицей этой чюрленисовской Нефертити.А одно из названий “Истины” было “Автопортрет” (установлено неточно)... Так что: мыслимо ли найти хоть отдаленное внешнее сходство у человека со свечой с любой фотографией Чюрлениса?
Что же делать? Нельзя ж, в самом деле, взять и просто так отбросить все те цепи доказательств, которые приводят к выводу о превосходных степенях чюрленисовской живописи?
Может, нужно найти какой-нибудь совершенно особый край в стране искусства, в котором бы Чюрленис мог считаться своей, областной вершиной, лишь по аналогии посягающей на сравнение с вершинами главного хребта?
Может, Чюрленису сродни примитивное или наивное, как теперь называют, искусство?
Детское творчество к примитиву примыкает... И вот уважаемый Бенуа едва ли не туда же относит идейные, по крайней мере, истоки чюрленисовского искусства. Убедитесь (слова курсивом выделены мною):
(177) - милая в своей наивности детская сказка о каком-то тихом, но и безотрадном, Царствии Небесном. Между тем, именно эта изящная картина объясняет душевную трагедию Чурляниса. Очень привлекательно и безмятежно, сладко и дремотно в этой райской гавани, от самого берега которой начинается колоссальная лестница, ведущая куда-то... неизвестно куда. Тут на берегах выросла густая зеленая трава с яркими цветами, тут добрые ангелы собирают букеты, тут мягко плещут теплые волны. Ни ветерка, ни палящего солнца, ни грозовых туч. Хорошо здесь. Однако, если это рай, то избави Боже от такой “награды”, от этого “кладбища душ”, в котором нечего делать, нечем и не для кого жить. Между тем, детской вере Чурляниса (как и многим людям с детской душой) “рай” рисовался именно такой безмятежной “богадельней”, где можно будет “отдохнуть”. На лестницу же, которая от рая ведет неизвестно куда, им боязно не только ступить, но и взглянуть, тогда как именно подъем по ней в бесконечность и есть та “вечная жизнь”, о которой твердят пророчества и откровения....на основании... характерных картин можно бы все искусство Чурляниса назвать кошмаром безверия. Но вот в том-то и дело, что в полном безверии обвинять Чурляниса нельзя. Ведь мучило его не отсутствие веры, а несоответствие личной “детской” веры с той широтой познания, с той “мировой мудростью”, которая постоянно развертывалась перед его духовными очами”.
Это очень здорово: идейную детскость и беспомощность связать с беспомощностью рисовальщика.
А ведь детскому и наивному искусству свойственны и другие черты, столь присущие чюрленисовскому творчеству: понятийное ви`дение хотя бы. Не такое понятийное ви`дение, что отдает рассудочностью, а непосредственное и по-детски безотчетное.
Примером легче всего объяснить. Скажем, если ребенок, рисуя стул, видит его в таком положении, что заметны только две или три ножки,- он все-таки нарисует все четыре. Если рисует лицо в профиль - изобразит два глаза.
Вот это извлечение, так сказать, изобразительных понятий, отражение именно сущности, идеи вещей - характерно в высшей степени и для Чюрлениса.
Понятийное ви`дение сближает язык наивного искусства с графикой. И как самые талантливые дети-художники - типичные графики, так к графике тяготеет и Чюрленис.
Наконец, повышенная умственная активность маленьких детей, сопряженная не только с беспомощностью, но и с чем-то прямо противоположным, находит себе подобие у Чюрлениса. Дети все-таки узнаю`т мир, несмотря на всю свою беспомощность, соответственно - и Чюрленис. Бенуа заметил по поводу “Рая”: “Ведь ЛЕСТНИЦУ он видел и подымался по ней достаточно высоко...”
И вот, как ребенок, чтобы вернее утвердиться в бывальщине, выдумывает небывальщину, “лепые нелепицы”, “забавные бессмыслицы”,- так и Чюрленис.
Нелепицы были бы опасны ребенку, если бы они заслонили подлинные, реальные идеи и вещи. Но они не только не заслоняют их, они их выдвигают, оттеняют, подчеркивают. Они усиливают (а не ослабляют) в ребенке ощущение реальности. А Чюрленис подобным испытанием некоторых довольно конкретных мировоззренческих идей обнаруживал их... нереальность, но зато по сравнению, видно, с чем-то все же реальным. Недаром Бенуа даже заявил, что в средние века такой человек, как Чюрленис, сделался бы пророком, противостоящим властвующей церкви. И не потому ли он не мог обвинять художника в полном безверии.
Главное же в этих параллелях вот в чем. Детские “лепые нелепицы” двоятся. Для их восприятия необходимо созерцать и истинное положение вещей, и отклонение от этого положения. А из такого противоречивого восприятия возникает эффект... искусства. Выходит, детское, а значит,
и примыкающее к нему творчество, так же рождает сочувствие и противочувствие, как и чюрленисовские картины, как и всякое произведение высокого искусства. То есть область примитива в художественном мире достаточно прекрасна, чтобы покоритель ее высот выглядел настоящим героем.Не потому ли примитивисты стали так популярны во всем мире - как уверяют знатоки. И если правы все те же знатоки, что наивный характер творчества и высокое художественное качество не являются взаимоисключающими понятиями, если они правы, что успех наивной живописи объясняется ее художественными достоинствами, то было бы, наверно, совсем не оскорбительно для почитателей чюрленисовского гения отнести его к этому разряду художников. Тогда объяснилась бы, по крайней мере, его портретная неумелость.
Такой классик примитивизма - Пиросмани - возьмет, например, изобразит какой-нибудь кутеж, пир, так, глядя на его одинаковые неумело нарисованные лица, никому и в голову не придет подумать о портретном сходстве. Не прически же разные да усы (у одного - такие, у другого - иные) натолкнут на мысль об индивидуальности...
Да и не только слабость в рисовании лиц и общие соображения (как они давеча обернулись) могут спровоцировать нас и подвести к намерению причислить Чюрлениса к примитивистам. Вспомнить тот же “Рай”
(177): как подробно в нем прописаны цветочки и травинки, и как смазаны и силуэтны ангелы. Это же характерное для примитивистов сочетание обобщенности и мелкой буквальности.Взглянуть на чюрленисовскую “Сонату моря”
(197), особенно на первую часть: там же вырисованы сотни (не десятки, а сотни) блестящих шариков - то ли пузырьков, то ли янтарных камушков. И каждый - с бликом. В то же время деревья на берегу даны настолько общо - почти как условные знаки. Далее. Дюны написаны прямо-таки по-детски: горбами, а силуэт чайки с тенью от нее - вполне на уровне наблюдательности и умений взрослого.И “Рай”, и “Соната моря” не исключения.
В “Летней сонате”
(201) вырисован отдельно каждый листок богатырского чудо-дуба, ствол же - как гладкий столб; в “Жертвеннике” (211) море до горизонта покрыто, наверно, не менее чем двумя тысячами пунктирчиков - барашками волн, а земля подана общо - как географическая карта; в “Звездной сонате” (212, 213) - сотни звезд, каждая - с лучиками, а два крылатых существа - главные, вроде бы, по сюжету и композиции - помечены лишь силуэтно. И то же - во многих и многих картинах художника.Итак - примитивист?..
А может ли этот изящно звучащий термин объяснить у Чюрлениса его наиболее грубо написанные человеческие фигуры - такие, например, как во “Сне Иосифа”
(85) и в двух эскизах к витражу?
На одном из этих эскизов
(21) некое седовласое обнаженное существо в короне лепит ночью из глины (или благословляет) человечка. Тот еще без лица. На втором (22) - оживший, видимо, но все так же безликий человечек; вечером кончает он вырубать из скалы копию своего создателя (или благословителя).Маленький жалкий человечек... Не стыдился его Чюрленис, что не перечеркнул эскиз кистью и не выбросил за печку?
Дети и наивные художники из взрослых, не имеющих специального художественного образования, вроде Пиросмани, не осознают истинного уровня своей техники. Они рисуют так, как видят, вернее, как видели когда-то, когда были несколько менее развиты.
В памяти каждого (в скрытой памяти) навсегда остается все, что когда-то было увидено глазами, и рано или поздно оно может проявиться в творчестве. Вот взять опять ребенка. Поначалу он как бы ничего не видит, все ощущает так, будто это - он сам. Его не смущает, что глазные линзы все ему перевертывают вверх ногами. Потом внешнее для него начинает отделяться от него самого, предметы - от фона. И когда через несколько лет, однажды, вовсе не желая что-то срисовать и малюя каляки, ребенок вдруг нарисует круг (самую простую для руки фигуру), он обнаруживает, что это похоже на нечто, уже когда-то им виденное. Он делает открытие, что круг выражает наиболее общее свойство “вещественности”, то есть компактность объема, который отличается от неопределенного фона. Поэтому-то он на первых порах кругами рисует все.
Потом он открывает для своего творчества пространственное взаимоотношение между вещами и начинает рисовать два круга и больше, например, один в другом или несколько в одном. И это опять означает очень много: ухо и его отверстие, людей в доме, пищу на тарелке и тому подобное.
Так, по этапам, в чем-то всегда одинаковым для всех людей, сменяют друг друга типы художественной формы: от разрозненной схемы и простейшего орнамента до полной иллюзорности. И каждая следующая форма - открытие и восторг для новоявленного творца. И переживая так, у него, конечно же, рука не поднимется перечеркнуть свое творение.
А пока его личность не разовьется до достаточно высокого уровня, он и рисовать будет не индивидуализированные лица, не личностей, а людей вообще, и пространство будет изображать не перспективно сокращающимся, как это видно лично ему с лично его точки зрения, а тоже вообще. Вдуматься - так это даже смелая честность (если он уже видел реалистические картины). Действительно: прямоугольный чемодан, скажем, выглядит ведь все-таки прямоугольным... хоть перспективно искаженные глазом его стенки - как трапеции. Или вот: человек не кажется ведь уменьшающимся оттого, что он от вас отошел на четыре шага. Зачем же рисовать чемодан трапециями, а людей в комнате разновеликими?
Где-то таким, как бы недоосознающим, и является любой не манерничающий наивный художник, например, тот же Пиросмани - но не Чюрленис.
Чюрленис стеснялся того, в чем он несовершенен. Не зря он неуютно чувствовал себя в петербургском “Союзе”. Не зря он перечеркивал и выбрасывал портреты. А такие вещи, как “Сон Иосифа” и витражный диптих - просто в высшей степени незаконченные работы. Не его вина, что через десятки лет после его смерти их выставили в музее наравне с картинами и, сделав с них репродукции, поместили их в альбоме среди вполне законченных и полноценных произведений.
История развития, если это прогрессивное развитие, не идет вспять: ни у личности, ни у общества. И если в нем, в развитии, видны бывают элементы возвращения, то при внимательном рассматривании всегда оказывается, что это не попятное движение, а движение по спирали вверх: каждое возвращение оказывается выше своего раннего подобия.
Чюрленис имеет в виду высшие по своему времени критерии художнического мастерства, когда вынужден изображать что-то мало-мальски близкое к тому, в чем он действительно не достиг совершенства. Стоит мысленно пробежать взглядом его картины (картины именно, а не эскизы и наброски), чтобы вспомнить, с каким тактом он вводит в свои холсты и картоны человеческие фигуры, лица, руки, ноги.
“Рай”, “Мосты”, “Прелюд. Ангел”, “Похоронная симфония” (части первая, третья, четвертая, пятая) - здесь фигуры очень далеки и потому детали в них неразличимы.
Части шестая, седьмая “Похоронной симфонии”, “Истина”, “Дружба”, “Лица” - здесь темно или очень темно и потому мало что или почти ничего не видно.
Часть вторая, седьмая “Похоронной симфонии”, “Пан”, “Мысль” - изображения против света. Это самое трудное для проработки головы задание. Все здесь освещено необычно и неожиданно. Даже опытным портретистам такое освещение бывает не по плечу. Соответственно, даже “опытные” зрители могут быть шокированы неожиданными эффектами освещения головы сзади.
А есть еще человеко-горы, человеко-облака, дерево-руки, человеко-туманы и тому подобное - “Прелюд и фуга”, “Путь королевича”, “Рекс зеленый”, вторая и третья части “Сотворения мира” и т. д. и т. д. И есть еще неясные призраки: “Вечер”, “Черный ангел”, “Гимн”, “Демон” и другие картины. Есть изображения видений, снов, полуснов, состояний чуть ли не ослепления от страха и тому подобная ирреальность и сказочная небывальщина. Не перечесть, в общем.
Чюрленис, оказывается, совсем не избегал человеческих фигур и лиц в своих картинах. Наоборот даже. И притом нигде нельзя потребовать от него обычного для портретной живописи особо высокого качества рисунка. Как тут не согласиться с Бенуа, что в сущности часто даже не сумеешь ответить на вопрос - удачна или неудачна, хороша или дурна картина,- настолько “слабая” “дилетантская” техника Чюрлениса отвечает его намерениям. И очень многозначительны тогда кавычки, примененные Бенуа.
А с другой стороны, если по-иному взглянуть на чюрленисовские зарисовки людей, то обнаружится, что это в большинстве своем наброски “на характер”, “на форму”, “на выражение лица”, в которых вполне достигнута поставленная задача.
Нельзя проводить резкие черные линии в начале работы (это если выполняешь учебный рисунок). А если ищешь в наброске характер, то никакой осторожности не должно быть, никакого конструирования формы (с характерной паутиной вспомогательных линий) - а сразу: одним-двумя штрихами, утрируя...
И вот перед нами
(295) старая карга - надменная и чопорная, злая и въедливая, резкая и прямая, как сами черные-пречерные линии, рисующие ее нос и брови, щели глаз и рта, тесный строгий стоячий воротник и педантично убранные волосы.А рядом, бледно, нежно тушуя, набросано интеллигентное узкое лицо потупившегося мужчины с мягкими усами и бородкой клинышком...
А вот
(277) молоденькая девушка кокетливо поглядывает в сторону; другая (267),- с длинными прямыми распущенными волосами,- смотрит исподлобья тоже в сторону, но злобно и подозрительно, как ведьма.Вот
(268) какой-то услужающий с тонкими усиками весь расплылся в льстивой улыбке; еще дальше (294) - фанатически блестя глазами всматривается куда-то седобородый старец, похожий на Льва Толстого...Грубый орлиный профиль извозчика в ермолке
(293) ...Толстый лысый с маленькими свиными глазками и плотоядными губами лавочник (268)... Беззубый, страшно и весело кричащий юродивый (268)...
До глупости чванный какой-то армейский чин
(272) ...Умный, с острым взглядом купец в картузе (270)... В общем, хватит.
Если издатели самого полного альбома чюрленисовских репродукций, помещая все эти наброски, хотели доказать, что Чюрленис умел-таки рисовать людей на достаточном для профессионального художника уровне, то они это доказали (по крайней мере, тем, кто отличает наброски от незавершенных рисунков).
И если среди художников есть чистые пейзажисты, маринисты и тому подобные узкие профессионалы, и если им не требуется писать портреты, чтобы доказывать свое мастерство, то почему не простить и Чюрленису некоторую слабость руки, заметную и смущающую лишь тогда, когда в его картинах вдруг появляется крупная освещенная голова.
Можно даже непохожесть “Автопортрета” понять при желании. Ведь это “портрет души”. Мог ли Чюрленис свое мужество и твердость в постижении любой, даже страшной, истины передать своими подлинными - мягкими - чертами лица?
Нет. Чюрленис все-таки не примитивист. Не зря его так не называют, хотя это у него есть в какой-то мере. Он, как Гоген и Ван Гог, лишь способствовал выходу новейших примитивистов из забитости и безвестности. Ибо что самой характерное в примитивизме? - Предельная обнаженность страсти самовыражения. А что как не это стало общим знаменателем экспрессионистской (в широком смысле слова) тенденции в искусстве, тенденции, соответствовавшей времени величайшей из революций, которая еще на дальних подступах, еще в прошлом столетии вызвала бесчисленное множество произведений, насыщенных особой эмоциональной силой, особой интенсивностью художественного выражения.
Многое в этой широкой так называемой экспрессионистской тенденции стало шлаком истории, попыткой, как выразился Чюрленис, “поломать бывшие до сих пор рамы” в худшем смысле этих слов. И некоторые черточки примитива в новейшем искусстве не нравятся не только чисто субъективно или по старой привычке,- они и в исторической перспективе, и именем будущего оправдано неприятны зрителям. Но, по крайней мере, Чюрленис не унизился до примитива, а возвысился, его применяя.
Например, его перспектива. Вряд ли сумел бы художник так убедительно передать пространства, видимые с еще безвестных людям самолетных и космических точек зрения, если бы он придерживался правил, канонизированных Возрождением, которое “спустило” живопись с неба на землю.
Взглянуть хотя бы на его буквицы
(259): несколько штрихов - и на крошечной территории вокруг буквы создано впечатление широчайших просторов.Но он нисколько не стеснялся нарушить азы линейной перспективы, если ему зачем-то было нужно.
Что, например, помешало ему привести к точке схождения параллели ступеней в его “Рае”
(177)? Почему он до горизонта ступени довел, а перспективного их сокращения не дал? А ведь это же была бы величественнейшая картина: ступени широкой лестницы, простирающейся в ширину за горизонт. На такую Лестницу действительно дух бы захватывало, как писал Бенуа, не только взойти, но и взглянуть.Но в том-то и дело, что если б Чюрленис дал такую (по-ренессансному правильную) перспективу, то означало бы это, что так он сам, своими собственными глазами видит - и перед нами ходатайствует так видеть - сию потрясающую Лестницу. Возрождение, ставя во главу угла личность, уже полтысячелетия как ввело такую естественную теперь, личностно-индивидуалистическую, символику перспективы. Чюрленис же хотел отстраниться от робкой по отношению у Лестнице точки зрения (впоследствии все же ошибочно приписанной ему Бенуа).
Ни создатель картины, ни его творения,- образы детских душ, блуждающих по раю,- вовсе не боятся взглянуть вверх. Крылатые существа вполне беззаботно расположились на ступенях. Но от апатии и него их не тянет вверх.
Их, а не художника.
Это
их глазами подана зрителю лестница. Они считают ее такой же обыденной принадлежностью рая, как цветочки и бабочки. Лестница для них не страшна и не величественна (как думал Бенуа и как это в самом деле казалось бы при линейной перспективе), а удобна: можно сидеть, например, что один ангел и делает.Чюрленис, в сущности, отделяет себя от мировоззрения, которому сродни детский стиль изображения земли обетованной: с травкой, цветочками и лестницей к Богу.
Если примитивисты всех прежних времен и наши теперешние наивные художники относятся к предмету своего изображения с полной серьезностью, вполне самовыражаясь, то у Чюрлениса примитивный прием сигнализирует зачастую о его отстранении от изображаемого, от тех прекрасных идей, по соседству с которыми как ни в чем не бывало продолжается “свинская жизнь”.
И даже когда он вполне отдается детскости, например, в “Солнечной сонате”
(199), всерьез исследуя боязнь будущего потухания Солнца, его примитивное изображение земного шара несет на себе довольно ощутимые следы послеренессансного реализма. Земля выглядит как остров в океане, видимый с самолетной высоты.В общем, так или иначе, его примитивизм как бы на полный виток (или два) отстоит от примитивов древних и средневековых, ассиро-египетских и японо-европейских.
* * *
Хотя “боги” Чюрлениса парили выше, чем ассирийские, сам он зачастую острей ощущал свое отличие от соседей, ближайших по “витку”, чем от дальних, находящихся на нижних витках исторической спирали.
“Хотя и большие эти господа из “Союза” - а все же смотрят назад, или молятся Бердслею. Такой Сомов, крупнейшая рыба, это именно Бердслей, только расцвеченный, а Билибин и другие присматриваются к Врубелю, или к старым школам и оттуда черпают вдохновение. Как будто не имеют смелости или веры в себя. Школа Рериха - все равно что академия с отвратительными гипсами...” Резко, не правда ли, отозвался Чюрленис о своих товарищах по “Союзу”?
И все же чюрленисовское творчество было как раз в русле той борьбы, которую вел в России “Мир искусства” и его преемник “Союз” (а когда-то, во Франции,- первый, в некотором роде, бунтарь против академизма - уже упоминавшийся Делакруа). Это была борьба за право “чувства живописного” на общественное внимание. Поэтому и был в “Союзе” Чюрленис принят как свой.
Расцветающий капитализм в России, как и во Франции времен Делакруа, не только порождал безысходную нищету пролетариата, гнетущую нужду миллионов людей. Отчаянная борьба за существование, какой не было при феодально-крепостном строе, развивала в людях и некоторые достоинства: находчивость, сообразительность, настойчивость, ловкость. Как ни зависела жизнь российских крепостных Обломовок от причуд барина, от погоды, от неурожаев - она все же была, как тяжелый сон в сравнении с необходимостью приспосабливаться к вечно изменчивым экономическим условиям в обществе свободной конкуренции. То же было и в городах: с победой капиталистических отношений вся жизнь явно динамизировалась.
Искусство не могло не откликнуться на такую перемену. Гераклитово “все течет” постепенно все более проникало в живопись. Вообще же диалектическое мироощущение пробивало себе дорогу в искусстве еще со времен Возрождения, с тех времен, когда буржуазия только начала играть в обществе более или менее решающую роль.
Но могли ли быть в принципе глубоко плодотворными для живописи такие “диалектические” желания, как, например, у Делакруа: изобразить блеск мелькнувшей сабли, а не саму саблю? Не начало ли здесь того хаоса, который через три четверти века застал Чюрленис? И не катится ли сам Чюрленис туда же, ставя превыше всего смелость и оригинальность и открещиваясь от учебных рисунков с гипсовых копий античных скульптур и от других (уж не иначе - и от других) академических традиций?
Ведь известно, что периоды расцвета искусства отнюдь не обязательно соответствуют общему развитию общества. Так древнегреческое искусство до сих пор продолжает доставлять нам художественное наслаждение и, в известном отношении,- как писал Маркс,- продолжает служить нормой и недосягаемым образцо, хотя на других поприщах Европа до новой эры была намного примитивнее Европы второго тысячелетия новой эры.
А превзойдут ли наши потомки художников Древней Греции, создадут ли свой, уже в другом отношении, недосягаемый образец? - Отрицать такую возможность означало бы вообще отрицать дальнейший прогресс для искусства.
Античный мир возвышен и велик во всем том, в чем стремятся найти законченный образ, форму и заранее установленное ограничение. Ну а новому времени характерно стремиться к другому абсолюту - к движению становления. Противопоставив эти два мироощущения друг другу, Маркс как бы предсказал, в каком направлении ждать от изобразительного искусства нового колоссального взлета. Когда он случится - дело будущего, но в его преддверии - далеком или близком - в конце XIX и в начале ХХ века живопись подготовилась к Новому Возрождению.
Уже нам знакомо спиралеобразное возвращение к так называемой простой форме, взошедшей к нам по ступеням неолита, восточных деспотий и средневековья: это обобщенность, лаконизм, многозначительность, символизм, имперсональность, надвременность...
Но сейчас речь идет о других чертах, пришедших к началу ХХ века по ступеням другой спирали: через охотничьи пещерные рисунки палеолита, через послеантичный эллинизм, через послеренессансное барокко и послеклассицистское искусство XIX века, особенно через импрессионизм. Речь идет теперь о таком изменении художественного языка, которое сделало его пригодным для отражения противоречивого движения мира (диалектики).
Азами прежнего живописного языка с такой точки зрения была заглаженность, резкое отделение формы от формы, тщательная выработка деталей, предельная точность в передаче объема, пространства, черт лица - иначе говоря, зеркально правдоподобное изображение как бы остановленного мира. Это родилось, возродилось и нужно было во имя победы чувственного культа вещи: культа человека - в первую очередь и культа земного мира - вообще. Все это было нужно вопреки средневековой христианской тирании духа над телом, всеобщего над частным, идеального над реальным. И в результате: доходящая до галлюцинации оптическая правдивость каждого квадратного сантиметра полотна, например, “Моны Лизы”. Художник стремился скрыть технику своей работы, чтобы фактура мазков и красок ощущалась зрителем как фактура самих изображаемых предметов и только: блеск шелка, нежность тела - чтоб было как живое.
Годится ли это все для нашего потрясенного ХХ столетия?
Как бы ни раздражали нас взвихренные мазки Ван Гога - эти зафиксированные на полотне жесты художника, предчувствующего надвигающуюся катастрофу; как бы ни резал глаз его варварский цветовой шум - это своеобразное отражение огромного напряжения воли, удерживающейся на грани отчаяния, а еще лучше - это зеркало типичной психологии мелкого буржуа и интеллигента, “взбесившегося” от ужасов “свинской жизни”; как бы ни смущала нас деформация натуры - это воплощенное стремление художника передать движущимся даже то, что по видимости неподвижно - как бы ни озадачивали все эти азы нового художественного языка, а все же червь сомнения точит непривыкший вкус и брезжит мысль в сознании зрителя, что после Ван Гога живописцы уже не имеют морального права “зализывать” картины. Слишком неспокойно в окружающем мире и в чутких душах людей, призванных быть художниками.
Инстинктивно чувствуя такую глубокую тенденцию, Чюрленис вполне мог с оптимизмом относиться к своей непопулярности.
“Мои картины успеха не имели и ничего удивительного: Вильнюс в пеленках - об искусстве нисколечко не задумывается... В будущем году соберем вторую выставку, и я должен победить”,- писал он. Этому задору нужно бы размахнуться на большее пространство и время - и было бы совсем в точку.
А в сравнении себя со своими современниками-новаторами у Чюрлениса тоже были козыри, наверно, хоть смутно, но сознаваемые. О них речь шла выше: он не прятался от противоречий века в иллюзии и грезы; он обладал жестоким талантом испытывать людей по самым глубоким вопросам их отношения к миру; он удержался от соблазнительной, но поверхностной моды утешать себя и публику “культурой вещи”; он вышел из художественно-формального тупика, в который зашла живопись, приверженная немецкому символизму, и освоил открытия импрессионистов и постимпрессионистов; он удержался на магистральном пути идеологического искусства - интеллектуализации, и не впал при этом в сухую рассудочность и иллюстративность - много миновал он пропастей, пагубных для искусства, и только потому уже он мог думать, что зашел достаточно далеко, и мог удивляться (тогда - у Бенуа), что существовал еще художник, превосходивший его по странности и смелости.
Другие интернет-части книги
1
2
3
4
5
6
8
На главную страницу сайта
Откликнуться
(art-otkrytie@yandex.ru)
Отклики в интернете