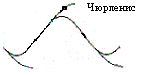
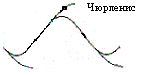
С. Воложин
Чюрленис. Художественный смысл произведений живописи и литературы
Четвертая интернет-часть книги
Разрешение Каунасского музея Чюрлёниса на публикацию в интернете репродукций произведений Чюрлёниса:
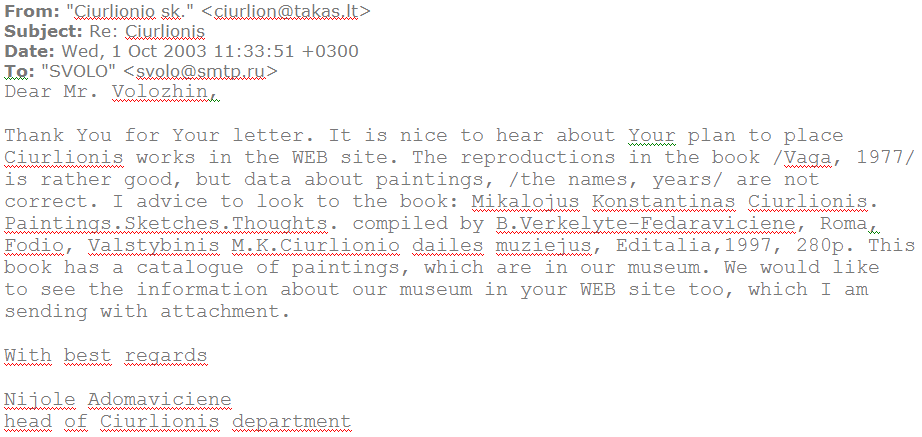
4
Судьба абстрактных идеалов
“
Мой путь” (158-160), “Ангел” (57),“Путь королевича” (165-167), “Гимн” (16)
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.
...хлещет черная вода из крана,
хлещет рыжая, настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана,
я дождусь - пойдет настоящая.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.
А. Вознесенский
Нежное утро - утро жизни... Мягкий туман, первые солнечные блики... Еще не все ясно расцветающей душе, но солнце взойдет выше (это же утро!), туман растает - радостная, полнокровная вера во все лучшее струится с первой картины триптиха “Мой путь”. Еще детская фантазия видит сказочный замок в соседней островерхой избе... Но ребенок вырастет - и насколько приземистой и прозаичной станет старая изба, настолько окрепнет, возмужает воображение становящегося художника и подарит очарованным людям перлы высокой поэзии, радостный гимн идеалам, впитавшимся в его душу с детства.
Но что это? Время наибольших ожиданий стало временем бесплодных поисков ответов на вечные вопросы человечества. На второй (более крупной) картине триптиха изображены какие-то абстрактные стилизованные полуцветы-полувопросы. Почему такая бледность, немощность? Почему почти все растения - пустоцветы? Почему так безнадежно падает нервно рвущаяся ввысь линия, огибающая поникшие головки? И почему, тем не менее, каждая травинка упорно тянется вверх, повторяя своими изгибами путь предыдущей, и нет тому конца?
Сколь обилен посев... и сколь же мизерны плоды мизерного расцвета!
Чьим образом это все могло бы быть?
Не впервые даровитые и горячие молодые люди в борьбе за правду, за высшую справедливость впадают в дикую вражду с “пошлым” общественным порядком. Но абстрактные идеалы, бросая их в абстрактный же героизм, в неестественный и напряженный восторг, будучи построены на воздухе, столь же закономерно вынуждают их сознавать себя нулями. Потому что общество не подчиняется благим намерениям отдельных своих представителей, как бы хороши эти намерения ни были. Потому что общество имеет свои законы развития и плодотворно отрицается в нем только то и тогда, что и когда уже перезрело.
Вот настроение этакого осознавания себя нулем и навевает, может навеять, на зрителя средняя часть триптиха “Мой путь”.
Но как найти ее, идею отрицания, вырастающую из действительности?
Бродит темная фигура, понурив голову и сложив крылья.
На картине “Ангел” тишина. И призрачность, нереальность, как в мире нетвердых мыслей... Черному ангелу, идее отрицания, нечего сказать, не на что опереться в действительности, неоткуда взять сил и соков, чтобы налиться звучным цветом под рукой художника.
Но и белые ангелы склонены. Они даже поклоняются черному, они еще более призрачны и бестелесны: чтобы дать идеалу прочное основание, нужно отказаться от абстрактных идеалов, отказаться совсем.
А жизнь идет. А до конкретного идеала, подсказанного действительностью, все никак не доработаться.


И вот ты чужой этой действительности со своими облачными мечтами и со своим пониманием их облачности. Совсем как по Белинскому: “Мы несчастные анахореты... мы люди без отечества,- нет хуже, чем без отечества, мы люди, которых отечество - призрак, и диво ли, что сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность призрак?” И вот - триптих “Путь королевича”... А в нем - напутствует бестелесный отец облачного сына к мнимой победе и призрачно-великим деяниям...
Но долго не пробудешь в таком настроении. Хочется верить, хочется хоть в вымыслах позабыть о тяжелых впечатлениях, получаемых от окружающего.
И мерещатся грезы.
Темный народ лесной страны под светом искусства, культуры проснется. Не может, мол, не проснуться. - И оживают черные антропоморфные сосны, целый лес под огромным солнцем, восходящим на афише первой выставки литовских художников
(145)...Крестьянская, вся в хуторах, страна, пожалуй, лучше справится с социальным вопросом, чем городской, потонувший во тьме порока Запад. Потому что, если где еще светит солнце сильной и прочной нравственности, так, мол, это у замкнувшегося в себе хуторского крестьянина, как в “Сказке королей”
(175)...А настоятельная нравственная потребность, потребность в убежденности в блестящем будущем своей страны, всего человечества мучает, как жажда, и не может не упиться утопиями. Хоть ненадолго...
Увы, ненадолго.
Жаждущая земля поглощает струи долгожданного дождя. Вода и солнце - вот что нужно, чтобы земля расцвела. И все это есть в картине “Гимн”. Сквозь сплошную лавину низвергающейся воды, сквозь тяжелые, чреватые влагой тучи, хоть это и невероятно, но, как сквозь шум - торжественный аккорд,- Пробивается сноп солнечного света. А земля... Земля, еще кипящая дождевыми пузырями и брызгами, еще не успевшая впитать этот рушащийся на нее водяной вал, в немыслимом нетерпении уже взбухает невиданной величины цветами. Все возможно в свободном полете фантазии: желаемое свершается непосредственно от желания.
И все же утопии достаточно осознать себя утопией - и она бледнеет. Тусклы краски цветов и даже солнечного света, не говоря уже о тучах и тяжелых испарениях земли...
А хочется быть оптимистом. Ведь жизнь без надежды - вроде и не жизнь. Как же спастись? - Бегством вперед. Пусть не сбываются идеалы сегодня - возвысить их еще больше.
С последней картины триптиха “Мой путь” в неизмеримой высоте сияет горная вершина. Это к ней по дну темного ущелья вьется дорога. К ней. Пусть непреодолимо отвесны ее скаты и пусть неприступно холодны и мертвы ее льды, но само существование в мире этой вершины указывает бесконечную дорогу к моральному совершенству человечества. Это ли не оптимизм?!
Но от себя не убежишь даже вперед. Не веет радостью и от последней картины триптиха. Высочайшие идеалы, будучи в абсолютном смысле невыполнимыми, ничего не говорят о реальном, сегодняшнем, выполнимом моральном идеале.
5
Смотри в корень
Кто поймет, измерит оком,
Чт
у за этой синей далью?А. Блок
5.1
Новая (рубежа XIX и ХХ) и новейшая (в ХХ веке)
научные революции и Чюрленис
“Зима” (97-104), “Мысль” (15)
Почему - если рассуждать в чюрленисовском духе - никак не удается даже талантливым людям, искренне стремящимся ко всеобщему благу, найти в действительности пути, силы и средства для достижения своей цели? Может быть, это не зря? Может, это закон? Может, мир - это продолжение первозданного хаоса и
потому разум никак не пробьется сквозь могущество слепой случайности? А может, он слеп? Принципиально слеп и не умеет даже видеть и воспринимать ничего, кроме ощущений, которые ведь все-таки - не мир. Может, разум каждого способен лишь заблуждаться в своих суждениях о том, что находится за пределами наших ощущений? И тогда у каждого - свой мир, и не будет никогда блага - для всех... И надо сдаться, а вернее - успокоиться...Говорят, что в цикле “Зима” Чюрленис изобразил замерзшие окна.





Как поэтический нюанс, включаются волшебные узоры в уютный интерьер благополучных, смирившихся со стужей для других... Но вот вопрос: почему так много этих окон? Это одно окно с разными узорами в разное время, или разные окна в одно и то же время, или все-таки одно окно, как его видит воображение разных людей? Наверное, нельзя ответить определенно, но ясно, что художник зачем-то настаивает, показывая множество, в общем-то, однообразных изображений.
Не является ли это тем, что многократно повторяется с людьми: не является ли здесь окно символом “окна в мир”? Не изображено ли здесь само ви`дение мира? Если да, то становится ясно, почему в этом цикле рамами окон оказались сами рамы картин. Изображено прозрачное стекло, не замечаемое и как бы не существующее в безмятежной обстановке. Но когда наступает зима жизни - тайное становится явным. Стекло - существует. И, в конце концов, кто знает, ровное вообще оно или кривое, полностью прозрачное или нет... А что за стеклом?.. - Догадки. Да и много ли можно увидеть в окно!.. Так не отсюда ли и бледность красок в картинах, не отсюда ли та смутная неудовлетворенность, что неуловимо веет от всего цикла?
И вообще, какое удовольствие может быть у зрителя от абсурдных изображений при настолько отвлеченном смысле их?
Но представьте себе ученого, естествоиспытателя, представителя точной и почти завершенной, как ему кажется, науки, но науки, которая на его глазах вдруг переживает революционный переворот. Лоренц, например (современник Чюрлениса, кстати), в такой ситуации заявил, мол, лучше бы он умер раньше, чем начался переворот в физике...
Взгляни подобный горемыка на иную картину из цикла “Зима”
(99)- не увидел ли б он там расколовшимся... сам земной шар, а звезды - тихо падающими с неба... этакими снежинками, одевающими Землю в белый саван? И если там кометы в невероятном совпадении выстроились хвостами параллельно друг другу, то не показалось бы ему, что это поминальные свечи в канделябре над трещиной мира? - Может, “пострадавшие” при научном перевороте переживают революцию в области абстрактного знания с такой страстью, что даже живописная абракадабра, колористически организованная в единство, что-то связное о развале говорит их растревоженным душам...Там, в сфере абстрактного, присмотревшись, действительно есть о чем волноваться и, может быть, не только ученым, потому что то, что началось в науке о природе на рубеже XIX и ХХ веков (и длится по сей день), сопровождается - ни много, ни мало - пересмотром самих философских оснований естествознания и приводит к таким парадоксальным картинам мира, что с непривычки голова может пойти кругом.
Сейчас, скажем, всерьез задаются вопросом, почему пространство - трехмерно, а время - одномерно... Когда эту загадку пробуют решать (пока - только математически), то ее объясняют, например... двухмерностью микромира. Этакой “пенообразной” двухмерной его структурой, которая с нашей, так называемой, макроскопической точки зрения выглядит четырехмерным пространством-временем...
Вот так. Попробуйте представить четырехмерность или двухмерность...
А некоторые ученые увлекают дальше: мол, наше четырехмерное пространство-время при сверхмакроскопическом описании (то есть в рамках мегамира) выглядело бы, как пространство еще большего числа измерений... Можно ли вообразить такое, и если да, то не похоже ли это будет на абсурдные узоры в “Зиме”?
Еще пример для вживания зрителя наших дней в “диковинное”, и опять - из науки.
Начиная с Эйнштейна ученые связывают хроногеометрические свойства пространства со всемирным притяжением, с самим существованием космических масс во Вселенной. Но если пространство и время не являются вечной сценой, на которой приходящие артисты - частицы и поля - разыгрывают свою пьесу, если свойства пространства-времени зависят от движущейся материи, а та - произошла когда-то из первоатома, то сама постановка вопроса о природе времени до первоатома становится неочевидной... возможно, само понятие "до" теряет смысл и коренным образом изменяется...
Тут даже самая передовая философия нашего времени испытывает влияние заморозков на той картине мира, которую дает ее собственное “окно в мир”.
А окна ее соперников, других философий?.. Намного ли менее привлекательными оказываются они? Да и в какой мере они чужие, те окна? Чем не повод для Сомнения в духе Чюрлениса?.. И захоти современный художник выразить такое - не получилось бы у него нечто подобное “Зиме”?
В прошлом, по крайней мере, когда художники кисти и пера сомневались во всесилии разума - они рисовали до удивительности похожие картины:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты,
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То странный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед;
Ни жизнь, ни смерть - сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный темный и немой.
По ассоциации - еще один пример из современной науки, колеблющий сами принципы получения знания.
На базе все той же самой эйнштейновской теории - основы космологии (столь связанной с мировоззрением) - из некоторого соотношения массы, длины и времени теоретически выведено существование особой сферы, на которой пространство... “кончается”. Притяжение на ней слишком велико, из нее не может вырваться свет, быстрее которого нет ничего на свете. Эта особая сфера становится недоступной для наблюдения, невозможно никакую информацию получить о ее внутреннем строении. В то же время даже недра звезд, вроде бы, должны, в принципе, открываться перед человеческим познанием, так как из них должны вылетать нейтрино, для которых прозрачна почти любая толща вещества. (Нейтринная астрономия уже началась.) Но и нейтрино не могут улететь с той - особой - сферы и “рассказать” о ее содержимом. И если ученые найдут ей аналогию в природе, то окажется, что есть нечто, принципиально ненаблюдаемое, причем и в мысленном эксперименте ненаблюдаемое.
А ведь эфир, лоренцевский эфир, то есть то, в чем все, якобы, помещено, как раз и был в начале ХХ века выдворен из науки, потому что теория эфира, по Лоренцу, не допускала принципа наблюдаемости...
Сейчас же существуют достаточно убедительные данные, будто в созвездии Лебедя есть звезда, вместе с другой, невидимой звездой, вращающаяся вокруг их общего центра тяжести, и масса невидимки, похоже, такова, что должна помещаться под той, особой сферой...
Да и не нужно заглядывать глубоко в космос, чтоб находить в природе неочевидные, но вероятные “диковины”. Для каждого электрона, протона - для каждой элементарной частицы атома можно вычислить эту заповедную сферу, находящуюся “внутри” частицы...
В общем, можно много высокоученых покушений на “здравый смысл” напомнить нынешнему зрителю, чтоб он помягче отнесся к зауми чюрленисовских узоров на стекле. Художник в долгу не останется и невзначай подскажет пример самоиронии на заумь.
В одном из окон “Зимы”
(103) видится что-то вроде искусственной пещеры, с кирпичного потолка которой свисают мерцающие во тьме сталактиты, и падают камни, содержащие, каждый, по звезде. А с пола им навстречу громоздятся стопки... книг. Оказывается, те кирпичи со звездами - книги, искусственная пещера - вгрызание в гранит науки. Вот только звезды в книгах, сложенных в стопки, потухли...Но ирония не отменяет серьезность. Чюрленис
имел случай проникнуться настроениями научного переворота. Он живо интересовался явлениями тоже “непространственными”, тоже “бестелесными” и так же, как в давешних примерах, объективно, мол, ненаблюдаемыми - его занимала психология. А в этой области знания как раз тогда происходила тоже своеобразная революция: психология, столетиями зревшая в недрах естествознания и философии, рождалась как самостоятельная и притом довольно точная наука. И среди повивальных бабок при этих родах был один из создателей экспериментальной психологии, немецкий ученый Вундт. А Чюрленис участвовал в философских и психологических дискуссиях, организовываемых известным в Варшаве философом Мархбургом, учеником и последователем Вундта.Вундт выдвинул целую вереницу гипотез (неважно, что все они оказались ложными - важно, что при их разработке Вундт применял эксперимент). Так вот, по одной из его гипотез апперцепция, то есть осознанное восприятие (такое восприятие, которое, по-нынешнему, зависит от предшествующего опыта), итак, апперцепция отличается от бессознательных восприятий тем, что она является, якобы, сосредоточенной в лобных долях мозга особой психической силой, изнутри приводящей в логическую связь ассоциации, волю, внимание - всю активность человека.
Вот так вкратце изложенное предположение Вундта отразилось в одной картине Чюрлениса настолько выразительно, что хочется сказать, будто оно ну прямо видимо, видно глазом, осязаемо рукой. Эта картина - “Мысль”. А “вундтовские” элементы в ней - это изумительно крутые лобные доли черепа, тяжелого, как пушечное ядро, настолько заряженного психической силой, что сквозь его толстые кости пробивается сияние. Главное же - излучение, идущее из глаз. Не в глаза, а из глаз - как апперцепция, прожектор внимания.
Впрочем, следы конкретной вундтовской гипотезы - еще не суть картины. Существеннее - дух вездесущего сомнения, что проник и в “Мысль” и сродни тому кризису, в котором мировая психология находится вот уже целое столетие - с начала ее рождения. (Эти “роды” затянулись до сего дня: и нынче, как утверждают сами психологи, между исследователями нет еще согласия по поводу принципов и основных понятий их науки.) Посмотреть на “Мысль” - и видно: как много в ней живописных аналогий тогдашнему и сегодняшнему кризису.
О, как основательно уселся человек над лабораторным столом (или ученый мир человечества - над земным шаром). Все - подлежит изучению!.. Сама мысль - тоже. Сколь захватывающи перспективы поставить даже исследование психических, духовных процессов на твердую почву эксперимента...
Какая неколебимая симметрия, какая устойчивая пирамидальность в композиции “Мысли”. Кажется, эти руки - укоренились в земле, в объективном, в том, что существует независимо от зыбкого сознания... Кажется, первые, только что найденные в опыте математически точные зависимости между физическим и психическим, между стимулами и различением стимулов, дают небывалое, дают объективное знание о духовном, дают повод для широчайшего оптимизма, для глубочайшей веры в науку, в прогресс...
Как проста по форме покатость головы, плеч, стола на чюрленисовской картине, как лаконично отсутствие деталей, как строг по цвету колорит “Мысли” - простота круга, строгость серого... Казалось, всю гуманитарную область знания можно будет построить по образу точных естественных наук, как это начала делать новая точная дисциплина - экспериментальная психология,- исповедуя культ внешней простоты, культ строгости, культ факта...
Почему же в “Мысли” так, в общем-то, туманна и как бы бестелесна нижняя, опорная часть этой пирамидальной глыбы? Не заводит ли культ факта... в тупик непознаваемости. Культ чисто психологического факта...
(Может, странные лучи у глаз в “Мысли” как раз ее изображают?..)
Так или иначе, знание о психическом и тогда, и раньше основывалось на интроспекции, и она не фикция. Человек умеет наблюдать за собственными психическими состояниями: с непогрешимой достоверностью я различаю свои ощущения, свои чувства и мысли; ни о чем другом я не имею такого отчетливого знания, как о порождениях собственной души. Значит, думалось, психическое - это непосредственно переживаемое, а психология - наука о непосредственном.
Нужно только не замахиваться на изучение души в целом, а ограничиться душевными явлениями, атомами психики. Самонаблюдением - узреть ниточки ткани сознания, той особой материи, из которой оно состоит.
Для чего же Вундту приборы, эксперименты, тренировка испытуемых на непредвзятость? - Для упорядочивания интроспекции. Так, если человеку показывалась какая-либо вещь, и на вопрос, что он видит, он отвечал, например, “чернильница”, то реакция считалась неправильной. Надо было детально описывать ощущения: “нечто фиолетовое, круглое, блестящее” и так далее. Все - для дробления психических фактов на кусочки, неподвластные никакой теории, домыслу, философии, в общем, все - для достижения самоочевидности фактов - атомов сознания, непосредственно данных сознанию.
Но!.. Далеко ли уйдет такая приземленная до кажимости наука? В “Мысли” Земля - круглая. А ведь самоочевидно-то, что она плоская...
Да, похоже, не зря у Чюрлениса “Мысль” не только строга и симметрична по композиции и краскам. В ней есть еще и какая-то аскетическая бесплодность и зыбкая неуверенность.
Ну, а если наоборот? Если зыбкость дана художником ради противопоставления основания пирамиды тяжелой, выпуклой, вещественной вершине? Если эта противоположность - образ того, что, мол, душа и тело в принципе различны и по-разному постигаемы?.. Может, тут не бесплодие, а могучая плодовитость апперцепции - ведь сумел же человек понять, что Земля кругла? Пусть кажимость остается только за органами чувств, пусть будут они, в конечном счете, обманчивы и слепы - лишь бы мысль была зряча. Разве не начинались все науки с того, что видимое сменялось невидимым, ощутимое - неощутимым, непосредственное - опосредствованным, чувственное - абстрактным. И если физике в свое время свою пользу сослужил невесомый флогистон, невидимый теплород, неощутимый эфир - то разве не вправе была рождающаяся психология вывести апперцепцию как особую психическую силу.
Череп в “Мысли” так замкнут, объемен, так довлеет себе, что кажется - ему не нужны никакие подпоры. Для начала работы мысли достаточно каких-то смутных импульсов. Словно туманными руками человек ощупывает ту “вещь в себе”, что темнеет внизу картины,- и ему хватает. Далее действует рассудок, превращая темные ощущения в светлые понятия. И, может, не зря они подобны: череп и земной шар... Может, голова представляет себе мир таким, какою является она сама с ее врожденными идеями о пространстве и логике, о времени и причинности. То есть Вундт, может быть, прав, что рассуждать - это конструировать из чувственного материала по доопытным (!) правилам логики, имеющим силу апперцепции.
Но почему так темна “конструкция” в руках человека из “Мысли”, и, вообще, почему мрачна вся картина? Почему извне так непознаваемо-непробиваем череп и противоестественно перевернут вверх центр тяжести пирамиды?.. Не потому ли, что интеллект обманывается в своей силе, не зная своих корней и своей истории, принимая вершину психического развития за его основание? И не прав ли даже и сегодня великий Кант,- духовный отец далеко не великого Вундта,- не прав ли он в том, что совершенно изолированное познание разумом, которое целиком возвышается над знанием из опыта, до сих пор не пользовалось еще благосклонностью судьбы и не сумело еще вступить на верный путь науки?
В позапрошлом веке еще не созрели условия для становления психологии как точного знания, и потому Кант не смог применить для учения о рассудке идею развития, которую он сам же ввел в естествознание (через астрономию). Ну, а Вундт-то почему “всеобъясняющую” апперцепцию поместил в человеческую голову, когда его коллеги вникали в поведение обезглавленной лягушки, совершенно “логично” и целесообразно почесывавшей лапкой раздражаемое место?..
А промах чюрленисовского современника объясняется просто: тогдашним общим кризисом в науке и обществе (они обычно совпадают по времени). Причем не революцией в науке объясняется, а именно кризисом, то есть положением, когда трудности революционной обстановки использует философская реакция.
Вундт был в философии реакционером, Чюрленис же не верил никакой философии. И очень допустимо, что ему особенно легко бросалось в глаза то чуждое, что неизбежно вносит в предмет препарирующий его ученый. А то, что сам художник ученым не был - не беда: даже самый наивный взгляд на вещи иногда оказывается в основном более верным, чем следующий за ним взгляд, который обычно является односторонним...
Известно, что учась в Варшавской консерватории Чюрленис интересовался различными естественными науками и особенно - астрономией, пробовал изучать теорию Канта - Лапласа о происхождении солнечной системы... Но пусть он не добрался до непознаваемой кантовской “вещи в себе”; пусть не осознал революционной для естествознания роли кантовской же теории развития планет из облака межзвездной пыли; пусть не знал он сути учения Вундта; пусть, наконец, чюрленисоведы докажут когда-нибудь, что психологические диспуты в доме меценатки Вольман были просто модными в то время спиритическими сеансами. Пусть в “Мысли” изображено не более чем “столоверчение” и “вызов духов” - то, что в кругу Чюрлениса называли экспериментальным применением психических явлений. Пусть.
Даже и с такой точки зрения с “Мыслью” легко ассоциируется не только мистическая идея о возможности постичь сверхъестественное, но и пафос сосредоточенного углубления в пока запредельную тайну.
Легко ассоциируются с “Мыслью” непримиримые враги: наука и антинаука. Легко. Потому что произведение живописи, если оно - не иллюстрация к готовой словесной истине, то вполне может иллюстрировать достаточно широкий круг явлений.
А символические замашки тогдашнего искусства выразить сверхчувственное и непознаваемое (вопреки непонятной и угнетающей действительности), а общее в мелкобуржуазной среде настроение беспокойства о будущем (перед нарождающимся молохом империализма), а популярность среди культурной публики новой преуспевающей науки (при тяге исследователей к психическому - за его темноту, неопределенность и запутанность) - все это сливалось в конце XIX и начале ХХ века в достаточно широкое идеологическое течение, чтобы мысленно окунаясь сегодня в его мутные волны выбирать из области науки, а не развлечения и быта, конкретные ассоциации с чюрленисовской картиной под таким характерным названием, как “Мысль”.
Познаваем ли мир? - Этот вопрос просачивался во все фибры современной Чюрленису культуры. В те годы не только физиков, но и лириков волновали, казалось бы, сугубо специальные сферы.
Быть может, эти электроны -
Миры, где пять материков...
Хотелось верить, что какие-то там невидимые электрические шарики - действительно шарики, и что они будут описаны со временем так же хорошо, как земной шар, на географической карте которого почти не осталось белых пятен. Хотелось верить, но... Для ученых - по крайней мере, для ученых - уже становилось сомнительным, что мир невидимого подобен видимому миру, миру земных и небесных тел, микрокосмос - макрокосмосу.
Со времени коперникианской революции в естествознании: за столетия, прошедшие с XVI века,- образованные люди привыкли считать невидимое сущностью видимого. Но отход от непосредственной видимости не был еще окончательным: сохранялась наглядность. И сохранялась она - как остаток стремления изображать невидимое по образу и подобию очевидного - механического, говоря иными словами.
А сейчас научному миру (и вообще культурной публике) предстояло отрешиться от механической наглядности представлений о невидимом, например, принять, что свет - одновременно и непрерывные волны, и прерывное - частицы, а течение времени - зависит от относительной скорости движения тела.
Это было еще более потрясающим, чем четыреста лет тому назад представить Землю несущейся в пространстве вокруг Солнца.
Отказаться от принципа наглядности в пользу принципа ненаглядности, с его отвлеченным мышлением и математическими абстракциями,- такова одна из сторон новейшей революции (впрочем, эта сторона вполне развернулась только во второй четверти ХХ столетия).
Спрашивается, можно ли при такой хронологической накладке говорить о ненаглядности естественнонаучных абстракций в связи с творчеством Чюрлениса или вообще какого бы то ни было другого его современника, тем более что даже в ученом мире, например, Эйнштейна, одного из родоначальников принципа ненаглядности., очень долго вполне понимали только считанных несколько человек.
Думается, можно. Можно естественную, гуманитарную, математическую - любую абстракцию и ненаглядность ставит в параллель картинам Чюрлениса. Потому что абстракция - это сгусток мысли, а мысль - это наиболее очевидная стихия столкновения противоположностей, споров, сомнений, разнотолков и противоречий, Чюрленис же был по преимуществу художником парадоксов мысли, живописцем полюсов идеального, рисовальщиком взаимопревращаемости отвлеченных понятий - то есть всего того, что наиболее сродни потрясениям в науке всех времен.
И если в искусстве целой группы новаторов конца XIX века (которых совсем не считают художниками-мыслителями) искусствоведы видят обобщенное прорицание всех катаклизмов нашего, ХХ, века, если в апокалиптических видениях некоторых картин Чюрлениса (художника очень далекого от политики) видят его черное предчувствие грядущих мировых войн, то видеть у Чюрлениса же (живописца мысли), в других его видениях, прообраз научных революций как формы противоречия человеческого познания - это вполне последовательный шаг.
Почему мрачна “Мысль”, если почти вся она написана красками теплых оттенков? - Противоречие... Поник в ней или упрямо склонился человек? - Единство противоположностей... Он определил, что Земля круглая,- много это или мало? - И то и другое. Потому что так устроено познание. Оно никогда не удовлетворяет до конца. Решение одной проблемы открывает сонмище новых. Да и хромает оно - решение. Мы ничего не можем представить, выразить, измерить, изобразить, не прервав непрерывного, не упростив, огрубив, не разделив, не омертвив живого. Все - есть одновременно и истина, и заблуждение; свет и мрак - вместе; сосуществуют устойчивость и зыбкость, весомость и бестелесность, материя и идеальное, ноты пессимизма и оптимизма. И все это есть в “Мысли”.
Разве не хочется удивительно весомую, какую-то особо материальную тяжесть черепа считать гимном эмпирии, хвалой чувственному познанию. И наоборот: эта головная тяжесть, мозговая сила - не сила ли она абстракции, идеализации, тем более могучая, чем свободнее она от материальности, чем бестелеснее опора этой макушки.
Демокрит когда-то создал атомистическую математику: отрезок делится пополам, если он состоит из четного числа атомов; любые отрезки соизмеримы через атом... Но не большего ли достиг Пифагор, не только открыв несоизмеримость стороны квадрата с его диагональю, но и сумевший соотнести несоизмеримое? А ведь Пифагор пользовался прямыми и точками в том виде, как они существуют идеально - то есть в геометрии, а не в реальной природе с ее атомами...
У Чюрлениса есть такой рисунок тушью
(233): по каким-то таинственным, испещренным иероглифами, большим каменным ступеням карабкается вверх младенец, а над ним, в небе, над дальними горными пропастями проносятся вдаль и ввысь две жар-птицы. Ребенок поднял голову к сказочным созданиям... И что? Позавидовал их свободному полету, помечтал: “Схватиться бы за хвост”? Или он приметил, что еще более свободные, чем птицы,- облака - ползут так же, как он? Ползут по хребту все выше и все же - не отрываясь от земли... Или это последнее дано увидеть не ему, младенцу, а нам, со стороны, людям поопытнее?..Что если взглянуть на математику, как на жар-птицу из чюрленисовского рисунка.
Сколько ни тверди, что она занимается воображаемым: несуществующими в природе числами, прямыми, точками - соотношение между этими “выдумками” не выдумаешь. Теоремы открывают, а не изобретают. Но если даже некий Лобачевский или Риман изобретут что-то совсем из ряда вон выходящее, например, аксиому, что прямых, параллельных данной, можно больше одной провести через точку, то рано или поздно такая математически-экзотическая птица развернет свое пышное оперение, к изобретенной аксиоме откроют теоремы, и кончится тем, что отвлеченнейшая теория все же опустится на землю (физику, например). Так же и облако: настанет время, и оно оросит собою какую-нибудь вершину.
Таковы взаимопереходы отвлеченности и эмпирии.
5.2
Чюрленис и научные революции прошлого
“Дева” (153)
Можно по-разному вникать и вживаться во взаимопревращаемость полярных фаз познания: нейтрально и с пристрастием. Чюрлениса явно больше вглубь тянуло, чем по поверхности, больше в небо, чем на землю. Сильный акцент, например, в “Зиме” на кажимости, на “погружении” в морозные узоры и не глубже, на бессмысленности рассуждений о том, что за стеклом - это скорее редкость для художника, чем правило. Не в его привычках пренебрегать истиной, скрытой от человека, и теорией, не дающей пользы. Не ему называть поиски последней сути - философией в дурном смысле слова, пустяком, псевдопроблемой и бесплодной, непроверяемой опытом метафизикой. Жить - ближайшим? - Нет!
И тогда под прожектором мысли и интуиции вдруг явно видимыми гигантами оборачиваются мыс “Спокойствия” и зелень “Дня”, тополя “Лета” и сосны “Леса”, башни “Прошлого” и “Летней сонаты”, звездные скопления “Гимна” “Рекса зеленого” и несчетные облака многих и многих картин. Сколько раз нужно было вглядеться - и открывалось что-то незамечаемое. И сколько раз эту необычайную реальность, скрытую обыкновенно под внешней видимостью, художник давал зрителю впрямую. А если где-нибудь он и не снабдил ее фантастическими чертами - все равно: в каком-то невидимом эстетическом силовом поле соседних картин даже его, казалось бы, обычные пейзажи становятся загадочно-таинственными, предвещают откровение или томят душу неведомым.
На лугу в ясную звездную ночь стоит девушка и запрокинув голову смотрит на небо.
Нет в картине “Дева” ни головокружительных перспектив, ни впечатляющих столкновений масштабов, как в других картинах цикла “Знаки Зодиака”. Наоборот - подчеркнутая скромность, невзрачность. Пожалуй, только одно странно: уж очень тут бестелесна девушка. И хотя можно думать, что это ночной туман, встающий над лугом, делает ее такой призрачной, но настроение всего цикла,- огромность сил Вселенной по сравнению с крохотной пылинкой - человеком,- заставляет внимательнее отнестись к этой хрупкости, почти нереальности существования. Ведь и травы луга тоже неестественно удлинены, вот-вот поломаются. И вся эта щемяще-нежная преходящая жизнь показана с очень низкой точки зрения, чтобы большинство картинного листа занимало небо, это бесконечное вместилище пространства... и времени. Зачем это?
На умонастроении этого ученого - Паскаля - стоит остановиться подробно, ибо он сильнее всех (словами) выразил трагическое в противоречивости познания, о чем тоже сильнее всех (красками) “сказал” Чюрленис.
Трагедия от абстракций...
Поразительно! В полном отчаянии перед бесконечностями пребывал двести лет тому назад человек, первым среди людей вплотную подошедший к исчислению бесконечно малых величин (к дифференциальному исчислению).
С другой стороны... И древние греки умели справляться с бесконечными математическими объектами. Например, вопреки знаменитой апории Зенона о том, как быстроногий Ахиллес не может догнать черепаху (каждый “шаг” преодолевая половину очередного оставшегося до черепахи расстояния), - греки знали, что 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... = 1. Не к конечному, а к бесконечному множеству объектов относится большинство предложений и формул арифметики, алгебры, геометрии - вообще всех областей математики во все времена, когда только ни существовала эта наука. А после того, как уже накануне нашего века Кантор показал, что можно сравнивать и складывать, умножать и возводить в степень, в общем, считать сами бесконечные множества - кардинальные числа,- что можно нумеровать - особыми, трансфинитными, числами - то, что находится за бесконечностью,- после этого всего о могучих человеческих возможностях в постижении бесконечностей, казалось бы, и говорить не приходится.
Только раз за разом основания математики подвергаются кризисам... Причем каждое потрясение наступает после кратковременного торжества гипотезы о том, будто уже осуществлено построение бесконечного математического объекта,- гипотезы, всегда оказывавшейся противоречивой.
Паскалю, правда, было еще не до противоречий исчисления бесконечно малых. Его мучила противоречивость другой гипотезы: будто всегда можно сделать еще один шаг, как бы ни было велико число шагов предшествующих, и так, мол,- неограниченно.
Паскаль, приверженец идеи научного прогресса человечества, один из основателей науки Нового времени, не мог не ощутить одиночество и беспомощность перед физической бесконечностью (незадолго до него открытой Бруно и Галилеем в ходе коперникианской революции); Паскаль не мог не содрогнуться перед бесконечностью науки, постигающей бесконечность физическую.
Средневековая картина завершенного и совершенного мира, ограниченно и упорядоченно расположенного по сферам с центром - Землей - рухнула, и люди стали осознавать весьма скромное положение человека в рамках складывающейся новой картины мира. Ньютон же, современник Паскаля, ко времени идейного кризиса своего коллеги не успел еще объединить эту новую картину мира едиными законами, общими для всей, мол, бесконечности.
Конечно, не только из-за краха средневекового научного мировоззрения, не только под воздействием той разрушительной работы (какую поначалу учиняет любая революция) Паскаль сменил оптимизм на скепсис, светскую жизнь и научное творчество - на морализаторство и уход в монастырь (да: он до того дошел). Так вот, не только повлияла на него наука: ее практическая слабость в то время и неприложимость к человеку, - но и половинчатость, промежуточность самой эпохи. (Он жил в “великий век” Людовика XIV, когда мощно развивалась буржуазия, а король ее не менее мощно давил дворянами, как, впрочем, дворян - буржуазией, горожанами.) Но эта глава - о науке. Поэтому хотя в чем-то социальная промежуточность эпохи Паскаля (с ее анархиствующими фрондерами-дворянами) и созвучна застигнутой Чюрленисом эпохе (с ее мелкобуржуазными анархистами), но нам в этой главе - не до хиреющих классов. Главное внимание здесь - потрясениям вокруг абстрактного.
Абстракции влекут и отталкивают, заставляют страдать и восхищаться, вынуждают высказывать крайние взгляды и совершать значительные поступки. Они вдохновили Паскаля на создание прямо-таки стихов в прозе (отрывки из которых прекрасно ассоциируются с “Девой”), а Чюрлениса абстракции и идеализации подвигнули к написанию картин, подобных “Деве”.
И пусть не покажется нелепым связывание глубочайших мыслей и чувств ученого с простенькой девушкой, нарисованной Чюрленисом так естественно сливающейся с природой. Известно фактически, что даже первобытных дикарей терзают почти такие же - мировоззренческие - вопросы.
Один из зулусов (зулусы - народ, недавно живший еще родовым строем) рассказал этнографам о своем духовном состоянии: “Я сел на скалу и стал задавать себе грустные вопросы: да, грустные, потому что я не в силах был ответить на них. Кто касался звезд своими руками? На каких столбах они держатся? Я спрашивал также: воды никогда не устают, у них нет другого дела, как течь, не переставая с утра до ночи и от ночи до утра; но где же они останавливаются, и кто заставляет их течь таким образом? И облака тоже приходят и уходят и изливаются водою на землю. Откуда они приходят? Кто посылает их?.. Я не могу видеть и ветра, но что же он такое? Кто несет его, заставляет его дуть, реветь и пугать нас? Разве я знаю также, как растет хлеб? Вчера у меня в поле не было ни былинки; сегодня я пришел туда и нашел их уже несколько. Кто мог дать земле мудрость и силу, чтобы произвести это?”
По такой исповеди ясно: у дикарей происходит “научная революция”, идет ее разрушительный этап. Человек пытается найти естественное объяснение важным, но непонятным для него явлениям. Религиозный ответ, ссылка на сверхъестественные существа его уже не удовлетворяет, так как он “никогда не видел колдунов, которые поднимаются на небо, чтобы добыть дождь или послать ветер”. А на разрушительном этапе научной (в кавычках или без кавычек) революция вполне может прозвучать и грустная нота беспомощности.
И не только чюрленисовского современника, очевидца начала так называемой новейшей революции, но и человека прошлых веков трогали бы за душу “Мысль” и “Дева”, если бы показать их ему и намекнуть о смысле приемлемыми для него понятиями. Он бы принял Чюрлениса за своего, ибо Чюрленис - художник противоречий мысли, а познание - всегда было противоречиво. Иметь только машину времени нужно бы для такого искусствоведческого и исторического эксперимента, как возврат в прошлое.
5.3
Будущая научная революция -
абсолютная истина -
Чюрленис
“Ангел” (189
), “Сотворение мира” (62-74), “Гора” (50)Пусть как бы в прошлое можно попасть, поехав к дикарям, кое-где еще сохранившимся на нашей планете. А мыслимо ли испытать чюрленисовское творчество... будущим? Не понадобилась бы тут уж обязательно машина времени?
Машина времени...
А ведь повернутое назад время, коль скоро речь идет о научных революциях, это теперь не совсем пустой звук. Мир Геделя, мир де Ситтера, космологическая модель Дэвиса, “встречное”, “вывернутое”, “обращенное” время, “вакуум Наана”, производящие миры со временем, антивременем и даже с ‘растрескавшимся временем’, картина мира Уилера, где вообще нет “времени” - все эти мало кому известные теории,- эхо которых докатывается все же до широкой публики,- есть не что иное как предвестие назревающего кризиса нынешнего пространственно-временного ви`дения мира, все это гонцы переворота, к которому приводит опять (как когда-то, при Копернике) - астрономия.
Есть соображения, что пульсирующая Вселенная, проходя через состояние первоатома, в следующем цикле расширения не сохраняет ничего похожего от Вселенной предыдущего цикла: даже атомы, элементарные частицы, даже само время и пространство и даже самые законы природы меняются случайным образом. И мало того: все сущее - в каждой точке - имеет в себе уже сейчас и “несуществующее” (так монета, случайно выпавшая “орлом”, имеет свою оборотную сторону - “решку” - как будущую возможность реализоваться иначе)... К тому же, сторон той “монеты” - “сверхпространства” - по-видимому, бесконечно много. И итог итогов - все эти стороны не относятся друг к другу как реализованный и нереализованный миры, а иначе: только пренебрегая нереализованными пространствами (то есть с
нашей точки зрения) можно видеть мир таким, каким мы его видим.А мыслимо ли вообще их различить? Что если Вселенная бесконечно разнообразна, и чем дальше в пространстве и времени от наблюдателя, тем более “диковинные” формы материи и законы преобладают?
Мы привыкли думать, что познаем мир, постепенно приближаясь к абсолютной истине (хотя и никогда не достигая ее, но все же подходя сколь угодно близко); нам трудно избежать неудовольствия и неприязни, обнаружив, что в максимально разнообразной Вселенной абсолютная истина находится от нас на очевидно бесконечном расстоянии. Нам - неуютно, как неуютно дикарю-зулусу, Паскалю, Чюрленису...
“Ангел. Прелюд”.
Если судить о нем по названию эскизов
(406, 407), очень похожих на картину, то здесь - не просто ангел, а изгнанный из рая ангел - Демон, “царь познанья”.
Казалось бы, все ведомо крылатому существу, изображенному на картине,- надо всем вознесся ангел. Увита розами скала, острый пик, на котором он восседает. Ниже его долины и хребты далеких гор, ниже его облака, ниже его ажурные мосты, повисшие надо всем на свете, ритмически подпертые стройными опорами...
Эти горизонтали мостов и вертикали опор - словно неизменные, всюду, по всей бесконечной и однородной Вселенной, одинаковые законы и константы природы.

Как в “Звездной сонате”
(212, 213): какой бы хаос и разнообразие ни творились в мире - сквозь все проходит строгая горизонталь (смешно: эта темная полоска с крошечными звездочками выглядит нынче, как перфолента, направляющая работу вычислительной машины...). И эта монотонная полоса с разнообразно расположенными на ней проколами-звездочками - все же в чем-то все время неизменна, и тоже единообразно, с неумолимой периодичностью подперта тончайшими, но ничем не сгибаемыми, идеально прямыми опорами.Чем не символ однородной Вселенной?
И вот этот символ изламывается в “Прелюде ангела”!
Когда ажурные горизонтальные мосты подошли слева направо к рубежу, где господствует увитый венками покоренный пик Познания,- вдруг открылось, что дальше идут наклонные мосты, лестницы вверх, ведущие в быстро темнеющее вечернее небо. И ангел сел, устало и пригорюнившись, и повернулся спиной к открывшейся нового рода бесконечности, и тихо стал смотреть на пройденный путь, на весь познанный им мир. Ангел смиренно прощается с последними ласковыми солнечными лучами. Грядет ночь. И что-то ускользающее, щемящее излучает эта картина, написанная, почти вся, такими мажорными теплыми красками...
Вот и современный ученый, заподозрив, что любые физические законы ограничены в пространстве и преходящи во времени, естественно задается вопросом: “Не оказывается ли познающий разум совершенно безоружным перед лицом такого объекта как максимально разнообразная, неоднородная Вселенная? Достаточно ли мы вооружены философски и математически, чтобы подступиться к нему?”
Но тем и отличается сегодняшний ученый от художника прошлого, от Чюрлениса, что он кивает утвердительно на второй вопрос.
Математический же аппарат как будто до сих пор всегда оказывался на высоте, в свете потребностей естествознания.
Именно в наше время математика уже осуществила гигантский прорыв, обнаруживший, в потенции, множественность самих математик. Вот ситуация, создавшаяся в результате открытия Коэна (решение проблемы континуума
*), ярко охарактеризованная Г. И. Нааном: “...Таким образом, в принципе могут существовать разные математики, основанные на разных теориях множеств... одна математика - это математика упорядоченного мира, другая - мира, не поддающегося упорядочению. Последний нам только еще предстоит открыть? Или мы преувеличиваем упорядоченность известного нам мира?”------------------------------------------------------------------------------
*
Пронумеровать бесконечным рядом натуральных чисел (если представить это возможным) все точки отрезка прямой - нельзя. Точек бесконечно больше - континуум. И если количество всех натуральных чисел - бесконечность первого типа, то континуум - второй тип. Решение же проблемы это доказательство, что любой ответ и не противоречит аксиомам математики, и не выводим из них. И поскольку к аксиомам, в конечном итоге, сводится любая наука, то, выходит, математик - минимум две: одна - с двумя типами бесконечностей, другая - с тремя.Это интересное высказывание Г. И. Наана рисует,- продолжает академик,- концепцию “максимально неоднородной Вселенной” в новом освещении, когда она предстает не как мрачная громада, к которой неизвестно, как и подступиться, а как захватывающая проблема.
Проблема эта такого масштаба, что уже одна постановка и просто даже осознание наличия ее, видимо, обнаруживает незначительность, псевдоглубину и вообще “псевдопроблемность” некоторых наших в буквальном смысле вековых проблем”.
А мог бы Чюрленис, доживи он до наших дней и узнай он такие оптимистические ходы мысли, акцентирующие внимание не на пути, а на самом достижении Олимпа познания,- мог бы он отнестись поспокойнее к пока вечным вопросам человечества? - Думается, нет. Главный творческий импульс ему сообщали нерешенные социальные проблемы. Он бы их нашел и сегодня, он связал бы их недостигнутую Истину с истиной в естествознании и, в конечном итоге, боясь остановиться на чем-нибудь окончательно,- отказался бы от оптимизма. Иначе это был бы уже не Чюрленис, а другой по духу и пафосу художник.
Во всяком случае, в его время даже сам абсолютный идеализм, от которого наша философия позаимствовала мощь диалектики, возбуждал в Чюрленисе сомнения.
Казалось бы, кому как не ему, всегда стремящемуся вглубь, вдаль и ввысь, воспеть торжество порыва мысли сквозь явления - к сути. Если лишь санкция чистой мысли, оперирующей общими понятиями, возводит чувственный опыт в ранг истины, так почему бы художнику, живописующему мысль, не признать ее родства с отвлеченностями, с законосообразностями мира, с абсолютной идеей, управляющей всем. Пусть бы мысль, свободная в своей идеальности, стала у него апофеозом творения.
А стала она у него таким апофеозом?
Цикл “Сотворение мира” художник закончил изображением ужа - символа ума, мудрости.
Получился именно цикл: возвращение как бы к исходному. Началось с Божественной мысли (по-религиозному - с Божественной, по-светски - с абсолютной идеи), определившей все последующее развитие,- кончилось - самопознанием абсолютной идеи, возникновением разума, постигающего все предыдущее, включая и абсолютную идею.
Но как невзрачно выглядит вожделенный апофеоз... По идее, все - должно быть пронизано Идеей. Но как тускла эта Божественная или абсолютная Идея, двигающая материальный мир.
Этот Бог, эта Его ладонь - так нематериальны... Здесь что: изображение самого Духа или все-таки некое сомнение в его существовании вообще? Все картины цикла более или менее размыты, стушеваны, все они какие-то померкшие, призрачные.
Нет победного чувства у прорвавшегося к абсолюту человека.
“Гора” - быть может, самая безразличная вещь по настроению. Но нет ли (вдруг есть?) и в этом свой умысел...
Здесь нет минорного чувства по поводу тех или иных откровений, таких, как печаль одиночества, страдание добра, бессилие идеалов, страх перед смертью или бесконечностью. Гора - и все.
Но, как лев - царь зверей, так льву подобная гора - по-видимому, превзошла все горы и господствует надо всем. И как царь не снисходит до мелочей жизни своих подданных, как вершина удалена, отчуждена от остального, ниже ее лежащего мира, - так абсолютная идея не вникает в исторические мелочи и частные судьбы. Никаких подробностей не видно ниже ледяной горы... С такой высокой точки зрения, куда поместил художник зрителя этого пейзажа, с высоты, равной самой горе, на этот раз, в этой картине, интересны оказались лишь царственные изгибы абсолютной вершины. Абсолютная идея и абсолютная истина слишком близко соседствуют друг с другом... И идея развития мира, достигнув истины в последней инстанции, каменеет, как гора, и с ледяным всепонимающим безразличием относится к добру и к любым несчастьям, к правде и любой несправедливости.
Могло ли это удовлетворить Чюрлениса? Нет, как, впрочем, и все другие философии, подвергнутые им испытанию в своей душе, о чем свидетельствует его творчество.
Другие интернет-части книги
1
2
3
5
6
7
8
На главную страницу сайта
Откликнуться
(art-otkrytie@yandex.ru)
Отклики в интернете