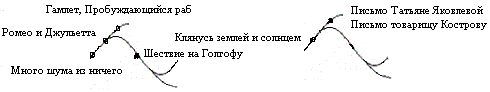
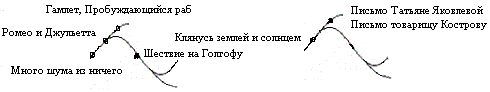
С. Воложин
Шекспир. Гамлет.
Идеал и художественный смысл
| Гамлет Шекспира – произведение маньеризма, а вовсе не Возрождения. И маньеризм повторяется в веках, приходя в эпохи перемен, но только - к мировоззренчески несгибаемым художникам. |
Первая интернет-часть книги “Сопряжения”
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИСКУССТВА
КНИГА ПЕРВАЯ
-----------------------------------------------------------------------
С. Воложин
СОПРЯЖЕНИЯ
Одесса 2001
Предисловие,
постоянно-переходящее
к каждой книге данной серии
- Миссия есть у каждого... Самое интересное... что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия...
“Хрустальный мир”. В. Пелевин
Моя миссия, по крайней мере в этой серии книг, заключается, видимо, в том, чтоб дать как можно больше примеров применимости Синусоиды - я это так называю - идеалов (с инерционными вылетами вон из нее), идеалов, которыми одушевлены были творцы произведений искусства при их создании, для выявления художественного смысла этих произведений.
Я было пробовал когда-то поделиться своей находкой: послал материал в центральную газету, в толстый журнал... - Не взяли. Сделал принтерные самоиздания (по паре экземпляров) нескольких работ и подарил их одной-другой библиотеке. - Взяли. Но - в отделы рукописей, и вещи не попали в общие каталоги. Напечатал несколько статей в местных газетах. - Но там не развернешься. И никто не понял, на какой системе все у меня базируется. Издал кое-что, крошечными тиражами, для библиотек. - В общие каталоги попало, но никто их там не ищет.
Нет. Надо - как в кибернетике: для надежности передачи информации обеспечь ее избыточность.
Когда-то я писал и думал: будь у меня сто жизней - я бы всю историю искусств построил по Синусоиде с ее вылетами....
Вот и надо внушить ту же мысль печатно, количеством моих применений такой Синусоиды.
Правда, я не мог это издавать сразу после написания, а теперь уже не полностью согласен с самим собой, прежним. - Ну, зато видна эволюция от книги к книге. Может, это даже и лучше для усвоения.
Предисловие к книге первой
Это странная книга. По сути она - исследование в области философии истории искусства, предпринятое... невеждой. Мыслимо ли такое издавать? - Мыслимо, если есть свобода печати, деньги, время и нет понимания автором неуместности затеи. Но что если автор - кое-что все-таки читал по данной теме, если оперирует сведениями, найденными настоящими учеными, что если автор - страстный распространитель идеи глубокого постижения художественных произведений? И если он уверен, что нашел почти универсальный ключ для этакого постижения? И если думает, что ему - со стороны - виднее, чем окостеневшим в догмах узким специалистам? И если их противоречия с самими собою и заочные распри этих специалистов между собой ему, автору, заочно же, на страницах своего блокнота, удается примирить и подвести под общий знаменатель? - Тогда является на свет вот этот опус.
Он престранный еще и по форме. Это - кухня того, как его автор дошел до своего открытия, это - поток авторского сознания, прием и для художественной прозы чреватый нечитабельностью, а тут - искусство- и литературоведение... Так сможет ли это одолеть адресат, темный, а может, и агрессивный в своей темноте потребитель искусства? - Сможет,- надеется самодеятельный, я извиняюсь, ученый и просветитель.- Темны ж мы оба: и я, и мой читатель. Мы одной крови! И я пишу, имея в виду именно его. И не стесняюсь своего брата по крови, и выворачиваю перед ним, родным, все свои недоумения и незнания. И продираюсь я сквозь тьму неведения ощупью, медленно, фиксируя и для себя, и для него, каждый шаг, полшага, четвертьшага. И признаю свои ошибки, если осознаю их (а ведь на ошибках учатся). И потому мы вместе дойдем до итога.
Разве не блажен, кто верует?..
Здесь вскользь или подробно говорится об идейном смысле деталей следующих произведений искусства:
скульптуры “Пробуждающийся раб”
Микеланджело..................................................стр. 9, 26
фрески “Страшный суд” Микеланджело...............стр. 13, 27
симфонии “Смерть и просветление” Р. Штрауса.........стр. 13
Шестой симфонии Чайковского...........................стр. 13, 89
картин “Шествие на Голгофу” и “Мученичество
св. Ливина” Рубенса.................................................стр. 15
комедии “Много шума из ничего” Шекспира........стр. 24, 27
трагедии “Ромео и Джульетта” Шекспира.................стр. 27
романа “Мастер и Маргарита” Булгакова.................стр. 28
трагедии “Гамлет” Шекспира................стр. 29, 93, 128, 136
сборника новелл “Декамерон” Боккаччо.................стр.
песни “Опустите, пожалуйста, синие шторы”
Окуджавы.................................................................стр.
романа хроники “Клянусь землей и солнцем”
Черкашина................................................................стр.
стихотворения “Письмо Татьяне Яковлевой”
Маяковского.............................................................стр.
стихотворения “Письмо товарищу Кострову
из Парижа о сущности любви”
Маяковского......................................................стр. 75, 87
стихотворения “Ко всему” Маяковского.............стр.
стихотворения “Посещение” Д. Донна................стр.
рассказа “Морская болезнь” Куприна..................стр.
рассказа “Гранатовый браслет” Куприна.............стр. 83
рассказа “Таинственный дом” Нагибина............стр. 82, 123
рассказа “Пик удачи” Нагибина..........................стр. 83, 89
повести “Когда погас фейерверк” Нагибина.........стр. 84, 88
рассказа “Где-то возле консерватории”
Нагибина..........................................................стр. 84, 119
рассказа “Ленькина радуга” Мошковского...............стр. 90
рассказа “От письма до письма” Нагибина...............стр. 102
романа “Зависть” Олеши........................................стр. 105
рассказа “Огненный Протопоп” Нагибина.............стр. 113
рассказа “Надгробье Кристофера Марло”
Нагибина...............................................................стр. 113
повести “Беглец” Нагибина.............................стр. 114, 115
рассказа “Злая квинта” Нагибина...........................стр. 115
рассказа “Чужое сердце” Нагибина....................стр. 116
рассказа “Царскосельское утро” Нагибина.............стр. 117
рассказа “Сентиментальное путешествие”
Нагибина...............................................................стр. 118
рассказа “Срочно требуются седые
человеческие волосы” Нагибина.............................стр. 119
рассказа “На заре туманной старости”
Нагибина...............................................................стр. 120
повести “Терпение” Нагибина...............................стр. 123
рассказа “Берендеев лес” Нагибина......................стр. 124
фильма “Председатель”..........................................стр. 124
фильма “Время отдыха с субботы до
понедельника”........................................................стр. 125
стихотворения “Парус” Лермонтова........................стр. 128
стихотворения “Толпе тревожный день
приветен, но страшна...” Баратынского...................стр. 130
стихотворения “На севере диком стоит одиноко...”
Лермонтова............................................................стр. 131
стихотворения “Благодарность” Лермонтова.......стр. 131
стихотворения “Выхожу один я на дорогу...”
Лермонтова............................................................стр. 132
песни “Мы похоронены где-то под Нарвой”
Галича.................................................................. стр. 137
песни “Баллада” Анчарова.....................................стр. 138
Я не сторонник вольных “режиссерских” находок; Шекспир - не канва для вышивания эффектных узоров, а источник неустаревшей мудрости, которую надо бережно выявлять и передавать. И если хоть кроху новую удалось добыть - и то уж великое счастье. А работы для добытчиков, по моему убеждению, много.
Осия Сорока
Может быть, это и возмутительно - выносить на люди то, что еще не отстоялось, не улеглось в сознании. Но мне почему-то кажется, что сам процесс (того, о чем я сейчас буду рассказывать) - интересен. И поучителен.
В чем мое амплуа? - Учить на собственном примере, как постигать произведение искусства. А раз - на собственном примере, значит, писать надо начинать тогда, когда в душе лишь только брезжит надежда понять.
У меня забрезжила надежда понять хоть какое-нибудь произведение живописи эпохи маньеризма или барокко.
Как бы это было здорово: понять Рубенса, положим, великого Рубенса, которого все гением называют, а почему - мне неведомо...
Я прочитал когда-то “Старых мастеров” Эжена Фромантена,- лучшую из общедоступных искусствоведческих книг за последние 100 лет,- и там полработы - о Рубенсе. Но все же даже лучшая книга мне не помогла.
А сейчас я наткнулся на статью какого-то скромного Якимовича, кандидата искусствоведения (не доктора, не академика), - и, мне кажется, этот - меня зацепил.
К тому же, в том же сборнике, я прочел статью более маститого товарища, Аникста, доктора искусствоведения, и эта вторая статья в чем-то противоречила статье Якимовича. Вот тут самая жизнь для меня. Я сопрягу, надеюсь, эти два несовпадающих мнения, и получится более общая концепция. А так как Аникст и Якимович сами развернули обширные концепции: одна - о маньеризме, другая - о барокко, то “моя” - будет сверхобширная.
Сверхстили в этой сверхконцепции расположатся в хронологическом порядке так: готика, Возрождение, маньеризм, барокко, а дальше, насколько я сейчас знаю,- классицизм.
Готика - устремление к сверхграндиозному, возвышенному, олицетворенному в Боге, миропонимание, считающее жизнь человека на земле - приготовлением к заоблачной жизни.
Возрождение - порыв к земному; возвышенное - это земное, человеческое. Человек - всесилен; вера в человека - безгранична. Антропоцентризм.
Маньеризм - отчаяние от краха антропоцентризма и ренегатский порыв обратно к иррациональному.
Барокко - здоровое пробуждение от сладких иллюзий Возрождения и мучительного разочарования маньеризма.
Если теперь подставить для себя коммунистический идеал как аналогию Возрождения, то мешанине из маньеризма и барокко вполне может соответствовать наш теперешний реальный социализм или еще локальнее - положение с самодеятельными песнями, с их идейным расколом на разочаровавшихся в коммунизме окончательно и неокончательно. А эта проблематика мне так близка. Так неужели я не войду в резонанс, если хорошо сорганизовать впечатления от Рубенса и С
о.<<
Многие проблемы, которые и сейчас еще волнуют человечество,- пишет Аникст,- получили воплощение в искусстве художников XVI столетия>>. Вот и я буду искать стыковку проблем человечества с художественными деталями. И если найду, что смысл картины имеет масштаб борьбы групповых (не меньше) мировоззрений, так это будет тем необходимым, чтоб мне и самому заподозрить, положим, Рубенса гением. А если художественных деталей окажется много,- так много, чтоб эти мировоззрения охарактеризовались подробно,- так это для меня будет достаточным, чтоб примкнуть к общему мнению о гениальности того же Рубенса.Пример.
Сначала - положительный.
*
Я вычитал (у Пиралишвили и Дмитриевой), почему Микеланджело для своего “Пробуждающегося раба” применил самый твердый, каррарский мрамор; почему у этой фигуры утолщены все части тела и почему статуя вырублена так, что от нее ничего бы не отвалилось, если б скатить ее с горы. И главное,- вычитал я,- почему он недовырубил фигуру до конца. Не то, чтоб начал работу и не кончил. Нет. Вырубленная часть у него отшлифована, окончена. Просто он специально не все вырубил.
Дело в том, что Микеланджело был в ярости от вечно “пробуждающейся” и никогда не “пробудившейся” сущности раба. Рабу мешают освободиться не только внешние силы, но и внутренние. Нечеловеческие усилия нужны, чтоб рубить из такого твердого материала, как каррарский мрамор, чтоб освободить фигуру от скалы, - нечеловеческие усилия нужны рабу, чтоб освободиться. Раб скован внутренне не меньше, чем внешне, - ничто не выступает далеко даже и в вырубленной части скульптуры. Но мириться раб не может - это не слабость скульптора: рубить как можно меньше, оставлять части тела как можно толще,- это мощь мускулов персонажа, напряжение вечной борьбы за свободу. И они равновелики: напряжение борьбы и темная сила сопротивления борьбе - скала, из которой рабу никак не вырваться. И эта иррациональная темная сила, пожалуй, не только психологическая внутренняя неподготовленность к окончательным и решительным действиям каждого конкретного бунтаря, но и - глядя из сегодняшнего далека - это какие-то общие условия, какие-то непознанные законы общества, не позволяющие освободиться ни рабам от рабовладельцев, ни крестьянам от феодалов, ни городам-республикам, итальянским, купеческим, слишком рано вознамерившимся свергнуть феодализм.
Сравнить “Пробуждающегося раба” с такими вот ленинскими словами: “
рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, а стоя по колени еще в этой грязи...” Так вот сравнить если... - Какая разница между освобождением головы, груди, торса и - освобождением по колени... Это разница между рабочим и рабом. Какая разница между скалой, держащей фигуру в себе, и грязью... Это разница между уже начавшим побеждать и еще не приблизившимся к победе.Но состояние еще не приблизившейся победы предшествует началу победы. Раб восстает не потому, что знает о будущей победе, - он словно знает о победе как бы сверхбудущей.
И вот эта устремленность Микеланджело (в “Пробуждающемся рабе”) от теперешнего, земного, куда-то в сверхдаль - это означает, что в художнике уже начался отход от возрожденческого утверждения бытия, земного, сущего.
Для эмоционального восприятия “Пробуждающегося раба” мне не нужно знать подробности: как вырвавшаяся к “первоначальному капитализму” Флоренция (и другие города-государства Италии) откатилась обратно к феодализму. Мне - чтоб волноваться - не нужно знать подробности: какими силами была задавлена реформация в Италии (духовное освобождение в области религии). Не нужно. Я знаю: на массу всегда натравливают массу, пятую колонну. Средневековый мир еще не созрел до капитализма (как пробуждающийся раб), и в том мире нашлись силы, втянувшие его обратно “в скалу”. Мне не нужно знать исторические подробности.
Чтоб лично переживать впечатления от микеланджеловской скульптуры мне нужно бы себя подставить под его пробуждающегося раба.
*
На моих глазах раз капитан милиции, ведя на допрос подозреваемого в краже, в кровь разбил лицо этого подозреваемого. Несчастный, видите ли, сверхпровинился: притворился, что нечаянно сделал подножку милиционеру, когда служитель порядка, заломив руку якобы вору, пытался протиснуться вместе с ним в узкую дверь. Капитану понадобилась сиюминутная месть за подножку (хоть он и не упал). И он целил кулаком в лицо обидчику, а тот лишь пассивно уворачивался от ударов, пока капитан не достал-таки раз до носа и не пустил кровь. Тогда блюститель успокоился, и действующие лица отправились дальше. Мне непонятно было: 1) грубость капитана (зачем заламывать руку человеку на глазах других людей, когда тот и сам идет, куда ведут); 2) зачем не отпустить заломленную руку, чтоб удобнее было всем пройти сквозь дверь; 3) зачем
такая месть за такую шутку; 4) почему так пассивен шутник перед распоясавшимся милиционером; и, наконец, 5) почему этот последний позволяет себе такой неадекватный самосуд да еще на глазах у случайных зрителей.Все это потом объяснилось, когда я узнал, что нахожусь рядом с местом проживания заключенных свободного режима, а подозреваемый в краже - один из этих зеков.
Но незнание мое не снимает с меня обвинение в рабской трусости перед милицией.
Что из того, что я выразил свое возмущение капитану, что из того, что у меня не дрогнуло лицо, когда он и мне пообещал такую же расправу за мою (уже) дерзость. Что из того? Я же не истребовал его фамилию, я не написал на него жалобу. Меня хватило только на то, чтоб возмутиться и уйти.
И я бы слишком уж вырвался б из “скалы” своего окружения, если б поступил решительнее. Два других зрителя сцены избиения считали нормой рукоприкладство милиционера; они считали это многообещающей прелюдией к успешному разбору, кто украл плащ (с вешалки столовой украли плащ); а мое заступничество, по их мнению, могло затормозить разбор.
И третьи,- кому я рассказывал этот случай,- удивились на мою чувствительность. Они имели за догму безнаказанность милиции и за догму - донкихотство борьбы с этим.
И это не выдумка - реальная сила той иррациональной скалы окружения: не зря ж через много лет с того времени пришедший к власти Андропов первым делом снял с поста - министра внутренних дел, а спустя еще полгода - выразил недоверие милиции, введя в нее политорганы.
Значит зиждилась же на чем-то безнаказанность!
Она зиждилась на пережитках (и сейчас не изжитых) рабского сознания массы, она зиждилась на низком уровне оценки прав личности в нашей стране в наше время.
Все это достаточно крупные явления и, к тому же, животрепещущие, чтоб заменить мне грандиозность рефеодализации и контрреформации времен Микеланджело, когда я смотрю на репродукцию его “Пробуждающегося раба”.
И хоть все это - нашенское - не всплыло в душе моей, когда я читал, зачем Микеланджело недовырубил раба и зачем тому подобные нюансы,- но голова моя четко отметила: назревавшая контрреформация и рефеодализация - достаточно большие явления, чтоб сумевший их выразить был гением.
А если тут же добавили, что до Микеланджело, оказывается, скульпторы пластически осуществляли или отвлеченные мирные идеи (олицетворения мудрости, плодородия...) или идеи неграндиозные немирные (страдание от боли физической...) и лишь Микеланджело открыл возможность выражения и грандиозных, и отвлеченных, и немирных идей, то моя голова покорена окончательно: кому ж как не гению с руки делать художественные открытия.
Так обстоит с положительным примером понимания через чтение комментариев.
*
А вот негативный пример.
Я читаю (Аникста), почему повывернуты в три погибели фигуры микеланджеловского “Страшного суда”: <<
Искусство позднего Микеланджело (свободное отношение художника к телесным формам модели) выражает потрясение перед таинством грядущей смерти>>.По моим меркам - это ерунда. Вот когда отношение индивида к своей смерти (положим, то же потрясение) символизирует групповое качество, символизирует какой-то отрезок времени в истории индивидуализма,- тогда выражение подобного потрясения - не шутка. А так - ерунда. Люди всегда мерли... И сколько-то там боялись смерти... Не удивишь. Хоть даже и всех это касается - не взволнуешь: когда эмоциональная мысль слишком обща - она не действует.
То ли дело у Рихарда Штрауса или у Чайковского (“Смерть и просветление” и 6-я симфония). У них ужас смерти символизирует ужас личности, ставшей сверхценной для себя, ужас безмерно развившегося индивидуализма. Потому безмерно развившегося, что эгоистический капитализм безмерно развился, плюс религиозное утешение к этому времени потерпело крах от успехов науки.
Вот такая не свехобщность - да - впечатляет мой ум. А вообще страх смерти - нет. Не впечатляет.
(Правду сказать, когда я слушал ту и другую вещи, я плакал, совсем не имея в виду капиталистический эгоизм и крах религиозных утешений, о каковых еще не читал. Однако, зато, я и не считаю, что плача - я глубоко понимал те вещи. Наивнореалистическое восприятие - лишь ступень, но не последняя в ПОНИМАНИИ произведения.)
Если бы мне в словах о “Страшном суде” намекнули, положим, о сверх-, так сказать, гуманизме, дошедшем до степени крайнего индивидуализма, сверхпереоценки жизни... Так нет же. Говорят об
утере возрожденческих идеалов. Маньеризм, мол (а “Страшный суд” это уже начало маньеризма), это страшное разочарование в гуманизме с его девизом “человек - мера всего”.А “сверхгуманизм” ведь это не разочарование в гуманизме...
Если бы слова о “Страшном суде” намекали об ужасе по поводу гибели антропоцентризма... Ну, тогда еще туда-сюда... Правда, я бы тогда придрался, мол, ужас от краха гуманизма это отрицание отрицания гуманизма, т. е. утверждение его, а не разочарование в нем. И значит, мол, Микеланджело поздний - не маньерист.
В общем, не угодил мне Аникст со “Страшным судом”.
*
Если б уж подводить к разочарованию в возрожденческих идеалах гуманизма, то хорошо было б вот такое предложение у Якимовича взять: <<
...Полнота жизни и буйное обилие материально-телесного неодолимо притягивают и вдохновляют художника, но тем не менее вызывают у него некую отрицательную реакцию, впечатление чего-то ущербного, низменного тленного>>.ЗАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ.
Посмотреть репродукцию “Страшного суда”: есть ли там что-нибудь ущербное, низменное и тленное.(Художник в цитате из Якимовича - “барочный”. А по замыслу Аникста должен был бы быть - “маньеристский”. Но я же сопрягаю. Значит, буду кое-что изменять.)
И до смотрения репродукции “Страшного суда” можно поработать над этой темой.
Чем там (по де Санктису) руководствовались средневековые авторы, когда изображали “жизнь после смерти”? - Они стремились запугать чувственным, чувственное представить так, чтоб оно запугивало: <<серные озера, долины, покрытые льдом или бушующим пламенем, бочки с кипятком; пресмыкающиеся, черви; изрыгающие огонь драконы; дьяволы, вооруженные пиками, хлыстами, огненными молотками; гниющие, кишащие червями трупы; скелеты, дрожащие под ледяным дождем>> и т. д. и т. п., в общем, чтоб здесь - до смерти - душа к чувственному не стремилась.
Что ж: истязания плоти, наверно, будут в “Страшном суде” и с такой стороны поздний Микеланджело явится-таки ренегатом Возрождения: если он со страстью рисует мучения плоти, то для того, ясно, чтоб душа не влеклась к плотскому.
*
Если я в “Страшном суде” найду ужас от терзаний плоти, то хорошо. Ибо ужаса от плотских истязаний у Рубенса (по Фромантену) - нет, нет даже в картинах на тему об истязаниях. Рубенс же - барочный художник по Якимовичу, и Аникст его среди маньеристов тоже не упоминает. Здесь все совпадает.
Вот как пишет Фромантен о рубенсовском противоречии темы и впечатления от картины “Шествие на Голгофу”: <<
...Христос изнемогает от усталости; св. Вероника отирает ему лоб; Богоматерь в слезах бросается к нему, протягивая руки; Симон Киренеянин поддерживает крест. Перед нами орудие бесчестья, женщины в трауре и в слезах, приговоренный к смерти, ползущий на коленях, задыхающийся, с влажными висками и блуждающими глазами, внушающий сострадание всем своим видом. Ужас, вопли, смерть, витающая в двух шагах. И тем не менее всякому, имеющему глаза, ясно, что эта пышная кавалькада, этот центурион в латах (в нем легко узнать черты самого Рубенса), откинувшийся на коне с гордым жестом,- все это заставляет забыть о казни и вызывает несомненное представление о триумфе...>>Или вот (“Мученичество св. Ливина”):
<<
Забудьте, что здесь перед вами гнусное и зверское убийство епископа, у которого только что вырвали язык и который истекает кровью и бьется в страшных конвульсиях. Забудьте трех палачей, его истязающих: одного, засунувшего ему в рот окровавленный нож, другого с тяжелыми клещами, протягивающего собакам отвратительный лоскут мяса. Смотрите только на вставшего на дыбы белого коня на фоне светлого неба, на золотую ризу епископа, его белую столу, на собак с черно-белыми пятнами, на два красивых берета, на горящие рыжебородые лица. Смотрите на все это чарующее созвучие серых, лазоревых, светлых и темных серебристых тонов на обширном поле холста, и вы ощутите лишь чувство лучезарной гармонии, быть может, самой поразительной и неожиданной, которая когда-либо служила Рубенсу, чтобы выразить или, если хотите, чтобы заставить простить ему сцену, полную ужаса>>.ЗАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ.
Найти как-нибудь репродукции “Шествия на Голгофу” (инв. № 374; 1636-1637 г., для Аффлигемского аббатства) и “Мученичество св. Ливина” (инв. № 375; 1635 г., исп. для церкви иезуитов в Генте) и посмотреть, действительно ли такое противоречащее теме впечатление. (Я понял, что картины эти в Брюссельском музее.)Впрочем, не удивлюсь, если по репродукциям нельзя будет прочувствовать: цвета не те... Я поискал эти две репродукции рубенсовские, и среди десятка альбомов встретился только один, в котором я сумел оценить знаменитый рубенсовский красный колорит, который тем и знаменит, что вопреки прямо физиологии он не раздражает, не тревожит.
М-да. А в Брюссель мне, конечно, не попасть.
*
Ладно, поверим: у Рубенса - нетревожная тревожность, он - из барокко, у Микеланджело позднего - тревожная тревожность, он - маньерист.
Для характеристики барокко я выбираю у Якимовича следующее:
- мыслители того времени часто заявляли, что не следует смешивать и нельзя противопоставлять веру и научное знание, богословие и философию, что их можно вполне успешно совмещать и быть одновременно добрым католиком и независимым критическим мыслителем, правдивым писателем, искренним художником;
- сочетание интеллектуальной смелости, даже дерзости с самым откровенным конформизмом не казалось предосудительным;
- стремление подвергать все сомнению и критической проверке и неуклонное желание подчиняться законам и обычаям своей страны, соблюдать веру отцов и руководствоваться “
В пику барокко акцент на непокое, на экстазе я бы оставил маньеризму. И противоположности телесного с духовным, низшего с высшим, земного с озарением, индивидуального с общественным, присутствующие и в маньеризме, и в барокко, отличались бы все-таки кое-какими нюансами (по Якимовичу, деформированному мной):
|
маньеризм - непримиримость; - скачок снизу вверх. |
барокко - примирение; - парадоксальное совмещение высокого и низкого. |
Маньеристский художник как бы совсем разочарован, совсем разуверился или, если верит, так во что-то невидимое. А художник барокко как будто уже в сегодняшнем дне знает что-то такое, что делает его веру небеспочвенной, как бы остальная действительность ни подрывала ее.
*
Лучше всего это Якимович доказал (если он
это доказывал) ни на каком не на художнике, а на ученом, на Галилее.Тот открыл (вместе с Джордано Бруно) физическую бесконечность. Это довольно-таки устрашающее явление (по сравнению с уютной средневековой иерархией мирового порядка с его геоцентризмом). И это явилось ледяным душем возрожденческому антропоцентризму.
Но каким бы ничтожным ни предстал в этой системе мира человек с его пылинкой-Землей в бесконечной Вселенной, успехи науки к этому времени уже были столь велики, что считать себя нулем человеку было бы непростительно.
Слова Галилея: <<
Экстенсивно, то есть по сравнению с массой требующих объяснения вещей, число которых бесконечно, человеческий разум равен нулю, если он даже понял тысячу истин... Но если брать разум интенсивно... то я утверждаю, что человеческий разум понимает некоторые истины столь совершенно и сознает их столь безусловно, как это может только сама природа... в тех немногих [истинах], которые постиг человеческий разум, я думаю, его познание по объективной достоверности равно божественному, ибо оно приходит к пониманию их необходимости, а высшей степени достоверности не существует>>.Ловкость Галилея, умеющего парадоксально совмещать противоположные вещи, можно проиллюстрировать на открытом Галилеем принципе относительности покоя и движения.
По Птолемею центр Вселенной - Земля, и все - вращается вокруг нее. По Копернику - центр Вселенной - Солнце, и все - вращается вокруг него. А по Галилею - нет привилегированной системы отсчета для определения, что покоится, а что движется. Покой и движение относительны.
(В этом смысле Пушкин не прав относительно Галилея в своем стихотворении о движении:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
Он Коперника Галилеем подменил.)
Введенное Галилеем понятие инерции явилось той палочкой-выручалочкой, которая позволяет вводить инерциальную систему отсчета, а в ней - упокоить любое движение.
Мне предстоит найти аналогию между рубенсовским нетревожащим красным колоритом и галилеевской инерцией, и тогда я пойму не гнушающееся тревоги примирение барокко (у Рубенса, в частности), как понимаю не гнушающегося бессилием галилеевского божественно сильного человека познающего.
*
Итак, при всей тревожности и барокко, и маньеризма, в барокко все же акцентируется некая успокоенность, а в маньеризме - непокой.
Якимович (я понял так) в маньеризм пропустит лишь послевозрожденческую мистику - порождение конрреформации. А Аникст (в своем обзоре работ подвижников широко понимаемого маньеризма) в маньеризм вводит массу имен, причисляемых Якимовичем к барокко: Сервантес, Рабле, Шекспир!.. Куда бы они ни относились на самом деле, нужно бы каждый случай доказать. Может, это - поможет понять Рубенса.
В “Дон-Кихоте” не чувствуется (из-за трагизма), что Сервантес обладает такой палочкой-выручалочкой, как Галилей.
В “Гаргантюа и Пантагрюэле” чувствуется, что Рабле так все обрыдло, что он, пожалуй, тоже такой палочкой-выручалочкой не обладает.
И Аникст, вроде, прав, относя их к маньеристам. (Относя, с подачи ученых, которых Аникст “обозревает”).
А вот с Шекспиром как? Этот объективный, непредвзятый, отстраненный, как бы бестенденциозный Шекспир - тоже к неуспокоенному маньеризму относится?
Попробую доказать это через... Достоевского.
*
В его “
жестоком таланте испытывать людей по самым глубоким вопросам их отношений к миру” (Бахтин) не засомневается никто. А эта его жестокость происходила от беспощадности к самому себе. Ему было (по Луначарскому) мучительно сладко давать высказываться персонажам, представляющим демократические идеалы, которые он сам предал. Он таки неосознаваемо подыгрывал в своем творчестве против социалистов, но поскольку явное подыгрывание не имело бы никакого смысла, его гений столь же неосознаваемо для него создавал иллюзию незаинтересованности.Что Шекспир “жестоко испытывал” можно (вслед за Выготским) согласиться: <<...всюду она [трагедия] берет человека в пределе>>.
Что и у Шекспира мы видим - в итоге - такую же, как у Достоевского, бестенденциозность - тоже очевидно.
А вот то, что итог этот есть плод разочарования, разочарования в донаучном социализме у Достоевского и разочарования в возрожденческом антропоцентризме,- или, скажем так, в прокапиталистическом индивидуализме,- у Шекспира - это еще требуется доказать для случая с Шекспиром.
Попутно нужно, наверно, на миг остановиться на принципиальной допустимости сведения разочарования разных веков к маньеризму в широком смысле слова.
Аникст с подачи других авторитетов пишет: <<
...В искусствознании и литературоведении имеется концепция маньеризма как периодически повторяющегося художественного метода>>.Одного этого, по-моему, хватает.
А можно привлечь сюда еще и другое. Диалектическое развитие, как известно, происходит по спирали вверх. На каждом следующем витке спирали есть сходство с более “низким” (хотя бы по времени низким) витком. Вот маньеризмы и могут повторяться.
Итак, тревожность маньеризма с якобы бестенденденциозностью сопрягаются через полуосознаваемые попытки оправдать свое ренегатство: я, мол, просто объективен.
А тревожность эта у Достоевского очевидна:
<<
В реализме романов Достоевского есть нечто очень приметное, что отталкивает ясных и гармонических реалистов, начиная с Тургенева: перенапряженный ритм, прерывистое, задыхающееся слово; судорожный, искривленный стиль; необузданные, мечущиеся герои; принцип последовательной дисгармонии; искривленная и вихревая закваска сюжетов; тяжелая внутренняя искаженность личности персонажей>> и т. д. и т. п.Это цитата из профессора Чичерина. И он соотносит Достоевского с “неистовым смятением” микеланджеловского “Страшного суда”...
Так что очень точно отмечены маньеристские свойства Достоевского. (Не беда, что Чичерин для позднего Микеланджело и Достоевского применяет термин “барокко”. Когда понятие “маньеризм” утрясется и отдифференцируется от барокко,- уважаемый профессор уточнит то, что он написал 20 лет тому назад, когда нынешнего понимания маньеризма в СССР еще не существовало.)
В общем, логика такова: 1) Достоевский - маньерист в широком смысле слова, 2) Он бестенденциозен по видимости, 3) Шекспир - тоже бестенденциозен, 4) значит, Шекспир - маньерист.
Другая ветвь логики: 1) Достоевский и Шекспир берут человека в крайностях, 2) Достоевский - маньерист в чем-то, 3) значит, Шекспир - маньерист.
*
Однако главного в маньеризме - изломанности, выкрученности, вымученности - я что-то не припомню у Шекспира. И, кажется, моя память не неправа.
Такой В. Дж. Кирнан, проведший количественный анализ наличия элементов общительности в творчестве Шекспира и в творчестве его современников, образно сравнивает их так: <<
Различие между пьесами Шекспира и пьесами других драматургов - это различие между землей, на которой идет жизнь, с пейзажем, освещенным теплым светом человеческих чувств, и застывшей холодной луной>>.Английские современники Шекспира у Кирнана выглядят гораздо более разочарованными в гуманизме, чем Шекспир.
Они - выглядят маньеристами, а не Шекспир. Они рисуют <<портрет целого поколения, которым овладела меланхолия и вечная тревога>>, Шекспира же публика <<считала “приятным” (sweet)>>.Если Макиавелли считать безусловным возрожденческим деятелем (он жил в 1469 - 1527 годах, а период маньеризма - в обзоре Аникста - это 1520 -1620 годы), то что же такое елизаветинцы, современники Шекспира, если у них <<
самыми типичными отрицательными персонажами являются “макиавеллисты”, холодные, обособленные друг от друга индивидуалисты, которые сталкиваются, как биллиардные шары>>, не влияя на душу друг друга. - Конечно же, елизаветинцы отрицают этот доведенный до своего логического предела гуманизм-антропоцентризм. Елизаветинцы отрицают этот <<взгляд Макиавелли на людей как на существующие особняком, эгоцентрические частицы, абсолютно независимые друг от друга и не интересующиеся друг другом>>. И я понял Кирнана так, что в случае, когда елизаветинцы даже и возвеличивали тип “макиавеллиста”, когда они представляли изолированного человека как стоика, благородную личность, возвышающуюся над обществом, отвергающую его законы, и когда изображали этого “макиавеллиста” создающим иные, более высокие законы для своего ничем не стесненного я - и тогда они лишь якобы возвеличивали этого макиавеллиста, якобы возвеличивали - чтоб развенчать.На фоне таких разочарованных в таком гуманизме елизаветинцев Шекспир - с редкими в его творчестве макиавеллистами (только Яго с человечеством не связывают никакие узы); с его героями, столь жаждущими хотя бы одобрения от других; с его “
клубным духом” (clubbability), один из признаков которого есть богатство юмора; с его персонажами, разговаривающими всегда с неослабевающим интересом друг к другу; с его готовыми любить женщинами; с его страдающими от одиночества трагическими героями; с его монологами, самые лучшие из которых (по Кирнану) подсказаны героям чувствами, которые они питают друг к другу, а не к себе или к безличным абстракциям вроде судьбы, смерти, вечного блаженства, - на фоне противоположно выглядящих елизаветинцев Шекспир кажется обладающим какой-то палочкой-выручалочкой, кажется что-то знающим, что не делает его разочарованным окончательно, Шекспир кажется барочным (с успокоенностью) писателем, а вовсе не маньеристским (тревожным).Может, для объяснения такого казуса с Шекспиром привлечь утверждающую сторону мировоззрения ренегата Достоевского?
*
Этот последний (по Луначарскому), не приемля ни капиталистический, ни социалистически-утопический путь для прогресса России, нашел третий якобы выход - религиозный (с нашей точки зрения - религиозно-утопический). А чтоб не слишком навязчиво этот религиозный путь пропагандировать, Достоевский прятался за якобы бестенденциозностью (второе объяснение бестенденциозности).
Какие утопические залеты можно было бы сыскать у Шекспира?
<<
Шекспиру жизнь... представлялась далеко не в розовом свете. Но о нем,- с гораздо большим основанием, чем о других драматургах,- можно говорить, как об авторе, который стремится рассказать... о семье идеальной, семье, которая может стать и станет таковой (в этом он нас убеждает), когда милые молодые возлюбленные его произведений повзрослеют и начнут своим примером воодушевлять других мужей, жен и родителей... Шекспир неустанно ищет “новый образец” [семьи], и эти поиски уводят его все дальше и дальше в мир вдохновенной фантазии...Шекспир выдвигает в качестве средства для возрождения брака, а вместе с ним и семьи, право молодых мужчин и женщин свободно выбирать себе спутников жизни.
...Свобода, воспеваемая Шекспиром,- это новая мораль, а не отказ от морали. Единожды сделанный выбор окончателен. Разрыв героини с родителями допусти`м, с мужем - нет. То же относится к герою: Троил заявляет, что, сделав выбор, мужчина не должен сожалеть о своем решении. Флоризель обещает Утрате быть “постоянным” (constant): это излюбленное слово Шекспира, воплощающее одно из его важнейших убеждений... В его представлении постоянство отражало ту внутреннюю целостность человека, которая служит основой прочного союза между ним и другими людьми. Именно это качество ценит Гамлет в Горацио и именно этого качества не хватает Крессиде: не веря в себя и в окружающих, она не может оправдать доверия Троила. На этом качестве строится и антитеза искренности и притворства, которую так любит использовать Шекспир, противопоставление того, каков человек в действительности, и того, чем он хотел бы казаться или кажется
>>.Чем не утопия?
И все это - в атмосфере <<
Лондона времен Елизаветы, где каждый день заключались браки по расчету и по принуждению, где на почве социальных бедствий пышным цветом расцвела проституция, где... развращенность аристократии отнюдь не способствовала торжеству романтики>>.Смешно. Когда-то, в молодости, я попробовал спастись от собственной романтичности чтением реалиста Шекспира и чтением о реалисте Шекспире... А оказывается - нерв бестенденциозности Шекспира - в скрываемой тенденциозности, утопичности, нерв реализма - в скрываемом романтизме.
Не зря ли мне тогда ничего не удалось поделать ни с непонятностью Шекспира, ни с собственной романтичностью?..
А теперь,- доберусь ли я до Рубенса, я не знаю,- но, по крайней мере, одну художественную деталь у Шекспира я, кажется, понял, понял по комментариям.
Почему Бенедикт и Беатриче не влюбляются с первого взгляда, что, кстати, вообще редко бывает у Шекспира?
А потому же, почему Шекспир отличается от своих современников, явных маньеристов. У них, современников, <<
любовь - не всегда индивидуализированная личная связь, она предстает не как свободный выбор, а скорее как пережиток царства необходимости, выступающий в новом обличье, как некий каприз или фатальная неизбежность. Эти драматурги прибегают к изображению полового влечения, как это делают писатели, когда не находят иных мотивов для развязывания любовной интриги и сближения своих героев, живущих в обществе, в котором нет более почти ничего, что могло бы сблизить людей. Такую любовь, которая трактуется как некая магическая сила или колдовство, нельзя вплести в ткань реальной жизни. Поэтому в век распада она ощущалась как часть всеобщей иррациональности>>.Шекспир же в своем утопизме гнет против реальности. <<
У Шекспира любовь - социальная сила. Внешнее сближение Беатриче и Бенедикта - результат проделки их друзей; на самом же деле их сближает непреодолимое стремление встать на защиту жертв несправедливости>>.Можно, конечно, и у Шекспира найти случаи капризов любви, но если статистика что-нибудь значит и если Кирнан подсчитал правильно, то это тоже, знаете, не отмахнешься: <<
в его важнейших тридцати шести любовных историях [любовь с первого взгляда] происходит всего лишь раз пять-шесть, и лишь в трех таких случаях любовь взаимна>>.В общем, у Шекспира было из-за чего притворяться бестенденциозным писателем.
*
Но все равно еще остается загвоздка с тем, чтоб причислять Шекспира к таким же маньеристам, что и другие елизаветинцы. Уж больно они разные.
И еще одно.
Видя, что елизаветинцы не приемлют макиавеллистов, и желая проверить возрожденчество, так сказать, самого Макиавелли, я обнаружил не только то, что он - безусловный возрожденец, но и то, что и он - утопист в какой-то мере.
Для Макиавелли было идеалом то, что для тогдашней Италии было утопией: объединение страны, постоянная армия, основанная на всеобщей воинской повинности...
Сам термин “утопия” это ставшее нарицательным название страны с идеальным общественным строем, выдуманной современником Макиавелли англичанином Томасом Мором.
И вообще: как быть с марксоэнгельсовской характеристикой деятелей Высокого Возрождения? Их они называли титанами и совсем не теми людьми, которых называют буржуазно ограниченными. А эта небуржуазноограниченность ведь для феодализма (и даже для первичного капитализма) и есть не что иное как утопизм.
Так как быть с явной небуржуазноограниченностью Шекспира? Он же - если с утопизмом своим - совсем в возрожденцы переходит? Вот тебе и барокко, вот тебе и маньеризм!..
*
Попробую вставить Шекспира в более сложную схему, чем “Возрождение - маньеризм”. Схема эта: раннее Возрождение - Высокое Возрождение - Позднее Возрождение - маньеризм. (Мнение Кожинова и де Санктиса о первых двух фазах полностью совпадают. Это хорошо, ибо я их обоих уважаю...)
В раннем Возрождении происходит мирное внедрение буржуазности в феодальный строй, внедрение на личностном уровне. Такая буржуазность возвещает, главным образом, внутреннюю свободу индивида. Свободу - от религии. К религиозным и моральным (средневековым) догмам - индифферентны. Высоких идей не остается. Место религии и морали (средневековой) занимает культура (противопоставляемая невежеству монахов, священников и простонародья). Таким образом опустошенные культуру, искусство одним словом можно назвать развлекательными.
А Высокое Возрождение - <<
период открытых военных и идеологических битв старого и нового мира>> (Кожинов).ЗАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ.
Посмотреть по каждой стране в отдельности: Испании, Франции, Англии, Италии, Германии,- что это за битвы.Искусство этого времени обращается теперь к высшим проявлениям борьбы. Оно становится героическим. Нужны становятся титаны. И в борьбе титаны эти перехлестывают не только через феодализм, но и дальше: <<Эпоха [Высокого] Возрождения была не только временем борьбы против феодального мира>>, она <<субъективно ставила себе вовсе не задачу установления власти буржуазии, а цель полного освобождения Человека>>.
Вот откуда - Макиавелли, чуть не поднявшийся до осознания того, что историей движет классовая борьба. Вот откуда - Томас Мор - первый в мире социалистический утопист.
Художественное сознание того времени не отставало. Оно породило образы титанических людей, верящих в свое всесилие. Вот он - Антропоцентризм, эта величайшая историческая иллюзия. Чтоб теперь утопизм Шекспира сюда вставить, нужно воспользоваться известным членением его творчества на периоды.
*
Шекспир до 1600 года пусть будет возрожденческим титаном. Тот факт, что он соседствует с уже разочаровавшимися в возрожденческом антропоцентризме (индивидуализме) другими елизаветинцами, пусть объясняется словосочетанием “Позднее Возрождение”. Там, мол, перемешаны разочарование и тем больший героизм, чем больше соседей уже разочаровано. (Вот “Пробуждающегося раба” можно к такому же разочаровано-героическому периоду отнести.) Это согласуется с аникстовским обзором: <<
Дворжак видит с творчестве Микеланджело следующие стадии: раннюю, когда художник стремился к воспроизведению индивидуальных телесных форм, моделируя их в античном духе; вторую, когда мастер достигает необыкновенной мощи человеческих образов, приобретающих у него титанический характер; для третьей стадии, ознаменовавшейся созданием “Страшного суда”, типично свободное отношение художника к телесным формам модели>>. Как раз ко второй стадии - “Пробуждающегося раба” и отнесем.)Так. А у Шекспира вторая стадия будет то, что у Микеланджело третья. Бенедикт и Беатриче, значит вышли из-под пера все-таки не маньериста, а возрожденца.
“Ромео и Джульетту” можно (как некий Дубашинский) отнести к <<
прологу трагедии>>, к перелому в душе Шекспира от героического оптимизма к трагизму, к разочарованию.*
К ренегатству, правда, трудно его подвести. Но, может быть, и можно.
Если, судя по одобрительным словам Энгельса, Карлу Каутскому удалось показать, как даже учение социалиста-утописта Томаса Мора <<
в своем дальнейшем развитии превратилось в католический иезуитизм>>, то неужели утописта Шекспира нельзя как-то подвести к маньеристскому ренегатству гуманизма?ЗАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ. Попробовать через МБА достать: К. Каутский. “Т. Мор и его утопия”. М., 1924 - или хотя бы достать стр. 80-84 этой книги и посмотреть, как это получается с иезуитизмом. Может, это не именно моровская утопия, а шире - первая форма буржуазного просвещения - превратилась в иезуитизм?
Ну, а пока... Шекспировская проповедь постоянства (в любви, по крайней мере) есть, по-моему, ничуть принудиловка не хуже, чем моровское самоограничение утопийцев в жилище и в платье...
Еще вернусь к “прологу трагедии”.
*
“Ромео и Джульетта” - апофеоз романтической любви. Это - инерция героического Высокого Возрождения, инерция первого периода шекспировского творчества. Но! Перелом уже начался. И он не в том, что романтическая любовь представлена трагичной. В трагичности - еще героизм дает себя знать (герои погибли, но идея торжествует в душах зрителей). А перелом в том, я рискую подумать,
как у Шекспира на этот раз романтическая любовь возникла. Возникла же она не так, как всегда, не так, как чаще всего в его пьесах, а так, как это организовывалось другими елизаветинцами, <<как некая магическая сила или колдовство, которое нельзя вплести в ткань реальной жизни>> - с первого взгляда возникла любовь Ромео и Джульетты.Если такое объяснение этой детали я когда-нибудь еще у кого-нибудь встречу, то не пожалею, что тратил время на эти свои разыскания, пусть они не дадут мне понимания ни одной, кроме этой вот, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ.
Я вспоминаю такой экспонат из своей коллекции истолкований подобных деталей... Зачем Булгаков в “Мастере и Маргарите” применил такой сюжетный ход зарождения любви: с первого взгляда, “как только в романах бывает
”? (“Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!”) - А затем так сделал Булгаков, что <<Если существует закон будущей справедливости - это утешительно. Но утешительность этой веры в будущее не заглушает бед и тревог настоящего. И пока справедливость не пришла, пока не настал ее срок, что может поддержать уставшего, ослабевшего мастера? Вера в важность своего труда. Внутренняя стойкость. И верность, любовь хотя бы немногих, хотя бы ее одной, Маргариты, которая поможет поверить, что ты живешь не напрасно, утешит и охранит в минуту смятения и растерянности. И любовь является к мастеру как неожиданный дар судьбы, спасение от холодного одиночества. Пусть личная литературная судьба Булгакова [он ведь прототип мастера] не сулила ему утешений [хорошо, что он вообще не вошел в число убитых при культе личности без вины]. Но за своим столом он был создателем подвластного ему мира, демиургом своей действительности. Писатель веровал в несомненное торжество справедливости, в том числе и по отношению к себе, к своему творчеству. Он знал, что рано или поздно настоящее искусство всегда завоевывало себе признание. Рано или поздно... Но каждому хочется, чтобы это случилось раньше и, во всяком случае, при его жизни. Булгаков подгоняет время, торопит справедливость, которая должна восторжествовать на этот раз немедленно...>> Вот и явилась мастеру любовь с первого взгляда.Разве не перекликается булгаковская надломленность со зреющим шекспировским переломом, разве это не перекликается с шекспировской с-первого-взгляда любовью Ромео и Джульетты? Разве не перекликаются Лакшин (автор процитированного разбора булгаковского шедевра) с разбирающим елизаветинцев Кирнаном? И разве не так - путем усвоения, через
свою современность - начинают понимать произведения давным-давно минувших лет?Так неужели лед тронулся? Неужели
что-то у маньеристов я уже понял.Стоп. “Ромео и Джульетта” еще только переход к маньеризму.
Значит, вперед. Смелее.
*
Некий Шведов в предисловии к сборнику статей о Шекспире, вышедшем к 400-летию последнего, соглашается с одним из авторов сборника, Арнольдом Кеттлом (марксистом, между прочим), что победа, которую одерживает Гамлет, имеет лишь частичный характер, что Гамлет-гуманист вынужден в последнем акте капитулировать перед Гамлетом-принцем, что Гамлет побежден историей. Значит, вывожу, гуманизм побежден историей в показе Шекспира. А это ли не разочарование автора?
Когда герой трагедии гибнет - принято считать - дух зрителя возвышается: зритель как бы заражается установкой продолжить дело героя.
Гамлет прицеливался ни много ни мало, а исправить целый век, который “расшатался”... Так что? Раз он не сделал этого, значит, идея этого исправления победила в наших душах?
Но ведь Гамлет-то ради исправления века как раз ничего-то и не делает. Медлить из-за такой сверхтитанической задачи - да - он медлит. Но делать-то не делает!!
Как же зритель заразится установкой исправить век, если сам трагический герой этим не занимался, пока был жив?
Кеттл пишет об отказе Гамлета в 5-м действии от философского идеализма, о полном поражении Гамлета-гуманиста, но в этом поражении,- пишет Кеттл,- <<
В нем и признание необходимости действовать в реальном мире; а это - великая победа человека>>.Победа-то, действительно, великая: необходимость действовать. Но откуда она вытекает? Откуда в поражении - <<
признание необходимости действовать>>? По-моему, это просто логическая чушь.Он, кажется, просто мелкого полета марксист, этот Кеттл. Он знает, что Маркс и Энгельс назвал возрожденцев титанами, плюс Шекспира всех периодов (до появления концепции большого маньеризма, ровни Возрождению) считали возрожденцем. Вот вследствие всего этого Кеттл и не рискнул отлучить - кого? - Шекспира! - да еще Шекспира времени написания им вершинных своих произведений (великих 4-х трагедий), - не рискнул Кеттл отлучить Шекспира от титанизма возрожденцев, преследующих цель, бо`льшую, чем победа феодализма буржуазией, преследующих цель полного освобождения Человека. Кеттлу настолько дорог утопизм Шекспира, что даже написав слова <<
отказ от философского идеализма>>, он тут же делает эквилибристический трюк и из этого отказа делает вывод: <<но в нем и признание необходимости действовать в реальном мире>>.(Техника этого циркового номера такова. Сперва
<<отказ>>,- а отказ же дело вольное,- заменяется в следующем предложении словом <<поражение>>. Поражение же ассоциируется с борьбой. И после возбуждения этой ассоциации вводится то ли от имени Шекспира, то ли от имени зрителей - <<признание необходимости действовать>>. Открывается дорога так понять: зритель, мол, заразился борьбой и подхватывает у “пораженного” героя его знамя.)И у меня мелькнула мысль (а я ж исповедуюсь, вроде,- исповедуюсь в том, как я подхожу к ПОНИМАНИЮ произведения - так что ничего скрывать нельзя), ну вот, у меня возникла мысль, что будь Кеттл более мужественным человеком, он бы не побоялся в отказе Гамлета от философского идеализма увидеть в авторе “Гамлета” ренегата гуманизма. Не побоялся бы.
Ибо нет гуманизма вообще, который будет-де ущемлен, если его лишить такой вершины, как “Гамлет”. Нет непрерывной гуманистической линии в истории.
(Этак и булгаковского закона будущей справедливости нет, и, не дай Бог, вообще никаких законов истории нет. А ведь без законов разве получится развитие. Развитие ж, если посмотреть из настоящего назад, идет так, как будто в прошлом История знала цель своего движения: настоящее.
Или можно “спасти” закономерность исторического развития: просто булгаковский закон “рукописи не горят” исключить из числа исторических законов.
Сколько было крахов цивилизаций; в древнем мире, например, сколько там рукописей сгорело. Разве не горит тут огнем булгаковский закон, и разве не потеряли мы навсегда что-то бесценное во всех тех катастрофах.
И гуманизм,- если все движется по диалектической спирали,- должен время от времени отступать, и это не должно быть ущемлением прогресса по большому счету; не должно мешать, а наоборот, помогает своеобразно. Развитию, идее Гуманизма, который возродится где-то на следующем витке спирали
...)Тут я, кажется, готов уже отступить от выведенного для себя тезиса, мол, все великие художники прошлого, поскольку они привержены гармонии эстетической, являются прокоммунистами, ибо коммунизм - царство всяческой гармонии.
Ладно. Готов так готов. Значит, я честен. Если действительно подтвердится антигуманизм великих трагедий Шекспира, подумаем еще, как быть с прокоммунистами всех прошлых времен.
*
А сейчас нужно проверить, есть ли в “Гамлете” вообще это философский идеализм, от которого главный герой якобы отказывается. А то, может, это выдумка Кеттла, я же поймал его на нелогичности и выстроил карточный домик сверхдалеких выводов.
Кеттл пишет о 5-м действии: <<
Гамлет, принц, который хотел стать человеком, снова становится принцем и совершает то, что обязан сделать принц XVI века,- умерщвляет убийцу своего отца, прощает глупого красавца Лаэрта, впервые проявляет прямую заботу о праве на трон...>>Выготский замечательно доказывает, что не только в 4-х действиях, но и в пятом Гамлет не был принцем. Посмотрим уж, заодно, как Выговский это доказывает на материале всех пяти действий и даже более чем пяти:
<<
Толстой прав, когда начинает свое рассмотрение со сравнения саги о Гамлете с трагедией Шекспира. “В легенде личность Гамлета вполне понятна: он возмущен делом дяди и матери, хочет отомстить им, но боится, чтобы дядя не убил его так же, как отца, и для этого притворяется сумасшедшим...” Толстой рассуждает так: в легенде все понятно, в “Гамлете” все неразумно - следовательно, Шекспир испортил легенду.Гораздо правильнее был бы как раз обратный ход мысли. В легенде все логично и понятно, Шекспир имел, следовательно, в своих руках уже готовые возможности логической и психологической мотивировки, и если он этот материал обработал в своей трагедии так, что опустил все эти очевидные скрепы, которыми поддерживается легенда, то, вероятно, у него был в этом особенный смысл
>>.Мы это запомним на будущее. А пока отметим только одно: мотив мщения Шекспир опустил. И чтоб не быть голословным Выговский подробнейше доказывает это опущение.
<<
Сейчас же после разоблачения тайны, когда Гамлет узнает о том, что на него возложен долг мщения, он говорит, что он полетит к мщению на крыльях быстрых, как помыслы любви...>>Но...
<<
Уже в конце того же действия он восклицает под невыносимой тяжестью обрушившегося на него открытия, что время вышло из пазов и что он рожден на роковой подвиг>>.Это уже нечто большее, чем месть за отца.
Далее.
В монологе после разговора с приехавшими актерами <<
замечательно то, что Гамлет сам не может понять причины своей медлительности>>, ибо <<он знает, что он не трус>>.Значит - отступление от легенды. Мщения нет не из-за трусости. А отчего же?
<<
Здесь же дана первая мотивировка оттягивания убийства. Мотивировка та, что, может быть, слова тени не заслуживают доверия... Гамлет затевает свою знаменитую “мышеловку”, и у него не остается больше никаких сомнений...Убийство назрело и Гамлет боится, как бы он не поднял меч на мать, и, что самое замечательное, вслед за этим идет сейчас же другая сцена - молитва короля. Гамлет входит, вынимает меч, становится сзади - он может его сейчас убить... Но Гамлет... влагает меч в ножны и дает совершенно новую мотивировку своей медлительности. Он не хочет погубить короля, когда тот молится, в минуту раскаяния
>>.В следующей сцене он убивает Полония, думая, что это король, и эту сцену <<
очень согласно почти все критики считают доказательством бесцельного, необдуманного, непланомерного образа действий Гамлета...>>А это, замечу, очень объяснимо тем, что мотив мщения у Гамлета где-то на десятом месте.
<<
Нигде в трагедии, ни раньше, ни после, нет больше того нового условия для убийства, которое Гамлет себе ставит: убить непременно в грехе, так, чтобы погубить короля и за могилой>>.Это просто самооправдание, ибо на уме у Гамлета другое. Не твердить же Шекспиру в каждой сцене, что Гамлету надлежит вправить вывихнутый век. Сказал раз - и хватит. Дальше идет показ того, как он целился на эту титаническую задачу, показ от противного: как он хандрит от того, как он сам себя обманывает, почему оттягивается месть.
<<
...он не оказывает никакого сопротивления, когда его отправляют в Англию, и в момент после сцены с Фортинбрасом сравнивает себя с этим отважным вождем и опять упрекает себя в безволии>>.А по-моему, не “
опять”, а новое обоснование - безволие.Гамлет как человек вполне мог не знать того психологического закона, что длительное колебание перед особо важным делом это признак волевого человека, а не безвольного. И наоборот, быстрота решения в важном деле есть признак слабой воли.
Враги же перед Гамлетом - совсем не сильные в личном плане.
<<“
Гамлет ведет титаническую борьбу - с этим можно согласиться, если исходить из характера самого Гамлета. Допустим, что в нем действительно заключены большие силы. Но с кем ведет он эту борьбу, против кого она направлена, в чем выражается? И как только вы поставите этот вопрос, вы сейчас же обнаружите ничтожество противников Гамлета, ничтожество удерживающих его от убийства причин... В самом деле... кроля спасает молитва, но разве есть указания в трагедии на то, что Гамлет является человеком глубоко религиозным и что эта причина принадлежит к душевным движениям большой силы?.. Наконец, как ни... случайна, эпизодична, ограничена всякий раз местным смыслом та борьба, которую он ведет,- большей частью это парирование направленных на него ударов, но не нападение. И убийство Гильденстерна и все прочее есть только самозащита, и, конечно же, мы не можем назвать титанической борьбой такую самозащиту человека”.>>Итак, убить короля было легко, и колебался, естественно предположить, Гамлет не из-за трудности этого дела, а из-за трудности другого дела.
После возвращения с корабля, что вез его в Англию, <<
мы застаем Гамлета дальше на кладбище, затем во время разговора с Горацио, наконец, во время поединка, и уже до самого конца пьесы нет ни одного упоминания о мести...И до самого конца поединка у него нет мысли о мести, и, что самое замечательное, сама катастрофа происходит так, что она кажется нам подстегнутой совершенно для другой линии интриги; Гамлет не убивает короля во исполнение основного завета тени, зритель раньше узнает, что Гамлет умер, что яд в его крови, что в нем нет жизни и на полчаса; и только после этого, уже стоя в могиле, уже безжизненный, уже во власти смерти, он убивает короля.
Самая сцена построена таким образом, что не оставляет ни малейшего сомнения в том, что Гамлет убивает короля за его последние злодеяния, за то, что отравил королеву, за то, что убил Лаэрта и его - Гамлета. Об отце нет ни слова, зритель как бы забыл о нем вовсе. Эту развязку “Гамлета” все считают совершенно удивительной и непонятной, и почти все критики соглашаются в том, что даже это убийство все же оставляет впечатление невыполненного долга или долга, выполненного совершенно случайно
>>.И еще:
<<
Убийство короля происходит среди всеобщей свалки, это только одна из четырех смертей, все они вспыхивают внезапно, как смерч; за минуту до этого зритель не ожидает этих событий, и ближайшие мотивы, определившие собой убийство короля, настолько очевидно заложены в последней сцене, что зритель забывает о том, что он наконец достиг той точки, к которой все время вела его трагедия и никак не могла довести... Нигде ни одного упоминания об отце, везде все причины упираются в происшествия последней сцены>>.Блестяще, я думаю, доказано, если не отсутствие, то хотя бы затушевывание Шекспиром мотива мести.
*
Тут я хочу поклевать моего любимого Выготского.
Весь блеск, пафос, доказательность он направил на выявление затушевывания мести для того, чтоб отождествить это затушевывание с сюжетом. Сюжет же борется, мол, с фабулой: местью.
<<
Задача сюжета заключается как бы в том, чтобы отклонить фабулу от прямого пути, заставить ее пойти кривыми путями, и, может быть, здесь, в самой этой кривизне развития действия, мы найдем те нужные для трагедии сцепления фактов, ради которых пьеса описывает свою кривую орбиту>>.То есть нечего присочинять ни титаническую борьбу, ни, наоборот, безволие Гамлета, а для меня главное в том, что нечего, мол, присочинять прицеливание Гамлета на то, чтоб исправить целый век,- нечего.
Все-де у Шекспира гораздо проще. Все - для того, мол, чтоб искривить сюжетом фабулу; все для того, чтоб подразнить зрителя, подергать ему нервы: зритель ждет-ждет, когда же совершится мщение, а мщение все оттягивается. И когда зритель уже теряет всяческую надежду, когда Гамлет уже убит, тогда-то, уже из могилы, Гамлет и осуществляет, наконец-таки, свое мщение. Зритель переводит дух и хвалит мастерство Шекспира: здо`рово поводил меня - зрителя - за нос.
По-моему, Выготский здесь сбивается на чистейший формализм.
И несколькими страницами ранее этого вот сбивания он же сам буквально разгромил нескольких авторов за точно такой же формализм.
Вот выборки:
<<
Надо еще показать психологическое значение... приема [будем, давайте, иметь в виду прием отклонения сюжета от фабулы]... Задача будет заключаться в том, чтобы, установив техническую необходимость какого-нибудь приема [необходимость дразнения чувств с помощью отклонения сюжета от фабулы], понять вместе с тем и его эстетическую целесообразность [а я думаю - и идейную целесообразность тоже]. Иначе вместе с Брандесом нам прийдется заключить, что техника всецело владеет поэтом, а не поэт техникой, и что Гамлет медлит четыре акта потому, что пьесы писались в пяти, а не в одном акте, и мы никогда не сумеем понять, почему одна и та же техника, которая совершенно одинаково давила на Шекспира и на других писателей, создала одну эстетику [идею] в трагедии Шекспира и другую в трагедиях его современников; и даже больше того, почему одна и та же техника совершенно разным образом заставляла Шекспира компоновать “Отелло”, “Лира”, “Макбета” и “Гамлета”. Очевидно, даже в пределах, отводимых поэту его техникой, за ним остается еще все же творческая свобода композиции. Такой же недостаток ничего не объясняющих открытий находим мы и в тех предпосылках объяснить “Гамлета”, исходя из требований художественной формы, которые тоже устанавливают совершенно верные законы, необходимые для понимания трагедии, но совершенно недостаточные для ее объяснения. [Я предлагаю не различать здесь технику и законы художественной формы. Пусть и под законами художественной формы мы будем подразумевать все тот же закон отклонения сюжета от фабулы.] Вот как мимоходом говорит Эйхенбаум о Гамлете: “На самом деле - не потому задерживается трагедия, что... надо разработать психологию медлительности, а как раз наоборот - потому... медлит, что трагедию надо задержать, а задержание это скрыть... Недаром существуют прямо противоположные толкования Гамлета как личности - и все по-своему правы, потому что все одинаково ошибаются... Гамлет дан в двух необходимых для разработки трагической формы аспектах - как сила движущая и как сила задерживающая. Вместо простого движения вперед по сюжетной схеме [по фабуле - в терминологии Выготского] - нечто вроде танца с движениями сложными [сюжет - по той же терминологии Выготского того же]. С психологической точки зрения - почти противоречие... Совершенно верно - потому что психология служит только мотивировкой: герой кажется личностью, а на самом деле - он маска.Шекспир ввел в трагедию призрак отца и сделал Гамлета философом - мотивировка движения и задержания...
”Здесь возникает целый ряд недоумений. Согласимся с Эйхенбаумом, что для разработки художественной формы действительно необходимо, чтобы герой одновременно развивал и задерживал действие. Что объяснит нам это в “Гамлете”?.. Допустим, что психология героя является только иллюзией зрителя и вводится автором как мотивировка [
здесь - задержания]. Но спрашивается, совершенно ли безразлична для трагедии та мотивировка, которую выбирает автор [а, похоже, он выбрал мотивом задержания дело несколько потруднее простого убийства, он выбрал мотивом задержания вправить вывихнутый век]? Случайна ли она [мотивировка]? Сама по себе говорит она что-нибудь или действие трагических законов совершенно одинаково, в какой бы мотивировке, в какой бы конкретной форме они не проявлялись?Так, формализм, который начал с необычайного внимания к конкретной форме, выродился в чистейшую формалистику
>>.Вот какая длинная цитата. Но Выготский это такой мед, что раз пригубив (процитировав) - невозможно оторваться. И, увы, парадокс в том, что мой любимый Выготский сам впал в такой же формализм!
Кто я такой? Как я смею говорить хоть слово против “
выдающегося ученого”, “крупнейшего советского психолога 30-х годов”, одного из тех, кто марксистской сделал психологию - как я могу с ним спорить?- Так спросил я себя, задумался и вот как могу ответить.И в предисловии (знаменитого Леонтьева) к “Психологии искусства” Выготского - написано, что книга Выготского - страстная.
Он увлекался - Выготский.
Например, с такой же яркостью, как он доказал отсутствие мотива мести почти во всем сюжете “Гамлета”,- он доказывает и выделенность смерти Клавдия из всех других смертей. Все, мол, смерти, кроме Клавдиевой, затушеваны:
<<королева умирает, и сейчас же об этом никто не упоминает больше, Гамлет только прощается с ней: “Прощай, несчастная королева”. Так же точно смерть Гамлета как-то затенена, погашена. Опять сейчас после упоминания о Гамлетовой смерти о ней непосредственно ничего больше не говорится. Незаметно умирает и Лаэрт, и, что самое важное, перед смертью он обменивается прощением с Гамлетом... [это] самым наглядным образом показывает нам, что [сцена прощения] нужна только для того, чтобы погасить впечатление от этих смертей и на этом фоне опять выделить смерть короля. Выделена эта смерть... при помощи совершенно исключительного приема, которому трудно указать равный в какой-нибудь трагедии... Гамлет... дважды убивает короля - сперва отравленным острием шпаги, затем заставляет его выпить яд... мы приходим к конечной точке - к убийству короля, которого мы ожидали все время, начиная с первого акта>>.Эта выделенность - завершение и сюжета и фабулы. В последней же - мотивом является месть. Остается впечатление, что Выготский впал в противоречие: то доказывает, что мести нет, то - что есть.
А он, Выготский, возможно, и не слишком следил за впечатлением. Он, может, и не особенно и редактировал книгу. Какие абзацы у него чудовищные. Он, может, не готовил ее к изданию. Не издал же он ее при жизни. Пролежала же она при его жизни девять лет!
Кроме того, его исследование - психологическое, а не литературоведческое. Весь пафос его был направлен на вскрытие психологического механизма воздействия произведения искусства. Ему это замечательно удалось. Одним словом если выразить эту удачу - этим словом будет “противочувствие”.
Отклонение сюжета от фабулы тоже сведено им к противочувствию. И он удовлетворился. Он психолог. А не литературовед.
Вот и получилась логическая подсечка самого себя
.*
Поэтому я считаю, что имею полное право выводить из затушевывания мотива мести - мотив примеривания “вправить вывихнутый век”. А из-за этого второго - замедления в трагедии.
А выделенность убийства короля... Она уж очень хитроумная - эта выделенность. Сама ее хитроумность, может быть, обозначает как раз то, что не в убийстве-то короля решение проблемы века, что не Клавдий есть корень зла.
Рыба гниет с головы. Но если отсечь голову - рыба все равно будет гнить, если есть условия для гниения.
В Англии на стыке XVI и XVII веков -
были условия для морального гниения массы людей (гниение вызвал антропоцентризм с маленькой буквы - индивидуализм буржуазный). Поэтому, если отсечение головы и нужно было выделить, ибо это голова все-таки, то выделение это не должно было давать впечатление решения проблемы - рыба и без головы бы протухла.Вообще, к комментарию Выготского я обратился потому, что он у меня создал впечатление человека, который хочет судить о “Гамлете” по тому, что
там написано, а не по тому, что об этой трагедии написали или думают.И я нашел у него достаточно доказательств затушевывания мести, а следовательно, столько же достаточно доказательств объяснения медлительности чем-то бо`льшим, чем месть. То есть, уточнив слова Кеттла, преобладание Гамлета-непринца над Гамлетом-принцем и наличие у Гамлета какого-то философского идеализма - можно принять.
*
И я подумал, что уже достаточно подготовил себя, чтоб рискнуть самолично попробовать прочувствовать произведение маньериста, когда-то оставившее меня равнодушным.
И вот, принялся перечитывать “Гамлета”.
Но, увы, был им взволнован лишь на одну пятую.
Лишь первое действие из пяти произвело на меня впечатление, лишь сцены с призраком вызвали у меня холод в спине. А в общем... Я не ощутил особой медлительности Гамлета, мне не показался так уж затушеванным мотив мести, у меня совсем не возникали ассоциации с моей современностью, мне показалось, что пьеса довольно-таки нудно затянута, а главное, язык - высокопарный, по-восточному цветистый, ненатуральный, зачастую непонятный из-за строфического строения, а иногда непонятный даже в прозе, причем не только там, где Гамлет притворяется безумным. - Это не дело, когда приходится читать и перечитывать, чтоб понять.
Для меня давно уже не секрет, что весь Шекспир мне не по вкусу из-за условного, как выразился Кожинов, языка (потому и Шиллер не нравится, и с Данте, боюсь, будет тот же эффект). Не знаю, как нужно себя настраивать, чтоб эта условность языка не мешала воспринимать все остальное.
*
Однако в 1-м действии “Гамлета” речь идет о таких непостижимых вещах, о таком ужасе непознаваемом, что даже у меня мороз по спине продирал, и сама высокопарность речи казалась, теперь, мне, подходящей. Особенно для речей Призрака.
Я дух, я твой отец.
Приговоренный по ночам скитаться,
А днем томиться посреди огня,
Пока грехи моей земной природы
Не выжгутся дотла. Когда б не тайна
Моей темницы, я бы мог поведать
Такую повесть, что малейший звук
Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей,
Глаза, как звезды, вырвал из орбит,
Разъял твои заплетшиеся кудри
И каждый волос водрузил стоймя,
Как иглы на взъяренном дикобразе;
Но вечное должно быть недоступно
Плотским ушам.
А как он смачно в своей высокопарности ругается:
Меня, чья благородная любовь
Шла неизменно об руку с обетом,
Мной данным при венчанье, променять
На жалкое творенье, чьи дары
Убоги пред моими!
Но как вовек не дрогнет добродетель,
Хотя бы грех ей льстил в обличье рая,
Так похоть, будь с ней ангел лучезарный,
Пресытится и на небесном ложе,
Тоскуя по отбросам.
Это - образцы наиболее цветистой речи, и они как-то понятны. Такие необычности... Намек на адские муки... намек на акты необыкновенной любви и, наоборот, необыкновенного разврата...
Важничающую повадку узурпатора Клавдия (когда он впервые появляется на сцене) тоже можно вполне принять: речь идет об интересах целого государства:
...юный Фортинбрас,
Ценя нас невысоко или мысля,
Что с той поры, как опочил наш брат,
Пришло в упадок наше королевство,
Вступил в союз с мечтой самолюбивой
И неустанно требует от нас
Возврата тех земель, что в обладанье
Законно принял от его отца
Наш достославный брат.
Это называние себя во множественном числе...
Даже обоснование Клавдием своей свадьбы с королевой-вдовой вскоре после смерти ее мужа выглядит как забота о порядке в государстве: король умер - да здравствует король!..
Смерть нашего возлюбленного брата
Еще свежа, и подобает нам
Несть боль в сердцах и всей державе нашей
Нахмуриться одним челом печали,
Однако разум поборол природу,
И, с мудрой скорбью помня об умершем,
Мы помышляем также о себе.
Поэтому сестру и королеву,
Наследницу воинственной страны,
Мы, как бы с омраченным торжеством -
Одним смеясь, другим кручинясь оком,
Грустя на свадьбе, веселясь над гробом,
Уравновесив радость и унынье,-
В супруги взяли, в этом опираясь
На вашу мудрость...
(Последние слова - обращение к государственным сановникам.)
Благо и надежность государства тем более приходят на ум, что незадолго архисерьезный Горацио объяснил военные приготовления Дании точно так, как Клавдий.
Все это так вели`ко, что не кажется неоправдано возвышенным даже язык солдат и офицеров, разговаривающих о призраке.
Марцелл
И так он дважды в этот мертвый час
Прошел при нашей страже грозным шагом.
Горацио
Что в точности подумать, я не знаю;
Но вообще я в этом вижу знак
Каких-то странных смут для государства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Беркардо
...Вот почему и этот вещий призрак
В доспехах бродит, схожий с королем,
Который подал повод к этим войнам.
Темы все такие огромные и окрашены таинственностью разнообразной: политической и религиозной... Ясно, что я оцепенел при таких словах молодого Гамлета, узнавшего о появлении призрака, Гамлета старшего:
Дух Гамлета в оружье! Дело плохо;
Здесь что-то кроется...
Все это - не отзвук ли готики, предшественницы Возрождения. Это все - не готические ли штрихи: масштабность, возвышенность, ощущение грандиозности?..
*
Не в такой тональности описывали явление призраков художники Возрождения.
Например, Боккаччо. “Декамерон”.
<<
...Итак, один приятель оказался удачливее в любви, нежели другой, однако ж Тингоччо, обнаружив во владениях кумы благодарную почву, столь ретиво принялся на ней трудиться и вскапывать ее, что, переусердствовав, опасно заболел и, не перенеся этого недуга, спустя несколько дней ушел от жизни. А на третий день после смерти,- раньше, очевидно, было нельзя,- он по обещанию явился Меуччо ночью и, хотя тот крепко спал, разбудил его.“Кто это?”- проснувшись, спросил Меуччо.
“Тингоччо,- ответил призрак,- я пришел к тебе, как обещал, рассказать про тот свет”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Меуччо... спросил: “Да, хорошо, что я вспомнил! Послушай, Тингоччо: какое тебе дали наказание за то, что ты на этом свете жил со своей кумой?”
Тингоччо же ему на это ответил так: “Друг мой! Когда я туда попал, оказалось, что некто, находящийся там, знает все мои грехи... Я вспомнил,
что я проделывал с кумою, и, ожидая за это еще более строгого наказания, задрожал от страха, несмотря на то, что весь был объят жарким и неугасимым пламенем. Заметив мое состояние, он спросил: “Тебя палит огонь, а ты дрожишь...” - “О друг мой! воскликнул я.- Я страшусь наказания за совершенный мною великий грех”. Тогда тот спросил меня, какой же это грех. “А вот какой,- отвечал я,- я баловался со своей кумой, и до того добаловался, что в конце концов доконал себя”. Тот расхохотался. “Ах ты дурачина!- сказал он.- Чего ты боишься? Кумы в счет здесь не идут”.”>>Вот: Призрак и призрак. Гертруда - и кума. Отвергаемые Богом, Призраком, Гамлетом да и Шекспиром (но влекущие королеву) “отбросы ложа” - и
“что я проделывал с кумою”, за которое всеведущий не наказывает, кума благодарна, Тингоччо - жизнь отдал, рассказчик - потворствует да и Боккаччо - тоже.*
Как тут не вспомнить противопоставления де Санктиса:
|
Возвышенность души и инвективы против упадка нравов; возвышенные чувства, связанные с общественной жизнью и религией. |
Бездумная веселость и жизнерадостность, сосредоточение на частной жизни; равнодушие к вопросам морали. | |
|
Человек живет как “не от мира сего”. |
Человек наслаждается жизнью, смакует ее. | |
|
Трансцедентность. |
Натурализм. | |
|
Беспокойство, трагедия. |
Спокойствие, идиллия. | |
|
Одержимость. |
Несерьезность, потеха. |
Но первое кругом у де Санктиса относится к средневековью...
Возвышенность души - это возвышенность души, поднимающейся над обычными границами реальной жизни.
Трансцедентность - это стремление встать над человеком, над природой, вне природы и человека и цель жизни выносить за пределы реального мира.
Беспокойство - это постоянное стремление к потустороннему, отсутствие надежды когда-либо приблизиться к нему.
Одержимость - чувствовать себя лишь гостем на Земле, отчего горящий неистребимым желанием взор человека устремлен ввысь.
И пусть не буквально по-средневековому, но разве не кажется, что Шекспир в “Гамлете” ведет по какому-то параллельному направлению.
*
Пускай меня не волновал весь “Гамлет” целиком, но зато я могу теперь, имея в виду разочарование маньеризма в Возрождении и проготическое его ренегатство,- я могу теперь передумать и перечувствовать произведения
моих современников, в СССР - разочаровавшихся... как Шекспир - в Англии и его Гамлет - в Дании. О разочаровании теперь надо судить, как о крайнем: когда жить не хочется.Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
Молчаливые: Вера, Надежда, Любовь...
Что если лирический герой этой песни Окуджавы не просто болен и умирает, а еще и не хочет жить? Потому не хочет, что растерял он всю свою веру, надежду, любовь, а без них - жить не хочет...
Окуджава - мудрец: музыка - самое сильнодействующее искусство. Траурный заряд этой его песни (лично мне, например) почти безотказно передается в почти любой обстановке, стоит лишь мне ее мысленно услышать... и даже без слов...
Что если я теперь, наоборот: под эту звучащую в памяти окуджавскую отходную стану перечитывать “Гамлета”... Не подряд... Кусками... Ведь если Шекспир в этом произведении - маньерист, то он весь свой “плод”, как соком, пропитал траурной идеей, идеей желания уйти из ненавистного антропоцентристского, индивидуалистического мира, идеей отвращения к людям этого мира, и я это почувствую.
*
Открываю наугад и читаю:
|
Гильденстерн Я и держать ее не умею, мой принц. Гамлет Это так же легко, как лгать; управляйте этими отверстиями при помощи пальцев, дышите в нее ртом, и она заговорит красноречивейшей музыкой. Видите - вот это лады. Гильденстерн Но я не могу извлечь из них никакой гармонии; я не владею этим искусством.
Гамлет Вот видите, что за негодную вещь вы из меня делаете? На мне вы готовы играть; вам кажется, что мои лады вы знаете; вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны; вы хотели бы испытать от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука; а вот в этом маленьком снаряде - много музыки, отличный голос; однако вы не можете сделать так, чтобы он заговорил. Черт возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке? Назовите меня каким угодно инструментом,- вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете. Полоний возвращается Благослови вас Бог, сударь мой! Полоний Принц, королева желала бы поговорить с вами и тотчас же. Гамлет Вы видите вон то облако, почти что вроде верблюда? Полоний Ей-богу, оно действительно похоже на верблюда. Гамлет По-моему оно похоже на ласточку. Полоний У него спина, как у ласточки. Гамлет Или как у кита? Полоний Совсем, как у кита. |
Как он, Гамлет, ненавидит этого Гильденстерна! Это потому, что гильденстернов - большинство. А большинство - сила. И она - не с Гамлетом. В этой жгучей ненависти к молчаливому большинству уже заключен Бруно Ясенский: “Не бойтесь врагов: самое большее, что они могут вам сделать, это убить вас. Не бойтесь друзей: самое худшее, что они могут сделать, это предать вас. Бойтесь равнодушных. Это с их молчаливого согласия творятся все убийства и предательства на свете”. Это гильденстерны смолчали, когда Клавдий узурпировал власть; это из-за гильденстернов Гамлет чувствует себя одиноким в Эльсиноре и вообще в этой жизни. И пока он еще живет, он вынужден даже разговаривать с этой мерзостью. Ну, раз так, то хоть унижать их на каждом шагу! Что дает мне то новое, что я узнал о Шекспире как о маньеристе? А то, что не желающий жить Гамлет - исключительной личностью должен быть. А раз исключительной, то это должно проявляться чуть ли не в каждой сцене. Что же исключительного в данной сцене? А то, как Гамлет унижает окружающих. Например, он это делает поэтически.А что такое поэт? - Это человек не от мира сего. |
*
Или вот - через несколько строк после только что приведенной цитаты: Гамлет сейчас пойдет к матери, куда его позвал Полоний.
|
...я сейчас приду. Полоний Я так и скажу. (Уходит.) Гамлет Сказать “сейчас” легко. - Оставьте меня, друзья. Все, кроме Гамлета, уходят. Теперь как раз тот колдовской час ночи, Когда гроба зияют и заразой Ад дышит в мир; сейчас я жаркой крови Испить бы мог и совершить такое, Что день бы дрогнул. |
Почему “бы мог”? Что если после этого “бы” подразумевается: “если бы я хотел жить и мстить”? |
Ведь умереть Гамлет хотел еще до того, как Призрак обременил его долгом мести. Обременил. Гамлету и так уже вся жизнь опротивела.
О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!
Иль если бы Предвечный не уставил
Запрет самоубийству! Боже! Боже!
Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!
О, мерзость! Это буйный сад, плодящий
Одно лишь семя; дикое и злое
В нем властвует.
А тут - еще одна гадость. Да еще и мсти за нее...
Ей-Богу, не зря сделано так, что месть как бы случайно произошла и почти из могилы.
*
Нет, я понимаю, что это очень трудно представить себе человека, который не хочет жить, а тем не менее довольно долго живет. Особенно это понятно, если ежестранично не намекается ни на то, что привело человека к такому нежеланию, ни на то, что поддерживает это нежелание. И вот человека наблюдаешь все-таки живущим. А любая, даже самая бессодержательная жизнь, все же в чем-то проявляется. Наблюдаешь эти проявления, забываешь о нежелании жить и создается впечатление, что у того типа жизнь в том и состоит, что ты наблюдаешь.
А обстоятельства навязали ему жизнь, обремененную обязанностью отомстить. Вот мне и показалось - в чтении,- что месть не так уж затушевана.
Но теперь я понимаю, что это мне только показалось.
Кажимость есть вообще характернейшая черта Гамлета, этого живого мертвеца. И весь ужас для него - пока еще живущего - в том, что его очень-очень трудно понять людям живым.
Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу
Того, что кажется. Ни плащ мой темный,
Ни эти мрачные одежды, мать,
Ни бурный стон стесненного дыханья,
Нет, ни очей поток многообильный,
Ни горем удрученные черты
И все обличья, виды, знаки скорби
Не выразят меня; в них только то,
Что кажется и может быть игрою;
То, что во мне, правдивей, чем игра;
А это все - наряд и мишура.
Какая же чернота в душе Гамлета, если даже такая густая темень, что он описал, это только мишура?!.
Это очень трудно представить.
*
Гораздо проще принять это за обычное шекспировское краснобайство и пропустить его мимо ушей, чем объяснить психологически. А как это психологически объяснять, когда это настолько необычно?
(Настолько, впрочем, насколько необычна цветистость фраз Шекспира в языке нашего времени.)
И вот я утверждаю (повторно), что если все же эту необычность - нежелание жить - представить себе на минуту (или на то время, в течение которого читаешь тот или иной отрывок “Гамлета”), если поверить, что мыслим такой человек, то любые нюансы трагедии представятся ясными. Надо только помнить, что Гамлет - не просто исключителен своей прозорливостью в оценке “века”, но и исключителен в своих поступках. Лишь очень сильный человек может поставить себе целью уйти из жизни.
Написал и сразу подумал: нет. Слабый тоже может себе такую цель поставить и от слабости даже и достичь ее. Но Шекспир взял другой вариант: когда именно сильный человек хочет умереть.
А так как он силен, то пока он еще не умер - его страстность успевает проявить себя вовсю.
Он как вулкан реагирует на рассказ Призрака.
О рать небес! Земля! И что еще
Прибавить? Ад? - Тьфу, нет! - Стой, сердце, стой.
И не дряхлейте, мышцы, но меня
Несите твердо. - Помнить о тебе?
Да, бедный дух, пока гнездится память
В несчастном этом шаре. О тебе?
Ах, я с таблицы памяти моей
Все суетные записи сотру,
Все книжные слова, все отпечатки,
Что молодость и опыт сберегли;
И в книге мозга моего пребудет
Лишь твой завет, не смешанный ни с чем,
Что низменнее; да, клянуся небом!
Это Гамлет сорвался. Сорвался в страсть. Сорвался потому, что, похоже, оправдывается его подозрение, что отец не сам собою умер, а ему помог тот, кто поспешил занять его место и на ложе, и на троне.
Об этом почему-то забывают, что Гамлет подозревает дядю еще до встречи с Призраком.
Вот доказательство:
Призрак
...но знай, мой сын достойный:
Змей, поразивший твоего отца,
Надел его венец.
Гамлет
О вещая моя душа! Мой дядя?
Призрак
Да...
И когда “следственный эксперимент” подтвердил правоту Призрака, Гамлет хоть и владеет собой, хоть и не обходится без самоподхлестывания своей мстительности, а все же и побаивается неожиданностей, которые он - страстный, вообще-то - может выкинуть: как бы рука на мать (!) не поднялась.
Мать звала
.О, сердце, не утрать природы; пусть
Душа Нерона в эту грудь не внидет;
Я буду с ней жесток, но я не изверг;
Пусть речь грозит кинжалом, не рука...
*
Зачем Шекспиру было делать Гамлета страстным, сильным? - Затем, чтоб он посмел примериться, можно ли восстановить расшатавшийся век. Ведь маньерист - родом из Высокого Возрождения с его титанизмом.
А маленький человек Окуджавы - не титан. И потому он, может, и не довел до конца свое намерение - умереть: ему ж опять открыли кредит, бессрочный, он опять стал пользоваться абсолютным доверием, потому, может, что и сами кредиторы несколько переродились, приблизились к герою (любовь,- во всяком случае, раздарила себя, и сама перед героем каялась)...
Может, потому, что герой Окуджавы ближе к простому человеку (ко мне, положим),- Окуджава и действеннее. Уж больно сложно сочувствовать титану.
*
А может, просто тот высокий стиль речи умер. Кто ж будет переживать пусть даже и под пение Окуджавы, если нужно со словарем следить за смыслом.
Фромантен очень убедительно писал о мертвых языках живописных, Асафьев - о мертвых музыкальных языках. Неужели ж нет мертвых литературных языков? Язык Державина, положим, язык классицизма - так ли он естественен для нас сегодня?
Спустил седой Эол Борея
С цепей чугунных и пещер;
Ужасные крыла расширя,
Махнул по свету богатырь;
Погнал стадами воздух синий,
Сгустил туманы в облака,
Давнул - и облака расселись.
Спустился дождь и восшумел.
Да, видимо, я не достигну своей цели вполне: видимо, мне не удастся ощутить потрясение от маньеризма образца 400-летней давности.
Ну, что ж - попробуем понять поглубже (понять - в буквальном смысле) вековые шедевры, точнее - художественные детали их.
*
Вот отрывок...
Полоний
...У меня есть дочь -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Которая, послушливая долгу,
Дала мне вот что: взвесьте и судите.
(Читает.)
“Небесной, идолу моей души, преукрашенной Офелии...” - Это плохое выражение, пошлое выражение; “преукрашенной” - пошлое выражение; но вы послушайте. Вот. (Читает.) “На ее прелестную грудь, эти...”. И так далее.
Королева
Ей это пишет Гамлет?
Полоний
Сударыня, сейчас; я все скажу.
(Читает.)
“Не верь, что солнце ясно,
Что звезды - рой огней,
Что правда лгать не властна,
Но верь любви моей.
О дорогая Офелия, не даются мне эти размеры. Я не умею высчитывать мои вздохи; но что я люблю тебя вполне, о вполне чудесная, этому верь. Прощай. Твой навсегда, дражайшая дева, пока этот механизм ему принадлежит. Гамлет”...
Вам не кажется, мой читатель, что Гамлет измывается над собой в процессе писания ТАКОГО письма? Нет? - Сейчас попробую доказать.
Стихи, сочиненные Гамлетом, в два раза короче речитатива, в котором идет вся трагедия. Трагедия - серьезна. Стихи Гамлета - насмешка.
Неочевидно?
Зато очевидна насмешка в слове “преукрашенная”. Полоний его достаточно выделил, чтоб мы обратили внимание.
Перенесемся в следующий акт, в ту сцену, где Гамлет разговаривает с Офелией впервые после того, как она к нему “остыла” по велению отца, впервые на наших глазах разговаривает:
Гамлет
Слышал я про ваше малевание, вполне достаточно; Бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое...
А обращение “преукрашенная” Гамлет применяет уже тогда - задолго до отчуждения Офелии от него. То есть он, Гамлет, первый начал отчуждать себя от нее. И это понятно.
Гамлет очень умен. Об измене матери отцу и об убийстве отца дядею он догадался. Сущность жизни современного ему общества он разгадал. Мог ли он ошибиться в Офелии - обыкновенной придворной барышне, дочке придворного?
И если поверить, что Гамлет настолько не принял свой век, что хочет умереть (юношеский максимализм, положим), то удивительно ли, что он переступил через себя и отказался от любви.
Отказался в том смысле, что порвал с Офелией в конце концов и провоцировал себя и ее на разрыв еще в начале.
Не полюбить кого-нибудь он не мог - по страстности и молодости лет; не порвать с любовью тоже не мог - по глубине и силе характера.
И стиль его письма подтверждает и то, и другое.
Ведь Гамлет (и Шекспир, пожалуй) - приверженец простоты языка (при всей восточной красочности шекспировской речи):
Входят Гамлет и актеры.
Гамлет
Произносите монолог, прошу вас, как я вам его прочел, легким языком; а если вы станете его горланить, как это у вас делают многие актеры, то мне было бы одинаково приятно, если бы мои строки читал бирюч. И не слишком пилите воздух руками, вот этак...
и т. д.
А теперь посмотрим, как он порвал с Офелией.
Офелия
Когда я шила, сидя у себя,
Принц Гамлет - в незастегнутом камзоле,
Без шляпы, в неподвязанных чулках,
Испачканных, спадающих до пяток,
Стуча коленями, бледней сорочки
И с видом до того плачевным, словно
Он был из ада выпущен на волю
Вещать об ужасах - вошел ко мне
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он взял меня за кисть и крепко сжал;
Потом, отпрянув на длину руки,
Другую руку так подняв к бровям,
Стал пристально смотреть в лицо мне, словно
Его рисуя. Долго так стоял он;
И наконец, слегка тряхнув мне руку
И трижды головой кивнув вот так,
Он издал вздох столь скорбный и глубокий,
Как если бы вся грудь его разбилась
И гасла жизнь; он отпустил меня;
И, глядя на меня через плечо,
Казалось, путь свой находил без глаз,
Затем что вышел в дверь без их подмоги,
Стремя их свет все время на меня.
Бледней сорочки... Хороший актер
умеет вжиться в роль. Гамлету в роль прощающегося с любовью было особенно легко вживаться. Кроме всех достоинств Гамлет еще и актер хороший: бледней сорочки...А все эти утрированные жесты!?.. Все это столь презираемое пиление воздуха руками!?.. Что это такое, как не издевательство над своим собственным вкусом.
Да, он исполняет пантомиму, а не жестикулирует при разговоре. Да, он проявляет тончайший вкус, не выговорив ни слова.
Но есть язык не только вербальный, а и язык жестов и мимики. И неужели, изъясняясь на этом языке пантомимы, Гамлет перед Офелией не “рвет страсть в клочки, прямо-таки в лохмотья”
?Да издевательство над собой и над формой своего выражения нужно ему для того, чтоб помочь себе отвергнуть содержание этой формы: любовь к Офелии.
Разве не контрастируют эти слова:
|
1) Небесной, идолу моей души...На ее прекрасную грудь... Вполне, о вполне чудесная... Дражайшая дева... |
2) О дорогая Офелия, не даются мне эти размеры. Я не умею высчитывать мои вздохи... |
Эти отвлеченные, высокопарные, порой, в третьем лице обращения - и разговорный стиль. Выспренность, ненатуральность - и простота.
Да Гамлет свое
чувство, прорывающееся в безыскусности языка, душил ненавистным ему краснобайством. Для того, наверно, и само писание (письма) ему понадобилось, ему, молниеносно действующему, когда он захочет.*
Он для того и в могилу к Офелии бросился, вслед за Лаэртом, чтоб ненавистью к себе (за этот эффектный жест) унять, быть может, волну скорби. Клин клином вышибают...
Разве из тех он, презираемых им самим, что “готовы Ирода переиродить”? - Нет, конечно. Ан вот же - говорит, как те:
Ее любил я; сорок тысяч братьев
Всем множеством своей любви со мною
Не уравнялись бы.- Что для нее
Ты сделаешь?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нет, покажи мне, что готов ты сделать:
Рыдать? Терзаться? Биться? Голодать?
А вот и разгадка. Она - в резком снижении стиля:
Напиться уксусу? Съесть крокодила?
Раз Гамлет низводит колоссальную любовь к
такому, значит, он на один уровень ставит и то и другое; значит, и то и другое - сарказм. Сарказм над собой, в первую очередь.*
Конечно, проводить стилистический анализ по переводу (в данном случае, по переводу Лозинского) - дело рискованное: не имею ли я дело с произведением переводчика, а не автора.
ЗАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ. (Как минимум, пока я до Рубенса не доберусь, будущее - будет все еще впереди.) Попробовать перевести, ну, хоть вот только что процитированное и посмотреть: есть ли там уксус или крокодил. Если есть - это еще не будет, конечно, на 100% значить, что Лозинский передал Шекспира прекрасно. Но все-таки...
А пока я буду исходить все же из конгениальности Лозинского с Шекспиром. Наверно, за многие десятки лет
существовали в России литературоведы, владевшие английским и читавшие Шекспира в подлиннике. Неужели, заметь они различия, извращающие впечатление, не появился бы более аутентичный перевод, чем перевод Лозинского?Впрочем, если я сподобился заиметь своего Гамлета, то принимать на веру мне ничьего мнения нельзя... Например, Аникст - ведущий шекспировед в СССР и автор статьи о “Гамлете” в полном собрании сочинений Шекспира: наверно, он владеет английским. Но в 1960 году - при выходе полного собрания сочинений Шекспира - Аникст еще не исповедовал теорию большого маньеризма. Он тогда мог в принципе иначе оценивать перевод Лозинского...
И все же я Лозинскому поверю (у меня и выхода другого нет).
*
За Шекспиром,- по моей коллекции возведений в ранг открытия (есть у меня и такая наряду с коллекцией интерпретаций художественных деталей),- числится открытие осознанного метода собственно художественного мышления. Это когда писатель прямо, открыто и активно борется за то, чтобы его мысль не выступала в отвлеченных суждениях, но всецело внедрилась в создаваемую художественную реальность. Получается поразительно богатый, глубокий и многогранный смысл. Остается впечатление подлинной неисчерпаемости. Это когда писатель творит, как жизнь. (До этого - события и герои скорее воспевались, чем изображались.)
Возненавидевший людей Гамлет - при его уме - должен издеваться над окружающими во всем диапазоне способов: от грубейших до тончайших.
Горацио
Тише! Кто идет?
Входит Озрик.
Озрик
Приветствую вас, принц, с возвратом в Данию.
Гамлет
Покорно благодарю вас, сударь мой. - Ты знаешь эту мошку?
Горацио
Нет, мой добрый принц.
Гамлет
Тем большая на тебе благодать, потому что знать его есть порок. У него много земли, и плодородной; если скот владеет скотиной, то его ясли всегда будут стоять у королевского стола; это скворец, но, как я сказал, пространный во владении грязью.
А Озрик это все слышит, и как ему реагировать?..
Это - грубейшие оскорбления. А не реагирующий на них Озрик показывает нам, что дело Гамлета плохо (с нашей, средней точки зрения - плохо): когда на человека можно уже не реагировать - его как бы уже нет или, по крайней мере, скоро не будет.
Таким же предвестием была и послушность Полония с облаком-верблюдом-ласточкой-китом: Полоний чувствовал, что Гамлет будет наказан за спектакль “Убийство Гонзаго”.
А Гамлет - по отсутствию реакции на оскорбление - чувствует это тоже.
Так что грубость оскорблений это разведочный рейд.
Однако грубые оскорбления так же не по нутру принцу, как и краснобайство. И он возвращается к внешней вежливости:
Гамлет
Или как у кита?
Полоний
Совсем как у кита.
Гамлет
Ну, так я сейчас приду к моей матери.
(В сторону.)
Они меня совсем с ума сведут. - Я сейчас приду.
Полоний
Я так и скажу.
(Уходит.)
Гамлет
Сказать “сейчас” легко. - Оставьте меня, друзья.
Это последнее - Розенкранцу и Гильденстерну, лжедрузьям.
А вот с Озриком.
Озрик
...Лаэрт; позвольте мне, совершеннейший дворянин, преисполненный самых отменных отличий, весьма мягкий обхождением и видной внешности; поистине, если говорить о нем проникновенно, то это карта или календарь благородства, ибо вы найдете в нем совмещение всех тех статей, какие желал бы видеть дворянин.
Гамлет
Сударь, его определение не претерпевает в вас ни малейшего ущерба...
Почему же Гамлет не жжет мосты? Зачем не ломает все барьеры общежития? Почему не ударяется в крайность, как спустя 400 лет ударились в терроризм “новые левые”, окончательно разочаровавшись в жизни после своего поражения?
А потому что у Гамлета еще остается какая-то сверхабстрактная вера в человечество, в сверхбудущее, в Историю.
*
Вот сцена перед самой смертью Гамлета.
Гамлет
...Вам, трепетным и бледным,
Безмолвно созерцающим игру,
Когда б я мог (но смерть, свирепый страж,
Хватает быстро), о, я рассказал бы...-
Но все равно,- Грацио, я гибну;
Ты жив; поведай правду обо мне
Неутоленным.
Горацио
Этому не быть;
Я римлянин, но датчанин душою;
Есть влага в кубке.
[А влага-то отравлена...]
Гамлет
Если ты мужчина,
Дай кубок мне; оставь; дай, я хочу.
О друг, какое раненое имя,
Скрой тайна все, осталось бы по мне!
Когда меня в своем хранил ты сердце,
То отстранись на время от блаженства,
Дыши в суровом мире, чтоб мою
Поведать повесть.
Видимо, есть общее в некоторых пессимистах с оптимистами. Оптимисты - ожидают лучшее будущее еще до лично своей смерти или до смерти своего поколения, или в другой исторически короткий срок. А пессимисты - некоторые - в самой последней глубине души своей - тоже не могут отрешиться от веры в лучшее будущее, только наступление его относят в необозримо далекую даль времен.
Однако, поскольку все-таки относят, постольку и заботятся о памяти по себе даже и среди презренных современников. Ибо как же иначе не прервется связь времен.
Значит ли это, что Шекспир заставил зрителя прийти к признанию (как выразился Кеттл) “
необходимости действовать в реальном мире; а это - великая победа человека”?Нет, не значит.
Это значит только, что Шекспир заставил зрителя передать дальше трагедию “Гамлет”: устно - в виде легенды нового типа, в отличие от древней легенды об Амлете, или письменно - в виде отпечатанной пьесы. И еще - подсознательно - в виде смутного интереса “пойти посмотреть, о чем это шумит публика”.
*
Можно бесконечно множить бесконечность смыслов той или иной детали. Но все это будут оттенки, а не прямо противоположные тона. Истина - единственна. И пусть в тысячах томов шекспироведов выведены прямо противоположные смыслы “Гамлета” и прямо противоположные Гамлеты-принцы - пусть: это только означает, что критики и ученые постигли пока только часть смысла этого произведения или вообще ошиблись (грешны и они). Как факт: концепция Шекспира-маньериста появилась в мире лишь около десятка-другого лет назад. И поскольку искусствоведение - наука, постольку наука эта постигает абсолютную истину. А раз так, то кое-что,- возможно, концепция маньеризма,- утвердится навсегда (как законы Ньютона, сколько бы их ни уточнял Эйнштейн и кто бы ни был еще).
Нет-нет. Я ее не двигаю - науку - своими разборами, своим Гамлетом. Я лишь популяризатор науки.
*
В данном случае я популярно развиваю упомянутого Кеттлом профессора Уилсона Найта (видимо, далеко не марксиста), иллюстрирую, так сказать,- вдохновившись возможностями, представляемыми большим маньеризмом:
<<
Профессор Найт... утверждает, что... представлен... Гамлет - “бесчеловечным” (inhuman). [что] Справедливость, несомненно, на стороне Гамлета; но его философия заключается в отрицании жизни>>.Действительно, что может быть таким негуманным, как эти, например, слова Гамлета: “Я говорю, у нас не будет больше браков; те, кто уже в браке, все, кроме одного [имеется в виду - кроме короля], будут жить; прочие останутся, как они есть” - в безбрачии.
И не нужно говорить, что это сказано для того, чтоб показаться безумным. Гамлету совсем нечего придумывать что-то, чтоб казаться безумным. Ему достаточно со всей возможной полнотой выражать свое мировоззрение - нежелание жить - и этого хватит, чтоб его обычные люди сочли ненормальным. Обычные же люди не знают причину его нежелания жить. А знали бы - не думали б, что он сумасшедший. Король, например, в его безумия не верит, ибо кое-что знает.
Еще пример, из жизни. Я знаю человека, лично знаю,- воспитанника дочки попа царской (в Зимнем дворце) церкви,- который настолько нетерпимо относится к советской действительности, что обрек себя на холостяцкую жизнь: “Не хочу плодить детей для этого мерзопакостного мира”.
Или вот пример гамлетовского ингуманизма: он просит Горацио не кончать жизнь самоубийством, “чтоб мою поведать повесть”. А после того, как тот поведает? - Гамлет не останавливает его надолго. Он, правда, как сволочи-миссионеры в Гайяне наших дней не убивает насильно давших обет смерти, не убивает тех, кто струсил в последний момент. Но он и не останавливает Горацио.
...отстранись
на время от блаженства...А блаженство - не жить, по Гамлету.
И как после этого можно называть Гамлета гуманистом!..
*
По контрасту, действительно, Клавдий выглядит человечным (human), как утверждает профессор Найт.
Как-никак он король, у него власть, и по тем кровавым временам - хоть и возрожденческим - он мог прибрать Гамлета к рукам покруче, чем не пустить в Виттенберг, то есть покруче, чем оставить под присмотром своих шпионов и под своей властью, довольно беспечной.
Он сильные слова сказал, король:
Да, нет спора.
Безумье сильных требует надзора.
Эти разумные слова многие могли понять, и Клавдий мог бы королеву в этом убедить и заточить Гамлета.
Наконец, он мог и не считаться с королевой, поскольку королем-то он уже стал.
Но он хотел как лучше, вернее, чтоб было поменьше бед, побольше довольства и покоя.
1) И в королевстве:
...Любовь к нему [Гамлету] простой толпы; она,
Его вину топя в своем пристрастье,
Как тот родник, где ветви каменеют,
Его оковы обратит в узор...
2) И для королевы:
...Мать, королева,
Живет его лишь взором [Гамлета]
...3) И для самого Гамлета, если он будет послушен:
...пусть не забудет мир,
Что ты [Гамлет] всех ближе нашему престолу
И я не меньшей щедростью любви,
Чем сына самый нежный из отцов,
Тебе дарю.
И так бы и было, если б Гамлет ему простил узурпаторство.
И разве не ото всей души хорошо относился Клавдий к Полонию, Лаэрту, к услужливым придворным и подданным. Рука руку моет: вы - мне, я - вам. Живите сами и дайте жить другому. Я, Клавдий, хочу жить королем; если вы мне это устраиваете, не разваливаете, я вам тоже все сделаю, что ваша душа пожелает (если не через меру ваши желания).
Могли ли Розенкранц, Гильденстерн, Корнелий, Вольтиманд, Полоний, Озрик - кто там еще - согласиться с Гамлетом, что Дания - тюрьма, причем одна из худших? - Конечно же, нет.
А вот слова де Санктиса: <<
Готов любить родину, но при условии, что она не будет причинять ему особых беспокойств, позволит заниматься своим делом и не заставит против воли бросить дом или лавку>>. И это - в пику другой любви: <<служить родине, быть готовым отдать ей свой талант, свое имущество, свою жизнь...>>Какой любви к родине привержены упомянутые лица? Конечно же, к первой. А ведь де Санктис в первом случае говорит о мировоззрении Возрождения, о мировоззрении нарождающейся буржуазии.
Клавдий вполне гуманист для такой публики. И именно эта публика породила гуманизм Возрождения (раннего Возрождения, не Высокого, не титанического, перехлестнувшего буржуазные интересы).
*
А Гамлет таки - ингуманист. И поскольку он превалирует в трагедии “Гамлет”, то эта трагедия - произведение маньериста.
Кирнан писал, что в отличие от своих современников [явных маньеристов] у Шекспира лучшие монологи подсказаны героям чувствами, которые они питают друг к другу, а не к себе или к безличным абстракциям вроде судьбы, смерти...
Что же в “Гамлете”? - Да наоборот.
Знаменитый монолог “Быть или не быть” - как раз о судьбе, о смерти.
Самый первый монолог - о себе, о своем желании покончить с собой.
Монолог Гамлета после встречи с актерами - опять о себе, о своей медлительности.
Монолог Гамлета после прохода войск Фортинбраса - опять же, о себе и абстрактные рассуждения о чести...
Тот же Кирнан о тех же елизаветинцах (маньеристах) пишет, что в отличие от Шекспира у них любовь - не индивидуализированная страсть, не социальная сила, она предстает не как свободный выбор, а скорее как пережиток царства необходимости.
Но именно такова у Гамлета любовь к Офелии. Она молода и красива, и этого оказывается достаточно. Фатальная неизбежность...
То есть и по таким меркам Гамлет - герой маньеристского произведения.
Далее. Кирнан проговаривается и пишет такое: <<
Когда в результате потрясения, причиненного замужеством матери и открытием, что его отец был убит, Гамлет замыкается в себе, он в своем поведении начинает походить на “макиавеллиста”... одинокого, ожесточившегося и никому не доверяющего>>.А ведь тот же Кирнан пишет о елизаветинцах (типичных разочарованных маньеристах), что самыми типичными отрицательными персонажами у них являются “макиавеллисты”...
Так что и здесь сходится.
Гамлет, правда, не типичный макиавеллист-отрицательный-герой. Но что-то от того есть: это его пренебрежение к окружающей его шушере, к Офелии - вполне похоже на <<
лишенность каких бы то ни было понятий о нормах традиционной добродетели>>. Помните:Ты знаешь эту мошку?
-сказанное об Озрике в присутствии Озрика... Помните верблюдо-ласточко-китообразное облако... Помните его архигрубость к Офелии на представлении артистов...
И дружба Гамлета с Горацио какая-то чисто номинальная. У Горацио пустейшая роль. Гамлет с ним ничегошеньки общего не делает. Это не дружба, в сущности.
И что-то не помнится, чтоб в трагедии где-нибудь было, чтоб Гамлет страдал от одиночества...
<<
На многих произведениях драматургии времен Елизаветы и особенно Якова I,- пишет Кирнан,- лежит печать уныния и горечи. Их излюбленные темы - смерть и безумие, то есть явления, которые полностью изолируют людей от остальной части человечества>>. И это Кирнан относит к елизаветинцам (маньеристам) в пику же - Шекспир.Но “Гамлет”-то как раз и не может быть противопоставлен произведениям елизаветинцев-печальников.
По де Санктису, к гуманистам подведен быть может Клавдий, по Кирнану (по его меркам), “Гамлет” - к маньеризму. Один - итальянец, другой - англичанин. Не стоит ли среди русских опору поискать?
*
Наш ведущий шекспировед, Аникст, еще в 1960 году,- до того, как узнал концепцию большого маньеризма, включающего в себя и Шекспира,- уже подходил, местами, к маньеристской по сути интерпретации “Гамлета” и его главного героя.
<<
Шекспиру всегда было свойственно резко, сильно и прямо выдвигать перед зрителями основные мотивы действия...Очень часто оставляют без должного внимания первый монолог Гамлета, тогда как он имеет важнейшее значение, ибо уже здесь мы узнаем, что же больше всего удручает героя...
Он не хочет жить. Им владеет мысль о самоубийстве. Весь мир опостылел ему. Из-за чего же? Из-за того, что умер отец? Нет...
Уже первый монолог Гамлета открывает перед нами одну из наиболее характерных черт героя - стремление сразу же обобщать отдельные факты действительности. Произошла всего лишь семейная драма. Для впечатлительного по натуре Гамлета, однако, оказалось достаточно ее, чтобы сделать обобщение: жизнь - “это буйный сад, плодящий одно лишь семя; дикое и злое в нем властвует”...
Конечно, семейная драма, происходящая на глазах у Гамлета, факт недостаточно значительный для того, чтобы начать сомневаться в ценности жизни вообще. Но Шекспир верен жизненной правде, когда он так изображает душевную реакцию Гамлета...
>>*
Я успел прочесть, что в те времена как раз началась цензура. Шекспир и не мог публицистически показать все то, что могло подготовить, наполнить Гамлета до краев, чтоб такие большие капли, как предательство матери и дяди, переполнили его терпимое отношение к жизни. Вот и пришлось Шекспиру сделать Гамлета сверхчутким и ультраобобщающим. Аникст об этом не говорит, но подводит. И даже говорит об этой публицистической всеохватности, только не делает того акцента, которого теперь требует концепция повторяющегося, исторически повторяющегося маньеризма. А ну, представьте теперь, что Аникст имеет в виду и советскую нашу современность, коль скоро “Гамлет” популярен, а значит, и актуален сегодня:
<<
“Гамлет” - первое из всех рассмотренных до этого произведений, в котором мировосприятие Шекспира становится в полной мере трагическим. Вся действительность предстает здесь именно в трагическом аспекте... Шекспир и раньше не был наивным оптимистом. Об этом свидетельствуют его хроники, ранние трагедии и “Юлий Цезарь”, а также, в известной мере, поэма “Лукреция” и “Сонеты”. Но там всюду зло было одной стороной жизни. Оно если не уравновешивалось, то, во всяком случае, всегда имело хоть какой-нибудь противовес. Кроме того, в прежних произведениях зло выступало как сила неправомерная, хотя и занимающая в жизни большое место.Отличие “Гамлета” от предшествующих произведений заключается в том, что здесь обнаруживается закономерность зла в жизни. Его источник может быть незначительным поначалу, но в том-то и дело, что вытекающая из него отрава распространяется все шире и шире, захватывая весь мир
>>.Что именно о таких масштабах идет речь Аникст доказывает такой фразой: <<
язык трагедии по-своему выражает это... В “Гамлете” преобладают образы, связанные со смертью, гниением, разложением, болезнью>>.Но самое главное ведь вот в чем: в том, что маньеризм-то наступает после Высокого Возрождения. Разочарование особенно глубо`ко после титанизма. Чем выше залетел “сын недолгого века” (по Окуджаве), тем страшнее падение, когда этот недолгий век кончается - Высокое Возрождение или социалистическая революция...
Аникст пишет: <<
Со свойственной ему [Гамлету] способностью обобщения он говорит (перевожу дословно): “Время вывихнуло сустав” (I,5). Не совсем точно переводить “время” словом “век”, ибо это несколько сужает смысл того, что хочет сказать Гамлет. В поэтическом языке Шекспира “время” означает всю жизнь в ее бесконечном течении. И если Гамлет говорит о том, что “время вывихнуло сустав”, то это означает, что нарушены вечные основы жизни>>.Такая абсолютизация добра, по-моему, может быть только тогда, когда еще на памяти Высокое Возрождение. А, соответственно, абсолютизация актуальности “Гамлета” в странах социализма может быть только тогда, когда еще на памяти социалистические революции.
Дальнейшие слова Аникста 50-х годов подтверждают, что эти мои “точки над i” находятся действительно, попадают действительно - на “i”:
<<
По мнению сторонников философии пессимизма, трагедия героя будто бы заключается в том, что он обнаруживает непреложность и неискоренимость зла в жизни. Думается, что уточнение известных слов Гамлета опровергает такое толкование. В какой-то мере оправданным был разъясняющий перевод А. Кронеберга, который передал эту мысль героя словами: “Пала связь времен”. Да дело именно в том, что жизнь была раньше другой и зло в ней царило или, во всяком случае, не обнаруживало себя с такой силой>>.*
Так что в ХХ веке именно русскому на роду написано сильнее всех сыграть Гамлета на сцене. И это, кажется, случилось. Речь - о Владимире Высоцком.
Что значат вот эти отзывы:
<<
Он был замечательным актером, одним из интереснейших актеров современности>>.М. Ульянов
<<
В 1973 году во время Международного театрального конгресса в Москве... весь конгресс поехал тогда на Таганку, чтобы посмотреть это необычное представление и этого необычного актера... великий артист Владимир Высоцкий, исполнитель заглавной роли в этом спектакле...>>Р. Шидловский
А может, и поставить наилучшего “Гамлета” в ХХ веке суждено было тоже русскому режиссеру? Может, им был Юрий Любимов? Не зря же спектакль так гремел, не зря ж так расцвел театр на Таганке.
Во всяком случае, жизнь Высоцкого в чем-то была прожита, как Гамлетом:
<<
Горел в искусстве и горел в жизни, как будто хотел убежать от забот и переживаний в преждевременную смерть......Понял он Гамлета до конца, был Гамлетом не только в этой одной роли, но также и в своих песнях, в своей жизни...
...Он предчувствовал и почти дотошно знал свою судьбу... Сам загадывал ее и сам же отгадывал. Ведь все его песни - это еще какая-то неистовая гонка, гонка и от гибели своей, и навстречу ей...
...Он предчувствовал свою смерть и много писал о ней. Она всегда представлялась ему насильственной. Случилось по-другому. Его длинное сорокадвухлетнее самоубийство...
>>Это выдержки из статей тех, кто осмелился писать о Высоцком правду.
А интересно, найдется ли такой русский, который сильнее всех в ХХ веке
напишет о шекспировском “Гамлете”?*
Аникст сделал шаг на этом пути, открыв нам, в СССР, большой маньеризм и не возражая причислению Шекспира к маньеризму. Хватит ли у него духа довести дело до конца?
По крайней мере, в 50-х годах, если он уже знал о Шекспире-маньеристе (а знать мог, ибо впервые это было сказано, утверждает Аникст, в 1920 году, а напечатано - в 1925 году), то в послесловии к “Гамлету” - в полном собрании сочинений - духа у Аникста не хватило.
В 1960 году напечатал он вот это:
<<
Шекспир показывает... человек, любящий жизнь, начинает ненавидеть ее; он, преклоняющийся перед красотой и могуществом человека, проникается презрением и ненавистью к людям>>. (Кстати, ясно становится, почему некоторым Высоцкий представлялся пренебрежительным к людской мелочи, сверхчеловеком.)В 1963, как гласит одна из ссылок, Аникст читал уже энную работу, разбирающую маньеризм Шекспира (во всяком случае, пользовался... изданием 1963 года).
А в 1977 году, в подвигнувшей меня к данным экзерсисам статье, он пишет всего только: <<
... понятие о литературном маньеризме еще только начинают разрабатывать, и у литературоведов можно встретить гораздо меньше согласия на признание маньеризма, чем у искусствоведов>>.Стоп. Тут, оказывается, у Аникста есть ссылка номер 38: <<
Эскизная характеристика маньеризма в литературе дана в моей статье: “Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы. Сб.: “Ренессанс, барокко, классицизм”. М., 1966, с. 220-232>>. Раньше я на эту ссылку не обратил внимание. Теперь - задание на настоящее, не на будущее: прочесть эту работу.Будущее у меня все равно остается еще: понять Рубенса. Но все же интересно: совпаду я с Аникстом или нет? Оч-чень интересно.
*
Не совпал.
Шекспира, Шекспира второго периода, значит, с “Гамлетом” во главе этого периода,- как и сервантесовского “Дон-Кихота”, Аникст связывает с Поздним Возрождением, а не с маньеризмом. Связывает с так называемым трагическим гуманизмом. И цитирует А. А. Смирнова “Из истории западноевропейской литературы”, М.-Л., 1965, с. 195:
<<
Трагический гуманизм - это осознание трагедии человека в частнособственническом и притом рефеодализирующемся обществе, сознание всей тяжести борьбы, которую человек ведет с этим обществом,- борьбы не всегда сулящей успех и порою почти безнадежной, но все же всегда и во всех случаях необходимой>>. (Выделено - мной.)Маньеризм же (по Аниксту) - это <<
распад гуманизма>>.Что тут скажешь?
Что-то коробит... С чем-то хочется спорить... Надеюсь - не из-за уязвленного самолюбия моего (что не совпал я с Аникстом)...
Не вяжется, что ли, с трагизмом это “
не всегда”, это “порою”, это “почти”... Трагизм это что-то предопределенное, что ли... Если есть шанс победить, то не о трагизме надо говорить, а о героизме, что ли...*
В фильме “Доживем до понедельника” учитель истории соглашается с доводами юного рационалиста, утверждающего, что лейтенанту Шмидту возглавлять восстание матросов - по их просьбе - было безнадежным делом. Учитель в фильме только не соглашается из нашего сегодня ругать Шмидта за этот поступок.
В интерпретации учителя - Шмидт проявляет <<
осознание трагедии>>.А в книге Черкашина “Клянусь землей и солнцем” Шмидт, согласившись возглавить восстание, нашел следующие шансы на победу в условиях, когда самый удобный для победы момент был упущен и когда Севастополь уже стал наводняться карателями, а офицерам флота удалось разоружить все корабли, кроме “Очакова”.
Во-первых, Шмидт решил ночью, ударными ротами восставших высадиться на кораблях, запереть офицеров в каютах и таким образом захватить, если не все, то хоть один броненосец, чтоб угрожать городу крупными снарядами и заставить сухопутных карателей пока помедлить.
Во-вторых, ночью же овладеть ударниками, ружьями, бойками и т. п., свезенными офицерами с неблагонадежных кораблей на берег, и вернуть это все утром на захваченные ночью корабли.
В-третьих, ночью же - захватить корабль-склад мин (минами можно вооружить миноносцы против броненосцев, а миноносцы вероятнее всего удастся захватить ночью).
Если ночные захваты не удадутся или удадутся в недостаточных масштабах, Шмидт решил произвести психологическую атаку: утром, с восходом солнца, торжественно, под марш поднять над крейсером “Очаков” и над захваченными ночью кораблями красные флаги и флажковым телеграфом оповестить флот, что он, Шмидт, берет командование флотом на себя.
И это все было не авантюра. Потому что положение-то было неустойчивым даже и не в лучшей для революционеров момент. Оно могло качнуться в любую сторону, смотря по тому, кто решительнее, смелее, быстрее, безошибочнее будет действовать.
А в случае удачи ночью и утром - Шмидт знал, что делать дальше: захватить всю эскадру, вокруг восставших сухопутных войск оборудовать оборонительные позиции, вытеснить карателей из Севастополя или переагитировать их на свою сторону, послать корабли на захват Очакова, Одессы, городов побережья Кавказа, поднять восстание на Кавказе, начать наступление вглубь России и, если центр еще не поднимется, объявить Крымско-Кавказскую Федеративную Республику.
И пусть не удалось в решающую ночь захватить много кораблей и просто ни одного броненосца, пусть не удалось собрать оркестр и вообще подействовать поднятием флагов на колеблющихся матросов: те оказались запертыми в трюмах. Пусть. Шмидт не растерялся.
Он объехал эскадру на миноносце под красным флагом и обратился с призывом к матросам, глядящим в задраенные иллюминаторы.
А это тоже немало. Всем было ясно, что говорит Шмидт, и воодушевленные матросы могли бы найти способы освободиться из трюмов.
И пусть это не удалось (почти случайно: со Шмидтом во время речи стал обморок от нервного истощения). Но обретя себя он опять не растерялся и нашел выход.
Он высадился на корабле-тюрьме, где томились бывшие повстанцы с “Потемкина”, и сумел в одиночку овладеть положением на корабле. Повстанцы были освобождены. На флагманском, адмиральском корабле шесть (!) раз поднимали и спускали красный флаг. Там шла борьба. Надо было помочь революционным десантом. И опять случайность, что Шмидт опять оказался в обмороке. Почти случайность.
И так далее.
Севастопольское восстание флота могло и победить, по версии Черкашина, и тогда, понимать надо, неизвестно, чем бы кончилась вообще вся революция 1905 года.
Вариант Черкашина это не иллюстрация слов Плеханова, сказавшего после поражения революции, мол, и не надо было выступать. Вариант Черкашина - это иллюстрация ленинских слов, мол, выступать нужно было решительнее: подмени,- решительно подмени,- меньшевик Вороницын заболевшего Шмидта - и кто знает, как бы все было.
У Черкашина - героизм. Ясное дело.
Но ведь есть же и у Черкашина, еще до решающей ночи, такие слова от имени Шмидта: “Даже если бы на “Очакове” не нашлось ни одного снаряда и матросы решились бы выразить свой протест одним лишь поднятием красного флага, мой долг быть с ними. Кто-то же должен начать, пусть первыми начнем мы. Пусть наши последователи увидят наши ошибки, пусть они не повторят их - в этом тоже один из глубоких смыслов нашего выступления”.
Так это ли не трагизм? Без “если бы”
...И вообще, стоит ли тут различать, где у лейтенанта Шмидта героизм, а где трагизм? Конечно же, у него и то и то. Трагический героизм - аналог возрожденческого трагического гуманизма.
Да, пока герой еще жив, борется - героизм, когда убит - трагедия. Но и там и там действительно нет еще отказа от своих убеждений. Нет и не будет. В результате трагедии будет лишь укрепление идей героя в душах читателей - катарсис. Очищение истиной.
Просто трагический гуманизм относится-таки к Возрождению, к Позднему Возрождению. Поскольку конец - плохой, трагический. А героическое в нем - от Высокого Возрождения.
И в Высоком и в Позднем - открытое противостояние сил. Только в Позднем - трагедия слишком занесшейся под водительством духа гармонии тела и духа.
Шмидт тоже - занесшаяся под водительством духа гармония тела и духа. Плеханов был в чем-то прав: не готова была социал-демократия (если в целом, с меньшевиками считая) к революции. Да и Ленин в чем-то с ним согласен, раз говорит, что надо было решительнее: раз именно
надо было, значит, не было того, что надо. А значит - не готовы.Но не предавать же. Вот и “
необходимость борьбы”, что декларируется в определении трагического гуманизма.*
А “Гамлет” вовсе не относится к трагическому гуманизму. Аникст его просто туда отнес. Борьбы же по вправлению вывихнутого сустава времени нет в “Гамлете”. И если б Гамлет ограничился лишь местью за отца, не берясь за исправление века, никто б его не назвал предателем, т. к. не было революционной обстановки в той гипотетической стране - Дании. Был <<
крах гуманизма>>. Если взять аналогию в первой русской революции - была уже реакция, год 1908,-9,-10.Если бы у нас признали, что в Возрождении была тенденция, которую я назову тенденцией невысоты, недуха - тела, то признали бы, что эта невысота и выжила в историческом итоге. Как выжила невысота в итоге революции 1905 года - реакция, революция сексуальная. Выжили последователи Клавдия с его пьянством. А продолжали бороться с невысотой - высокие духом: маньеристы, гамлеты, Шекспир, герой “Гранатового браслета” и его автор. А социал-демократы- большевики - продолжали позднее Возрождение. Для большевиков маньеризм должен был наступить еще в будущем - после победы их собственной невысоты, после победы той невысоты, что была компонентом Октябрьской революции. Возможно, например, что большевистским, так сказать, маньеристом стал Маяковский, а выжившими в возрождении-революции клавдиями стали мещане в социалистическом государстве.
Но это - если додумывать до конца, если не бояться впасть в догматизм, в начетничество, а жестко придерживаться логики. А я и не боюсь впасть и не впадаю.
*
Смею теперь заявить, что кроме установки говорить правду, как бы жестока она ни была, я вменяю себе в заслугу сугубую логичность, закаленную моей основной работой инженера.
Я компоновал радиоизмерительные приборы. А это довольно сложное дело: много взаимосвязей и условий (иногда кажется, что просто необозримо много - аж охватить нельзя). И я стихийно пришел к тому, что называется системным подходом к проектированию сложных комплексов. А этот системный подход (уж 20-30 лет как это в мире появилось) породил массу методов объективирования мыслительной деятельности - и для самого проектировщика есть опора (зрительная) в мышлении, и других можно подключить (поскольку всем видно), и нелогичность (если случится) видна как на ладони. Вот и я впал ручейком в это мировое русло четкости. А так как человек един: на работе такой же, как вне ее - то в свое хобби, надеюсь, я вношу четкость, не начетничество.
Но вернемся...
*
Не хочу согласиться с Аникстом, что в маньеризме есть стремление к натурализму как к цели.
Нужно, наверно, напомнить (раньше-то говорилось), что в маньеризме, в его “высоте”, есть специфическая “невысота”, с особой функцией.
Функция эта - такая же, как функция невысоты в готике: дать преодолеваемое - земные силы и свойства материи, создать перепад, дать то, откуда делают скачок к высшему, скачок - от низшего.
Натурализм в маньеризме - это преодолеваемое, а не эстетизируемое, это отвращающе-соблазняющее, от чего взгляд, душа стремится ввысь, к идейности, а тело, желательно, молчит - как наиболее подходящий идее минимум.
Вот и Маяковский так же:
В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав -
тубо
-собакам
озверевшей
страсти.
Или вот:
...Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я эту красавицу взял
и сказал:
- правильно сказал
или неправильно? -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут уго`льями,
а в том,
что встает за горами грудей
над волосами-джунглями
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Любить -
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны
считая
своим соперником.
Что это такое, как не сублимирование чувственности и Аникстом признаваемое как черта маньеризма, и Якимовичем - как черта послеренессансной мистики, то есть тоже маньеризма.
У Аникста в его статье - 66-го года - есть хороший пример сублимирования в маньеризме XVII века: <<
Духовная жизнь лишается той гармоничности, которая характерна для ренессанса, она приобретает напряженный характер. Одно стихотворение Джона Донна выразительно названо “Экстаз”. Оно изображает встречу влюбленных:Где головой на холм склонясь,
Фиалка нежная цвела,
Вдвоем присели мы, тотчас
Забыв земные все дела.
Всячески подчеркивается, что в этой встрече главное не физическое, а духовное. Душа стремится к другой душе:
Так в преньях душ велась борьба
На полпути меж ней и мной.
В этом состоянии экстаза влюбленные достигают некоего высшего существования между жизнью и смертью...
Недвижно, в полной немоте
Весь день, до наступленья тьмы,
Как изваянье на плите
Надгробия, лежали мы
>>.Но если сублимирование - это вытеснение низменного высшим - характерно маньеризму, то зачем превращать маньеризм в кашу и сваливать туда то, что стремлению к высшему противоположно: стремление к натурализму как самоцели. По-моему, это нелогично со стороны Аникста. Волнообразное колебание стилей от высоты к невысоте логичнее:

Я берусь доказать, что Аникст и фактически ошибается. Он берет стихотворение главы, как он пишет, “метафизической школы” и корифея английского маньеризма Джона Донна и иллюстрирует этим стихом якобы отличное от Шекспира (вообще!) стремление к натурализму:
Когда твой горький яд меня убьет,
Когда от притязаний и услуг
Моей любви отделаешься вдруг,
[то есть, когда я, которому ты изменила, умру...]
К твоей постели тень моя придет.
И ты, уже во власти худших рук,
Ты вздрогнешь. И, приветствуя визит,
Свеча твоя погрузится во тьму.
И ты прильнешь к соседу своему.
А он, устав, вообразит,
Что новой ласки просишь, и к стене
Подвинется в своем притворном сне.
Тогда, о бедный Аспид мой, бледна,
В серебряном поту, совсем одна,
Ты в призрачности не уступишь мне.
Проклятия? В них много суеты.
Зачем! Предпочитаю, чтобы ты
Раскаялась, чем черпала в слезах
Ту чистоту, которой нет в глазах.
А по-моему, здесь натурализм (совсем в духе послеренессансной мистики) есть трамплин к духовному: к призрачности, к антисуете, к раскаянью в измене, к чистоте.
<<
Донн низводит все до подлинной действительности,- пишет Аникст.- Мысль поэта проникает в спальню, где на кровати лежит около своего друга изменившая возлюбленная. Взор поэта запечатлевает даже капли пота на лице женщины>>. А ведь пот этот - Аникст даже не замечает - вызвал не друг, а появление тени. И разве не затем этот пот, чтоб резче оттолкнуться в раскаянье, в чистоту, в несуету, в призрачность, причем в призрачность неумершего тела женщины, в призрачность, какую “не уступишь” призрачности призрака умершего?!Теперь каждый скажет, что прав я, а не Аникст. А то, что он нашел среди современников Джона Донна поэтов, воспевающих чувственность: Роберта Геррика и Христиана Гофмансвальдау - так это еще не значит, что найденные Аникстом стихи характерны маньеризму, а не, например, умиротворенному барокко.
Или еще: эта невысота Геррика и Гофмансвальдау, может,- только трамплин в высоту. Что если Аникст обрубил стихи?..
Обрубив, и Маяковского можно представить чувственным, невысоким, недуховным, эстетизирующим порок и только. Например:
Теперь -
клянусь моей языческой силою! -
дайте
любую красивую,
юную,-
души не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
А на самом деле, это лишь эпизод. Герой бунтует, что не принята его высокая любовь. Эстетизацией порока дело не заканчивается, а в эстетизации этой лишь набирает силу отталкивания ввысь после падения. И кончается это (и стих тоже) - исповедью, покаянием в грехе, очищением и воспарением души,- не к Богу в рай, в духе прошлых веков,- а в будущее.
Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!
Грядущие люди!
Кто вы? Вот - я
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.
Гамлет тоже в сердце Офелии “плевал насмешку”. И Гамлет тоже дальше слов в отношениях с Офелией не заходил.
Так можно ли о Шекспире времен “Гамлета” говорить как о смешивающем высокое и низкое? Можно ли о наличии высокого и низкого говорить только как о равноправном смешивании? Не служит разве низкое высокому у Шекспира в “Гамлете”?
Смешно, что пружинящий вверх натурализм Джона Донна Аникст противопоставляет Шекспиру так: Шекспир <<
говорит нам о своих душевных муках, но его перо никогда [выделил я] не изображает нам эту ситуацию во всей ее живой конкретности [и Аникст в подтверждение приводит сонет 133]... Любовь и измена в шекспировских сонетах,- продолжает Аникст,- происходит неизвестно где, в неком поэтическом мире. Донн [же] низводит все до подлинной действительности... Иная, чем у Шекспира, поэтическая реальность сочетается и с другим нравственным духом. У Шекспира огорчение не убивает добрых чувств, тогда как лирический герой Донна лишен душевной мягкости...>>Но ведь сравнивается-то Шекспир времен сонетов, Шекспир первого периода, поздневозрожденческого, когда натурализма действительно у него мало было. Подтасовка!
Или вот: <<
Трудно,- пишет Аникст,- найти общность между “Венерой и Адонисом” и “Лукрецией” Шекспира, с одной стороны, и лирикой главы “метафизической школы” Джона Донна>>. И делает вывод из этой трудности, что Шекспир - не маньерист.А “Венеру и Адониса” с “Лукрецией” написал молодой Шекспир. Так на каких же идиотов рассчитана высокоученая статья доктора искусствоведения товарища Аникста?!.
Любыми способами хочется Аниксту скрыть низкую компоненту в Возрождении и возвышенную - в маньеризме.
*
А я ничего не скрываю. И того, что не сходится, - тоже.
Вот, например, с этой моей “высотой” маньеризма, с “высотой” “Гранатового браслета и, следовательно, с маньеризмом Куприна”... Накладка.
В “Морской болезни” Куприн качнулся “вниз”, довел же социал-демократку (уж куда как высокую духом) до чисто физиологического удовольствия от близости с совсем чуждым ей по духу бабником и развратником, с изнасиловавшим ее помощником капитана. По воле Куприна Елена Травина решила после этого не только расстаться с мужем,- за его якобы нетерпимость к случившемуся,- но и вообще отказаться от половой жизни - все, мол, мужчины есть скоты-эгоисты. И - всецело отдалась делу партии. Но Куприн-то к этой сублимации не присоединяется.
То есть получается каша - совсем по Аниксту: один и тот же человек - Куприн, например,- воздает должное и священной “высоте” и чувственной “низости”. Совсем по Аниксту, получается, что маньеризм - смесь, конгломерат высокого и низкого.
Я, признаюсь, долго не наносил на бумагу эту накладку.
Но что из того, что я сейчас разверну схему, которая и эту накладку объяснит? Я и не объяснив признался бы: “накладка”. Я уже решился признаться и оставить вопрос открытым, как вдруг пришла мысль, что опять можно сопрячь. Ольминского с Воровским и Плехановым.
Надо расщепить разочарование на “высокое” и “низкое”. “Высокое” пусть будет маньеризмом, и оно пусть будет уделом натур мужественных, стойких. И еще пусть будет оно случаем (нетипичным) для слабых, которые из слабости своей - на миг - вырываются к силе.
К “высоким” разочарованным, например, после поражения революции 1905 года, пусть относятся богостроители, богоискатели, Горький тех времен там будет и Луначарский тех лет, кажется, ну и Куприн “Гранатового браслета”.
К “низкому” же разочарованию пусть относятся люди слабые от роду или ослабевшие: <<
санинские многочисленные “прелюбы”... кузминская однополая любовь>>. Когда Куприн скис - и он, “Морской болезнью”, шатнулся туда же.После поражения всеевропейской революции 1848 года к “высоким” ренегатам пусть будет отнесен символизм, к “низким” - натурализм.
Достоевский пусть будет “высоким” разочаровавшимся, ибо в особую религиозность тянул.
“Новые левые” - “низкие”, ибо за сексуальную революцию ратовали.
Я не смогу всю историю искусств так причесать - необразован. Но тут есть над чем подумать, есть что направленно поискать.
И это лучше, по-моему, чем делать кашу из маньеризма как состоящую из механически смешанных противоположностей, о которых ни попытки нет объяснить, почему они смешаны, ни признания, что причина смеси не выяснена.
*
Пусть можно под общий знаменатель “разочарование” подвести и “высоких” и “низких” разочарованных. Пусть этот знаменатель называть маньеризмом можно. И пусть даже Аникст прав окажется, что Геррик и Гофмансвальдау со своей чувственностью-пафосом тоже маньеристы.
Но как подведение под общий знаменатель требует вполне определенных чисел для разных частных знаменателей, так вполне определенные логические операции должны сводить далекие друг от друга явления вместе. А небрежное сваливание в кучу, рядящееся в тогу широты взгляда, антидогматичности - неприемлемо.
<<
Литература и драма позднего Ренессанса,- пишет Аникст,- представляется нам своего рода фокусом, собравшим излучения, исходящие от различных художественных школ и направлений. В частности, в них находят художественные элементы, близкие к маньеризму и барокко. Поэтому наряду с принятым нами определением (поздний Ренессанс) в научной литературе встречается отнесение этих явлений то к маньеризму, то к раннему барокко. Это не лишено основания... Сочетание разнородных стилевых признаков при определенной направленности зрения исследователя и критика позволяет подчеркнуть в произведениях искусства маньеристские и барочные черты.Но что же тогда является действительным? Перед исследователем встают две возможности. Одна состоит в том, чтобы признать произведения такого рода принадлежащими только одному стилю. Для сторонников четких формул такой путь оказывается естественным, и они исключают возможность сочетания разных тенденций в одном и том же произведении или во всем творчестве писателя и драматурга.
Между тем реальная история литературы и искусства показывает, что “чистые” стили вообще встречаются сравнительно редко. Обычно в каждую эпоху существуют и борются между собой разные тенденции. Более того, разные художественные устремления встречаются и в творчестве того или иного писателя
>>.Понимай так: Аникст - за вторую возможность. Он не мальчик-максималист. И мы, взрослые, должны теперь его уважать и согласиться с ним. И, чего доброго, принять “нечистоту” стиля за норму. И не ругать ни художника прошлого, ни настоящего за то, что они путаются и даже в пределах одного произведения то героизм воспевают, то разочарование, то приспособленчество.
Ах, как хорошо! Сколько вещей шедеврами сразу окажется... И, может, к критикам тоже требования снизятся... И можно будет одни идейные явления в искусстве представлять другими, подходящими начальству сегодня... Например, разочарованного - героем...
А что есть тот или иной скептик, вообще не верящий в научное будущее литературо- и искусствоведения, что есть (и не один) человек, говорящий, мол, доктора этих “наук” могут “доказать” что угодно,- так ну его, скептика. Пусть им занимаются популяризаторы (то бишь упрощенцы и догматики), если найдутся не боящиеся приобрести такие ярлыки. А большой ученый... не ему - ставить точки над “i” и доводить до логического конца. Неосторожно. Да и мало ли, до чего доведет...
Да. Видно, муть о прошлых смутных временах нужна для того, чтоб не брать на себя ответственность в прояснении мути нашего смутного времени.
А чем же я отличаюсь от Аникста, признавая и антидуховность и духовность одновременно у одного писателя, например, у Куприна? - А тем, что я пытаюсь это объяснить психологически (Куприна - слабостью, случающейся и у сильной личности), причем психологические повороты,- получается у меня,- бросают художника не абы куда, а в четкие идейно-художественные русла огромной исторической величины: 1) в высокий пессимизм маньеризма, 2) в его тень - в низменный пессимизм.
И я теперь (в отличие от себя прежнего и от Аникста, пожалуй) готов принять мысль, что
возможно высочайшее искусство исторического пессимизма, а именно, пессимизма первого рода - “высокого”.Конец первой интернет-части книги “Сопряжения
| Ко второй интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |