

С. Воложин
Нагибин, Мошковский, Олеша,
Лермонтов, Баратынский,
Галич, Анчаров.
Художественный смысл.
| Нагибин – и в веках повторяющееся барокко, стиль художников, обслуживавших правящую верхушку советского, довольно-таки мещанского общества. |
Вторая интернет-часть книги “Сопряжения”
* * *
Зачем мне нужны все эти штудии маньеризма, пессимизма, титанизма и прочих слухопротивных “измов”?
А чтоб разбираться в искусстве сегодняшнем.
Что если ничто не ново под луною?..
Когда-то, разбирая фильм “Странная женщина” Габриловича и Райзмана, я пришел к выводу, что они (по крайней мере в этом фильме) явили себя как художники, обслуживающие правящую мещанскую верхушку нашего, в общем-то, довольно-таки мещанского общества.
Прочитав теперь сочинения Юрия Нагибина, я могу расширить свой вывод: сложился прямо-таки тип таких художников. Их задача - облагородить, возвысить, одухотворить жизненную практику нашего высшего мещанства.
С рассказами и повестями Нагибина я нынче встретился не случайно. Несколько лет назад я наткнулся на его очень сильно на меня подействовавший рассказ (буквально сердце разболелось) - “Терпение”. И такой в нем был сплав антивещизма, антипотребительства и личного, интимного несчастья... что когда мне недавно, в тугую минуту, захотелось выбить клин клином - свои личные беды сублимировать в гражданскую печаль - я запасся книгами Нагибина и стал читать.
Ничего не получилось.
Одна за другой нагибинские вещи растравляли мои личные горести и не выводили меня на гражданские переживания.
И я все не мог отделаться от мысли, что на меня влияет впечатление от нагибинского портрета в томе с названием “Царскосельское утро”.
С фотографии глядит хитрый, слегка маскирующий свое нутро, выбившийся в хозяева нынешней жизни хищник, бабник и, наверно, тайный - может, даже до самообмана - почитатель того же вещизма и потребительства, против которого он, якобы, направляет свои антимещанские повести и рассказы.
Но о своем физиономизме я издавна знаю, что он ненадежен...
И все же я никогда не отказываю себе в доверии и руководствуюсь, хоть бы и вначале, своим первым впечатлением.
Любое мнение не бывает абсолютно ложным. Даже в утверждении, что солнце находится на небе в двухстах шагах от земли,- писал Спиноза,- есть та правда, что солнце отделено от земли...
Исходя из своего непосредственного впечатления, я как бы задаю тон искренности, который (надеюсь) не даст мне слишком уклониться от истины под влиянием логики, не являющейся, как известно, критерием истины.
Но - ближе к разбору произведений, а не фото их автора. Ближе к делу.
*
Сначала, по прочтении первого рассказа - “Таинственный дом”,- я было подумал, что Нагибин - маньерист нашей эпохи.
Описывается время первого вхождения в силу капиталистических отношений в Японии. Прозаическим менялой быть стало более надежным средством существования, чем быть телохранителем феодала: в обществе стали торговлю предпочитать войнам. Умения тайного наемника, его искусство обороны и нападения стали меньше цениться, чем безличная сила денег. И ниндзя, принужденный своим кланом сделаться менялой, не может этого выдержать. Он человек чести, высших побуждений. И он захотел обмануть себя в своей прозаической жизни, сделав себе необыкновенный дом-ловушку для воров и тренируя свои боевые навыки по ночам. Но в торгашеском мире никто и не думает отнимать у него деньги силой, ловкостью или оружием. Ниндзе скучно. Душно. Нет жизни. Обыкновенная жизнь - не для него. Даже женой он не хочет обладать иначе как тогда, когда та спит. И кончается все это трагически - самоубийством героя. Он как Гамлет отказывается от любви и от жизни. И его дальний потомок, наш современник, как тень мелькнувший перед глазами рассказчика-туриста, обрек себя на в чем-то подобный отказ от жизни - на жизнь тени.
Вроде бы все сходилось с представлением о неоманьеризме - антимещанстве, иными словами (если вспомнить, что рассказ написан советским писателем, в стране, болеющей мещанством).
Я все вспоминал “Гранатовый браслет” Куприна. Немыслимая любовь, одна на миллионы... Что это такое, как не вид пессимизма: не для нас, смертных, такая любовь. Мы можем, конечно, иметь ее перед своим внутренним духовным взором как недосягаемый идеал, который, однако, ничем нам не поможет в выборе поведения в нашей реальной жизни... Только во время реакции появляются произведения маньеристские. И чем как не реакцией на поражение революции 1905 года является это купринское произведение, ищущее <<
совершенства за пределами земной жизни>> и объявляющее <<войну борьбе за земные идеалы>>. И вовсе это не реакция на первую сексуальную революцию ХХ века, развернувшуюся тогда в России,- как писал один комментатор “Гранатового браслета”.Так вот - не является ли, подумалось, нагибинский “Пик удачи” или “Где-то возле консерватории” чем-то таким же, чем был “Гранатовый браслет” для Куприна?
Тягостное впечатление от этих рассказов Нагибина: будто бы ты, читатель, видишь себя размером с мошку... Не потому ли это, что любови у Нагибина там все очень яркие, сильные. Чувства с большой буквы... Небывалые в реальной жизни...
В одном рассказе Нагибин даже впрямую, подзаголовком, это обозначил: “современная сказка”. Я имею в виду рассказ “Пик удачи”.
Это рассказ о сомнамбулическом состоянии покинутого женою мужа, рассказ о состоянии, окончившемся самоубийством. А чтобы мы легче вжились в это состояние, Нагибин скрещивает фантазию с реальностью, как Грин. Конструирует откровенно, измышляет какой-то особый мир не незаметно для нас - нас не обманешь - а как будто уже договорившись с нами заранее, что мы согласны послушать сказку - как дети.
А послушав, почему бы нам не поверить в нее. Ведь сомнамбулическое ж состояние - это ненормальное состояние. И в наше время кризиса семьи, когда число разведенных скоро приблизится к числу неразведшихся, кончать самоубийством из-за ухода жены нам, трезвым, конечно же, кажется ненормальным. Так почему не признать трагический финал логичным для такого необычного состояния? А логичность - наша слабость: уважаем ее. И вот - мы на крючке. Нас вовлекли. А это значит - сочувствие несчастному. А коль скоро мы посочувствовали - та же логичность заставляет нас сравнить себя с самоубийцей Гаем: мы - крошки.
Такая мысль тем легче приходит, что Гай - великий ученый, нобелевский лауреат и даже среди лауреатов - гигант. Однако как брошенный муж он равен миллионам подобных. Значит, сопоставление - естественно. И в нем он - возвышеннее нас, обычных. И вот мы уже не нормальными себя числим, а обычно-серенькими, маленькими... А финальная фраза внушает это впрямую:
<<
- Знаете, коллега, я вдруг понял, почему вы и все вам подобные никогда не откроете ничего путного. Именно потому, что вы не способны покончить самоубийством, если вас оставляет жена>>.(Или любовница, как в случае с гигантом - лирическим героем Маяковского:
Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
)Или удивительная в нагибинском изложении платоническая любовь Петра Ильича Чайковского...
Да, он композитор, он исключительная личность на фоне обычных людей. Но не только. И на своем профессиональном фоне он тоже исключение - ставший взрослым “стеклянный мальчик”. Именно вследствие своей душевной исключительности он, надо понимать, достиг уровня гениальности (в оценке Нагибина). И вот такую исключительность относительно себя - аборигена страны Обыкновении - мы принимаем. Но опять: именно из-за душевной же исключительности Чайковский оказался способным на ТАКУЮ (сильную, причем тем сильнее, чем платоничнее) любовь.
Опять как с Гаем: кто может страстно любить, тот может и творить. И то и другое - как с героем купринского “Гранатового браслета” - не про нашу честь.
Но вот Нагибин берет уже маленького и серенького героя (хоть доктора наук, но признающего себя не исследователем, а только популяризатором) и показывает, что и такой может быть довольно-таки возвышенным.
“Где-то возле консерватории”.
И опять автор берет быка за рога: в двух фразах вводит нас опять в особую ситуацию, на этот раз, правда, найдя более органичный для нас, реалистов, мотив - наступление старости героя. Нагибин вводит нас в состояние, когда герой стал “безнадежно и душно несчастным, каким он никогда не бывал до прихода старости”
.И вот этот герой, археолог Петров, из своей старости вспоминает жизнь, и она представляется читателю несчастной, а герой - возвышенным, возвышенным в том, что очень глубоко умеет чувствовать свою несостоявшуюся любовь.
(Ему хотела отдаться влюбившаяся в него девушка Таня. А он - женатый - хоть и почти прогнанный женой, но еще очень ее любивший - даже “мелькала мысль о самоубийстве” - итак, он отказался от Тани, очень симпатичной ему. А к старости понял, что ошибся, отказавшись.)
“Лучше этого ничего не было в жизни. Никчему тут и сравнительная степень, просто ничего не было, кроме этого...”
Вот как!..
Есть такая форма чувств - инактуальная. Наверно и любовь может быть в такой форме. Вот у нагибинского Петрова нечто подобное. Он был на курорте, однажды стал тонуть в море. Его спасла девушка. Несколько дней встречались с ней, и ее отпуск кончился. Почти не было слов. Когда поезд ее увозил, он видел, глаза ее наполнились слезами. Потом в жизнь Петрова вмешалась потерпевшая где-то фиаско его первая, еще школьная любовь, изменившая было ему с кем-то, а теперь вычислившая, что нужно Петрова себе вернуть. Женился. Потом она его - неудачника - оттолкнула. И он всю жизнь думал, что забыв о жене через несколько лет, он забыл о ней совсем, а оказалось не совсем так - не забыл, “инактуально” любил. Но поняв это, понял и другое, что “инактуально в квадрате” любил, мол, он всю жизнь ту, от которой его первая жена его как бы отбила (после курорта) и с которой как бы не дала сойтись (при новой встрече) - Таню.
И началось старческое “наваждение прошлого”. Опять, как в “Пике удачи”, сомнамбулическое состояние:
<<
И все это время он испытывал странный молодой подъем, прекращавшийся лишь ночью в бессоннице... Он ложился с радостной надеждой на ожидающее его утро, когда можно будет снова начать жить, работать, думать о Тане... В эти ночные пустые часы ему не думалось, не вспоминалось, не любилось. Сердца не было, но он все-таки жил, будто по инерции, затем, поняв, что разгона еще надолго хватит, успокаивался, засыпал и просыпался опять счастливый>>.Это через тридцать лет после одного объятия в постели так переживает мужчина.
<<
Я должен искать ее, думал Петров... я должен искать ее без всякой надежды. Искать в других, в моем прекрасном сыне, в отдалившейся дочери и пусть жена [вторая жена, не та, что “помешала” Тане] чужда мне, я все же не откажу и ей в зоркости; искать в каждом человеке и в себе самом, прежде всего в себе самом искать этот свет, делающий жизнь драгоценной. Я больше не боюсь старости, пусть приходит, если еще не пришла, я готов соответствовать ее целям и достоинству. Я знаю теперь, старость - не остановка, не начало конца, а новая ступень ракеты, летящей в неведомое нам, вон к той пушистой звезде [у Тани были пушистые ресницы].Он знал, что нужно терпение, а чудо явится, не может не явиться.
Чудо явилось куда раньше, чем он ожидал. Ночью, после того как он долго не мог уснуть, не то чтобы встревоженный, но как-то сбитый с толку беспорядком в грудной клетке: сердце то обрывалось, то колотилось оглушающе громко в плече, в горле, в виске - какой сон в таком шуме! - то замирало и почти вовсе останавливалось - пойди усни в такой зловещей тишине! - в измотавшей его дурманной яви, он почувствовал рядом с собой долгое прохладное тело, и легкая нежная голова прилегла ему на локтевой сгиб, и без удивления, с мгновенной готовностью к счастью он понял, что Таня наконец пришла. И он принял как должное, что приходится расплачиваться за это разрывной болью под черепной крышкой и таким стеснением в груди, что едва не выпустил Таню из рук. Но все-таки не выпустил и держал до последнего мига так просто покинувшей его жизни.
Он умер от инфаркта и инсульта, происшедших одновременно...>>
(Чем Петров не аналогия, опять, исполину Маяковского:
На теле твоем - как на смертном о`дре -
сердце
дни
кончило.
)Петров умер, в сущности, от несчастной любви. Но он был любим, по крайней мере. Причем это слово “любим” в отношении Петрова не просто обозначение того, что бывает с миллионами мужчин в один прекрасный день, в одну прекрасную ночь ставших желанными, каждый, для своей женщины. Такое Нагибин создает ощущение, что как Петров любит Таню всю жизнь с того памятного объятия, если не еще раньше, так и Таня его всю, в сущности, жизнь любила. И это все - не видя друг друга
!..А умеем ли мы, рационалисты, всю жизнь любить? И мыслима ли для нас ТАКАЯ любовь - на расстоянии?
Вот и пигмей Петров оказался великаном, а мы - крошками, не ровня нагибинскому герою.
И если бы все рассказы Нагибина были такими же или если бы каждый из рассказов был только таким, каким я его сейчас представил, то можно было б и остановиться в своей оценке Нагибина как неоманьериста и поставить точку.
Но... Но лучше я не голословно...
*
И в “Где-то возле консерватории”, в этом самом, пожалуй, идеальном рассказе Нагибина, есть какая-то - с маньеристской высоты глядя - червоточина.
Натурализма таки в нем мало, сколько есть - скомпенсировано как бы нереальностью: погруженностью всего - в сознание Петрова; все дано через его воспоминания. Все - отрывочно. Перемешано. (В сознании - все возможно.) Всего - как бы нет. Все - освещено как бы идеальным. Но все это идеальное - как трамплин для прорыва в несостоявшееся чувственное. Щемящее сожаление по несостоявшемуся совокуплению Петрова и Тани озаряет, если можно применить это слово, весь рассказ.
Маньеристы, послеренессансные мистики, Маяковский - с болью рвались “ввысь” из “низа”. У Маяковского герой после того, как “сердце дни кончило” на теле любимой (а это - в результате того, что любимая его “убила” - то ли изменой, то ли мещанством), этот герой через угрозы “изнасиловать любую юную” кончает покаянием и одухотворенным возвышением в “сад фруктовый” его “великой души”.
А нагибинский Петров, похоже, рвется “вниз” из “выси”. У него в какой-то мере достигнутой целью оказывается то, что было у героя Маяковского вначале, то, что было у Маяковского фигурально: “на теле” Тани “как на смертном о`дре сердце дни кончило”
.Имей Петров возможность, он бы реализовал, наверно, то, что позволила себе одна богачка из романа “Комедианты” Грэхема Грина: почувствовав приближение смерти она заставила своего любовника - зависимого от нее слугу - совокупиться с нею, и умерла в его объятиях.
Вот он - недосягаемый идеал мещанина, достигнутый Петровым идеально - в сознании...
Или вот... Что это такое: смотрите? Что за загадочное слово произнес перед смертью Чайковский, как это изображено Нагибиным в конце своей повести “Когда погас фейерверк”:
<<
- Надежда!.. Надежда!.. - и вновь зовом, молитвой: Надежда!.. и со скрипом зубов, с невыносимой болью: - Проклятая!..>>Многие годы графиня Надежда фон Мекк, влюбленная в музыку Петра Ильича, снабжала деньгами Чайковского, всегда материально бедствовавшего, снабжала бескорыстно: они договорились никогда не встречаться и лишь переписываться. С закономерной неизбежностью началась духовная близость, сильно тяготевшая - опять же с закономерной неизбежностью - к близости физической, чего, впрочем, не произошло из-за неуверенности Надежды в своей привлекательности и из-за слишком уж духовного “загиба” у Чайковского.
Таков сюжет повести. А фабула - неукротимое стремление к чувственному восполнению духовного, неукротимость подспудного, которое будучи все же укрощено волей - мстит: фон Мекк сходит с ума, а Чайковский проклинает свою музыкально славную жизнь.
Ведь это ж проклятие в свой адрес: “Проклятая!..” Произнесенное в последний миг жизни, оно относится ко всей жизни.
Похоже, что автор повести, товарищ Нагибин, знает лучше, чем Чайковский, как распорядиться жизнью творческого человека, каковым, кстати, является он сам, знает лучше, какая должна быть пропорция духовного и физического.
*
Между прочим, вот что получается с нагибинской оценкой Шестой симфонии Чайковского.
По Нагибину эта вещь выражает бесстрашие русского композитора перед ликом смерти, которую тот предчувствовал и которая наступила через несколько дней после исполнения симфонии. Бесстрашие, понимать надо, достигнуто было Чайковским в результате последовательного отказа от низкочувственной, так сказать, жизни как это продемонстрировано в истории с фон Мекк. Авторскими словами Нагибин оценивает Шестую как произведение гениальное. Надо понимать, что и сам нагибинский Чайковский, будучи специалистом в музыке не меньшим, чем Нагибин, должен был с Нагибиным-автором согласиться в оценке: гениальная. Тогда, если в миг перед смертью Петра Ильича (по Нагибину) озарило, и он в секунду переоценил свою жизнь, то должна была быть переоценена и Шестая. Однако, если вся повесть - в сущности, стремление к чувственному и последние ее слова (и миг жизни Чайковского) - апофеоз повести, то, выходит, Нагибин выдал оценку Шестой вразрез с пафосом своего собственного опуса. Выдал нагора художническую ложь.
Кстати, лживость Нагибина в этом пункте чувствуется и непосредственно (без логических умозаключений). Не бесстрашие перед смертью чувствуешь, слушая Патетическую, а ужас. По крайней мере я, признаюсь, не раз плакал, слушая ее. А плач - не от внушенного мне бесстрашия и не от сочувствия к “лирическому герою” симфонии, которого с собой, мол, не отождествляешь. (В музыке, по-моему, вообще не бывает, чтоб “лирический герой” не отождествлялся слушателем с собой.)
И мое чувство - ужас - вполне соответствует четкой оценке Шестой талантливейшим слушателем А. В. Луначарским: мол, рыхлый Чайковский здесь просто рыдает перед разверзшейся могилой своей. А я Шестую слушал раньше, чем читал Луначарского...
*
Высокодуховный Гай... Если в него внимательно всмотреться, не померкнет ли его духовность?
Чтоб приобрести оптико-измерительные приборы для вглядывания в Гая, еще немного отвлекусь.
Критик Гачев пишет: <<
Представим себе такую ситуацию. Встретились два приятеля. Они оба собираются жениться, притом один женится по любви, а другой - по расчету. Зададим им обоим вопрос: почему? зачем? И мы неизбежно столкнемся со следующим положением: тот, кто женится по расчету, сможет четко и связно объяснить и доказательно обосновать свое намерение, а тот, кто женится по любви,- не сможет. В самом деле, женящийся по расчету приведет вам целую батарею доказательств. Его невеста красива, умна, отзывчива. Она уже давно его друг, понимает его характер, прихоти. Она аспирантка или, наоборот: “простая” - но ему и нужно жену “без хитростей” и т. и т. д. Словом, по вкусу и нраву могут быть приведены различные цепи доказательств. Во всяком случае, расчетливый опирается на общезначимые факты, объективные по своему содержанию: не ему лишь одному представляется, что его избранница добра, аспирантка, обладает красивой фигурой,- но это объективные истины.Другое дело - женящийся по любви. В плане своего объективного и фактического содержания доказательства, которые он приводит, могут быть весьма легко разрушены... А ведь доказательно лишь то, что очевидно для всех. В итоге женящийся по любви вынужден будет просто заявить: “Я ее люблю, и все тут”,- т. е. дать уверение, а не доказательство.
...как раз самые коренные явления бытия и есть те, которые труднее всего доказать
>>.И Гачев ругает далее тех, у кого <<
логика дерзает занять место жизни, отменить ее первичность>>.И вот, для иллюстрации, отрывок из рассказа писателя, у которого логика не дерзает занять место жизни, отменить ее первичность:
<<
Все ниже тучи. За рекой из одной тучи уже потянулись полосы дождя. Инга переворачивается на бок, и солнце упирается в ее плечи и шею. Глаза у нее закрыты.- Инга,- внезапно спрашивает Ленька, вытягиваясь рядом,- а ты не побоялась бы лезть в вулкан?
- Чего это? - лениво, не открывая глаз, спрашивает она.
- Ну, в вулкан... Это очень важно. Мы ведь так мало знаем о том, что делается в глубине Земли, о ее газах и рудах, о ядре - расплавленной магме... Туда вулканологи спускаются на веревках... Я вчера по радио слушал, как они...
- Дай немножко поспать,- говорит Инга и переворачивается на другой бок,- конечно, полезла бы. Если надо будет...
...Он немного сомневается, полезла бы она или нет. Другие девочки ему ясны, совершенно ясны и просматриваются насквозь, как кристалл соли в химическом кабинете, а вот в Инге ничего толком не поймешь...
И ломака она, и простая, и трусиха, и отчаянная, и дурочка, и умница, и эгоистка, и лучший товарищ. И все это вместе. А в общем, лучше ее не может быть никого. Даже Ира Красавина из седьмого “Б” со своими бархатными глазами, иголками ресниц и косами до пояса, в которую влюблена половина школы, и та хуже.
Честное слово, хуже.
Ленька в упор смотрит на Ингу. Ее щеки покрывает тончайший, почти невидимый пушок. И еще руки, на которых она лежит, сложив ладони подушкой. Ноги ее согнуты в коленях и лежат чашечка на чашечке, и они очень круглые, и одна чашечка с сильной ссадиной, и Леньке становится вдруг больно, точно эта ссадина на его собственной ноге.
Он все знает о жизни, Ленька. Все. Буквально все. По разговорам ребят и по художественной литературе. И все-таки чего-то там не сказано. Не все там сказано так, как бывает на самом деле. И острое, тревожное, крепкое, упругое чувство счастья рождается где-то в глубине, идет к нему волнами, растет, ширится, заполняет все существо, рвется наружу, вырывается и обнимает весь этот огромный предгрозовой мир с черными тучами и солнцем...
>>Потом там грянула короткая летняя гроза и дети, переждав ее под дубом, покатили на велосипедах. Это Мошковский. “Ленькина радуга”.
А вот гроза, заставшая нагибинского Гая:
<<
Независимо от главной тучи над тем берегом проходят небольшие сизые тучки, обметая купола монастырских храмов длинными бородами дождей. А здесь - солнце, блеск и какие-то лубочные кудрявые облака.О том, что должно было случиться, оповестил изменившийся блеск озера. Вместо золотой, игристой ряби по натихшей воде простерлись тускло-серебристые полосы. Замолкнув, рассеялись птицы. Пусто стало над озером. И тогда они, не сговариваясь, воткнули удилища в грунт и пошли в сосновый бор, отделяющий озеро от шоссе. Их приятель, заядлый рыболов, крикнул укоризненно:
- Куда же вы, самый клев!..
Ответа он не дождался. Они опустились на землю у подножия рослой, мачтовой сосны, на мягкую подстилку из старых, мертвых игл и стали целоваться. Они не говорили друг другу никаких любовных слов, да и не нуждались в этом нищем лепете. А потом было молчаливое исступленное проникновение друг в друга, и по пути отбрасывалось все, что мешало. Они и не заметили, как оказались нагими, они не помнили о том, что рядом вилась лесная тропинка, но видно, бог хранит пьяных и влюбленных. Они не разомкнули объятия и когда разразилась готовившаяся весь день гроза. Крона сосны недолго удерживала поток, вскоре холодные струи принялись хлестать их по незащищенным телам. В лесу потемнело, и молнии то прошивали сумрак короткими, острыми вспышками, то распахивали лес бледно-голубым блистанием, а потом наступал гром, вселенная рушилась, и нарастало водоизвержение - казалось, что это озеро, восстав из берегов, обрушилось на лес всей своей громадностью. И они уснули, соединенные, под грозу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Они очнулись, но еще долго лежали в изнеможении, не в силах натянуть одежду и вернуться в трезвость существования, к другу-рыболову, удочкам и банкам с мотылями. А по тропинке так никто и не прошел...
...Многое дурное, что принесла Рена потом в их отношения, всегда перекрывалось их первым объятием, под грозой. “А могла бы другая женщина быть со мной так доверчиво и бесстыдно, так самозабвенно и расточительно близкой?”- спрашивал он себя и сразу отвечал: “Нет!” Но однажды, когда это “нет!” звенело в нем с обычной радостью, он вдруг трезво и холодно подумал: а почему, собственно, нет? Могла бы и другая, и даже не слишком высокого пошиба. Безоглядность и неосторожность присущи женщинам в гораздо большей мере, нежели мужчинам. Редкий мужчина на его месте отважился бы на столь откровенное языческое действо - из стыда, боязни ответственности, огласки. Но очень многие женщины последовали бы за тем, кто повел их за собой. Но бесстыдство какой-нибудь искательницы приключений не имеет ничего общего с чистой самоотдачей человека, чувствующего груз звезд и все тайные содрогания мира. И зря пытается он подвергнуть сомнению лучшее переживание своей жизни. Этим не спасешься. Да и не стоит спасаться таким способом: обесценивать былое. Это самозащита низких и ничтожных душ...
>>А Гай - душа высокая. И вот он покончил с собой из-за ухода Рены.
Еще раз зададим себе вопрос: не высокий ли печальник, не маньерист ли Нагибин? И еще раз укрепим свою базовую позицию - позицию “высокого” маньеризма.
Неиндивидуализированная, фатальная, неизбежная, иррациональная любовь (по В. Дж. Кирнану) у елизаветинцев, современников Шекспира, нареченных мною маньеристами, режется, вроде бы, с выдуманной мною дифференциацией “высокого” маньеризма и “низкого” имярек, еще не имеющего названия. Неиндивидуализированность - это “низкое”, почти животное. Иррациональность, магическая сила, колдовство, необъяснимость полового влечения - это нечто, “высоким” отдающее. Совмещенные воедино, они вообще смахивают на барокко, объединяющее крайности...
Но.
И Гамлета к Офелии тянет лишь потому, что она молода и красива. Ничего объясняюще-высокого - как с Беатриче и Бенедиктом (например, стремления защищать жертвы несправедливости) - у Гамлета по отношению к Офелии нет. А тянет - нечто невольное - по Кирнану - колдовское, непонятное, иррациональное. Маньерист Шекспир совпадает здесь с маньеристами елизаветинцами. (Офелию в этом анализе надо вынести за скобки. Шекспир сделал так, что неясно, как она относится к Гамлету, любит ли его, тянет ли ее к нему. И раз у нее совсем пассивная роль - не будем о ней больше.)
Итак, Гамлет Офелию любит и - если можно так выразиться - не шибко высокой любовью.
Но он же и ненавидит себя за такую любовь. А поскольку любовь с ненавистью сопрягаются, он и Офелию как бы ненавидит - хоть бы за послушность пошлому отцу, за марионеточность (не говоря уж об упоминавшемся малевании).
Гамлет
Я бы мог служить толкователем вам и вашему милому, если бы мог видеть, как эти куклы пляшут.
Офелия
Вы колки, мой принц, вы колки.
Гамлет
Вам пришлось бы постонать, прежде чем притупится мое острие.
Офелия
Все лучше, и все хуже.
Гамлет
Так и вы должны брать себе мужей.
Да, “низкое” - иррационально. И иррациональность его - никак не признак “высоты”, устремленности к общему, общественному, титанизму, утопизму. Шекспир поведением Гамлета это “низкое” отрицает. Так не занимаются ли чем-то аналогичным елизаветинцы, когда их пьесы с неиндивидуализированной магической любовью кажутся Кирнану <<
застывшей холодной луной>>? Отрицают и они.Может, и неуютность, испытываемая читателями рассказов Нагибина, того же рода? - Нет. Нагибин “низкое” не отрицает.
На кого похож Гай: на рационалиста, аналога первого из гачевских приятелей, умеющего объяснить, почему он женится на данной особе, или на антирационалиста, по-гачевски - лишь пытающегося, но неудачно, обосновать свой выбор (ибо доводы его легко разрушаемы)?
Пока в Гае звенит “нет!” на вопрос, могла б ли другая женщина так ему отдаться, как Рена,- это Рена для него объективно исключительна. (Именно объективно. Интимность знания здесь не помеха объективности. Каждый, кто подсмотрел бы их в лесу в ту грозу, признал бы, пожалуй, высшую степень “доверчивости и бесстыдства, самозабвения и расточительности” этой женщины.) И Гай - пока так думает - рационалист.
Гай, оспаривающий свое “нет!”, это как бы посторонние люди, опыт которых вдруг стал известен протрезвевшему Гаю; и эти люди легко разрушают доказательства исключительности Рены и ставят ее в ряд других, даже не искательниц приключений, а в ряд женщин “чистой самоотдачи”, потому в ряд, что “безоглядность и неосторожность присущи [мол] женщинам”
.Гай-любящий обескуражен. Он чувствует, что для него-то Рена исключительна, и потому отмахивается от доказательств (как у Гачева: <<
Я ее люблю и все тут>>). То есть то, что казалось рационализмом, оказывается только неудавшейся попыткой объяснить, чем его присушила Рена. Так что иррациональность любви Гая вроде бы налицо.“Низость” его любви также налицо:
<<
Она была естественна, как зверь, и это - лучшее в ней>>.<<
Ее не интересовала его работа... была какая-то странная непонятная спесь в ее пренебрежении делом его жизни. Спесь и узость. Да и невежество. Культурный слой ее души вообще был очень тонок... Но какое дело было ему до всех этих ничтожных соображений, когда она наконец приходила! Безразличная к его заботам и размышлениям, она остро и нежно отзывалась на все перемены в его облике... и Диккенс и Джойс, вся компания ни черта не стоили перед этим чистым проявлением доверчивой жизни. Вот этим она и брала>>.<<
Что-то детское и вместе испорченное было в этом [ее] освобождении [себя] от всякой ответственности. Он виноват в том, что ей стало с ним скучно, не остро...>><<
Длительные и непрерывные чувства не ее стихия. Мгновенная самоотдача и вслед за тем ледяной холод - это она. И ни малейшей способности управлять собой, своими чувствами. В чем-то это прекрасно, как прекрасна всякая подлинность...>><<
Она относилась к животным, как к равным...>>В общем, ничего равнозначного ингиному “конечно полезла бы [в кратер вулкана], если надо будет”
.А Нагибин, тем не менее, возвышает:
<<
...Утратив любимую, он утратил все именующиеся у него представления о мире. Сейчас все, что он видит: дом, дерево, птица, собака, скамейка, почтовый ящик, лестница, облако, звезда - содержит скрытый привкус боли, ибо сложнейшим, неуловимым ассоциативным путем приводит к Рене. До Рены окружающее было словно туманом подернуто, все было, но ничего не было: не предметы, не существа, а тень предметов, тень существ. При Рене все, населяющее мир, включая его самого, налилось полнотой существования: красками, запахами, звуками, очевидностью второго, высшего смысла. Любовь возводит предмет в ранг самого себя; потеря любви превращает предмет в образ боли, а пока любовь не настала, предмет существует лишь как знак своей голой сути. Додумавшись до этого смутного вывода, он стал проверять, действительно ли при Рене дерево было Деревом, забор - Забором, скамейка - Скамейкой, звезда - Звездой. Да, сейчас казалось, что это так...>>Это как у того же - опять - Гачева:
<<
Вот я еду в автобусе, читаю газету, испытываю толчки проходящих - эта езда, пребывание в автобусе для меня только средство скорее добраться до места, и я стараюсь провести это время как можно незаметнее, чтобы как можно меньше ощущать саму езду... Но вот... мое тело вдруг вспомнило то пережитое еще в детстве ощущение первой поездки в автобусе. Ведь автобус - это же чудо! Сижу уютно, как дома, и в то же время несусь с бешеной скоростью. Тогда покачивание на мягких рессорах тут же переливало свой ритм в меня, тогда от толчков и подбрасывания на ямах, ухабах я с блаженством подпрыгивал и, зажмуривая глаза, кричал “ух!”, тогда я с любопытством вглядывался... в окно: мелькание зданий, вывесок - все это жадно впитывалось мной. (Такое же освеженное восприятие самых обыденных вещей возникает у человека, когда он впервые выходит на улицу после болезни или возвращается в город после долгой отлучки.)>>Только Гачев все-таки отличается от нагибинского Гая. У Гачева <<
надо, чтобы у человека широко во все стороны была раскрыта душа>>: <<ко всем явлениям, мыслям, людям>>. А у Гая ко всему этому раскрыта душа, только если у него есть такой звереныш, как Рена. У Гачева - масса родников освеженного восприятия (любое, что первый раз, любое, что после долгого перерыва), а у Гая - лишь Рена.Да: у Гачева - чем больше раскрыта душа к якобы обыкновенному, <<
тем больше вероятность открытий и в области профессионального труда>>. Это же вышло и у нагибинского Гая. Но откуда следует, что достаточно лишить человека особенных впечатлений, как рухнет вся пирамида его интересов.Это возможно только у человека, для которого любовь - главное в жизни. Такой человек не может, однако, быть большим ученым, нобелевским лауреатом. Таким человеком может стать только дамочка прошлого века времен до эмансипации женщин.
Немудрено, что у Нагибина ничего не получилось с мотивировкой невозможности для Гая после ухода Рены окунуться опять в свою науку, или в религию, или в искусство.
Вот, например, мотивировка отказа от литературы:
<<
Он убедился, что за последнее время все научились писать, плохой прозы почти не было, а совсем плохой - так и подавно... все обладали каким-нибудь фокусом, позволяющим отличаться от других пишущих, но читать стало нечего... все ищешь второй, главный смысл в бездушном мелькании материальных подробностей... и находишь пустоту...>>Ну, а старых (если уж новых совсем так-таки и нет), идейных писателей он, Гай, всех на свете уже перечитал? Или они устарели, и искусство не вечно? Или для старых надо было подняться с дивана и пойти в библиотеку - непреодолимое препятствие?!.
А вот - о религиозности.
Сколько я понимаю, в религиозности - или отказ от себя во имя высшего, пренебрежение юдолью земной жизни в сравнении с бесконечной жизнью души, может, к Богу как-нибудь сумеющей приблизиться, если трудиться на этой ниве, как бы ни трудно было,- или религиозность - это (по-протестантски) ощущение Бога в себе, высшего - в себе.
А как молится Гай?
<<
“Пусть она оставит меня, совсем, пусть уйдет из меня, как ушла из моего жилища... Дай мне свободу!”Но как-то тревожно становилось ему при мысли, что Бог исполнит его просьбу и освободит от Рены... А все-таки... Ведь если Рены не будет, образуется пустота, жутковатый вакуум, который ничем не заполнить
>>.А Богом?.. Но, похоже, Гай не созрел для религии; он настроен у Бога только брать, но ничего (а душу надо бы) Богу не давать. Какая же это религиозность?..
И с научным творчеством - такая же неувязка.
<<
- Видимо, мне остается одно,- сказал Гай,- кинуться в новую работу, как в омут. Затеять что-нибудь грандиозное...Что-то похожее на сожаление мелькнуло в старых глазах Гомбурга.
- Не обольщайтесь на этот счет... Наши хозяева - очень взрослые и совсем не увлекающиеся люди.
Гай недоуменно поднял брови.
- Они прекрасно знают, что никому не удалось сорвать банк дважды.
- Вон что!.. Значит, я для них выжатый лимон?
- Мавр сделал свое дело...
- Черт с ним! У меня есть свои деньги. Лишь бы работать.
- Это другой разговор,- меланхолически произнес Гомбург.- Когда есть деньги...
- А как по-вашему, можно второй раз сорвать банк?
- Вы обязаны этому верить. А я не знаю
>>.И разговор оборван.
Нагибин-то может разговор оборвать, но не убедить, почему Гай отказался утонуть в омуте под названием “лишь бы работать”. Ведь процесс - засасывает.
Гаю Нагибин просто не дал кинуться в омут работы, а кинул его вдруг,- наконец!- в “высоту” гамлетовского типа, с которой жизнь оказалась нестоящей продолжения. Нагибин кинул Гая в осознание вывихнутости века:
<<
Полное отчуждение, так это называется; холодная бесчеловечность миропорядка, где все продается и покупается, где властвует равнодушие, страшное как смерть....Та же сила, что лишила Гомбурга работы, жизненной цели, даже имени, что заграбастала его, Гая, открытие, отняла у него Рену. Не к чему копаться во всем этом, прослеживать сложные связи...
>>Нет, копаться есть в чем.
Гомбург не козырь. Слишком у него проходная роль. Его могло не быть - рассказ бы ничего не потерял. Конечно, толкнуть Гая к Богу мог только такой же - уважаемый в науке человек - нобелевский лауреат. Но стоило ли Нагибину туда толкать Гая, чтоб тот автору ж и “воспротивился”. А о дальнейшей работе в науке Гай мог поговорить с кем угодно. История же Гомбурга - если и сопоставима как-то с гаевской, так совсем не так, как в конце рассказа хочется Нагибину: Гай, сделав лекарство от рака,- предмет широкого потребления,- угодил бесчеловечному рыночному миропорядку, и этот миропорядок не лишил Гая ни работы, как Гомбурга, ни жизненной цели, как Гомбурга, ни имени, как Гомбурга, а наоборот, присвоил ему, во внеочередном - впервые в истории - порядке, нобелевскую премию, медаль “Благодетелю человечества” с дипломом, подписанным главами всех государств планеты и чек на миллион долларов.
Так что Гомбург не козырь.
О заграбастании гаевского открытия “фирмачами” в рассказе лишь пара строк. Не мучили Гая общественные недуги и нечего его запоздало - на последних двух страницах - примазывать к столь высоким страданиям.
И вообще, весь мир свободного рынка на протяжении всего рассказа так слабо обозначен, что можно было б на него не пенять ни Гаю, ни Нагибину.
Можно, впрочем, сказать, что социальная нейтральность - это прием обобщения, позволяющий представить личное несчастье Гая возможным и в социалистическом обществе, тем более, что социализм у нас поражен болезнью мещанства с его принципом “все продается-покупается”.
Можно сказать также, что все натяжки Нагибина в мотивировке и вся нетипичность Гая - это трансформация действительности, тем паче трансформация, что она заявлена: современная сказка - трансформация, нужная для этого вот главного - для отрицания системы холодного бездушия мещанства, эгоизма.
Можно сказать, что этакая архиупрятанность смысла - наряду с мизерностью числа строк о социальном - это последствия засилья цензуры.
Можно сказать, что все натуралистическое, субъективно-ценное, чувственное возвышается и эстетизируется Нагибиным для того, чтоб перегореть Гаю в самом себе и прийти к противоположному - к возвышенному, к отрицанию эгоцентризма с вытекающим из него равнодушием ко всему, что не “я”. Можно.
Но нужно тогда сказать, что этак сверхупорядоченный смысл в 1970 году не нужно было так уж прятать от цензуры; нужно тогда сказать, что очень уж режут глаз натяжки и нетипичность, и что слишком уж перевешивает эстетизация “низкого” (ведь чуть не весь рассказ - чувственное, Дерево, а не дерево), слишком уж это перевешивает несколько строк “высокого”.
Проще сравнить “Пик удачи” с “Гамлетом” и сказать: Гамлет не мог удовлетворить “высшие” потребности своей души (исправить век), из-за этого отказался от удовлетворения “низших” и вообще от жизни. Гай же не смог удовлетворить “низшие” потребности своей души. Это отшибло у него вкус к потребностям “высшим” (общественным, не личным): к религии, к профессиональному творчеству на благо людей,- и он остался ни с чем. Отсюда - самоубийство. Гамлет уходит из жизни во имя “высших целей, Гай - во имя “низших”. Какой же у Нагибина маньеризм”? - Нет его. Есть только запоздалая и слабая потуга на него.
А еще проще сказать: у Нагибина есть желание и попытка возвысить “низкую” жизненную практику высших слоев мещанства.
В своем желании развенчать высокий якобы маньеризм Нагибина я, признаюсь, склонен даже то, что по Гачеву является неудачной попыткой рационализировать любовь, в случае с Гаем считать изображением удачной попытки рационализировать - рационализировать влюбленность
.Слишком четко Гай знает, что есть лучшее в Рене (“естественна, как зверь”), чем она “брала”
(“простотой” - как у гачевского рационалиста), чем “перекрывалось многое дурное в их отношениях” (“их первым объятием, под грозой”). У Гая, собственно, не любовь, т. е. чувство к целостному человеку (как у того Леньки: “лучше ее не может быть никто”, а почему - и выразить нельзя),- у Гая влюбленность - в бездуховную, если можно так сказать, часть Рены, а грубее - в ее естественную непритворную животность.Более того. Я Нагибина подозреваю в попытках возвышать не влюбленность даже, а простую тягу полов, похотливость, грубо говоря.
Теоретически (от Гачева) мы уже знаем, как возвысить хоть бы и любую обыкновенность, как то - поездка в автобусе. Добавлю лишь еще несколько строк цитат к уже цитированному:
1) <<
И как только во мне возникло это... как в первый раз происходящее, восприятие, я перестаю переживать данное мгновение (езду в автобусе) автоматически и переживаю его творчески>>.2) <<
Акты свободного творчества>> совершаются <<обществом и людьми каждый день в миллионах точек жизни как... “исключения” из правил, которые тут же, но опять временно, становятся новыми правилами... Они всегда неожиданны [творческие акты] с точки зрения установленного порядка жизни...>>3) <<
Происходит... замыкание моей личности с куском окружающей среды, которые есть суть творческого акта>>.И вот, чтобы возвысить чувство Гая к Рене Нагибину нужно: 1) тысяча первое объятие сделать “перекрывающимся”, воспринятым через призму первого (Гаю нужно вспоминать <<
как в первый раз>>; 2) нужно первое объятие сделать творческим - неожиданным с точки зрения установившегося порядка жизни; 3) нужно сделать первое объятие “моим” и ничьим другим - по неповторимости ситуации, по уникальности переживания, т. е. чтоб таким куском окружающей среды (Рену считать за часть среды, наряду с грозой, тропинкой, днем) замкнулась моя личность, с каким никому другому замкнуться не выпадет - хотя бы в силу невозможно малой вероятности.Это все Нагибин и делает.
И обесценивать подобное “лучшее [для Гая] переживание жизни”, конечно, нечего, ибо и невозможно, но называть, вслед за Гаем, подобную попытку “самозащитой низших душ” не хочется, помня, что “низкая” духовность - это нечто отсеченное от общественного.
Повторю: <<
Надо, чтобы у человека широко во все стороны была раскрыта душа>>, а не в одну чувственную (пусть и в широком смысле - чувственную) сторону, тогда только перед нами будет “высокая душа”.А к Нагибину у меня претензия: зачем пробуждать сомнения в читателе!.. Воспевал бы “низкую” духовность Гая и его Рены и все тут, и не посягал бы на то, что им не присуще. Делал бы как Боккаччо в “Декамероне”.
Так нет же: еще на пьедестал не по рангу нужно поставить “низкое”. Ну, так получай кривой прищур читательских глаз. Никто не станет упрекать в пошлости скабрезный анекдот. Пошлым ему и полагается быть. И это не недостаток. Но всерьез делать из анекдота хвалебную оду - пошло, пошло в плохом смысле, если можно так выразиться.
В “Пике удачи” пошлость - запрятана. В других нагибинских вещах - не совсем. В третьих - видна “невооруженным глазом” - в рассказе “От письма до письма”, например.
Прочел этот рассказ и вспомнил одну интермедию Мироновой и Менакера: Она вдохновенно рассказывает Ему, какая замечательная любовь была у такой-то с таким-то, когда та была летом в доме отдыха: “Он любил ее весь срок!”
Так у Мироновой с Менакером - сарказм, а Нагибин на полном серьезе вкладывает в уста Пушкина, приехавшего на время в Болдино и заведшего там интрижку, почти такие же слова:
<<
- Мы будем с тобой,- сказал он.- Долго будем. Каждый день будем...- Пока вы не уедете,- тихо договорила она
>>.*
Конечно, я полемически заостряю внимание на “низкой” компоненте Возрождения, на “высокой” - маньеризма. Может, даже до крайности довожу. Но доведение до крайности - хороший способ понять скрытую тенденцию.
Исторически первый механизм передачи общественного опыта - следование образцу. Жизнь человека в таком обществе, основанном на традиции, детально регламентирована. И такая жизнь начала подходить к концу в Европе XII - XIII веков. К этому времени, за 600 предыдущих лет по сравнению с варваром-франком, германцем позднесредневековый человек в массе своей стал, что называется, сложным, начался массовый индивидуализм, “низкое” в моем определении. Индивидуализмом стали определяться, объясняться даже высокие появления человеческого духа.
<<
Любя друга, мы любим собственное благо, ибо хороший человек, став нашим другом, становится благом - поскольку мы его любим. Таким образом, каждый в дружбе любит собственное благо...>>Эти слова стали применимы к массе европейцев перед Возрождением. Тогда же и любовь нынешней модификации возникла, с возникновением массовой индивидуалистической личности (в Провансе, в преддверии Возрождения).
А вскоре и религия накренилась от растворения себя, верующего, в Боге - к постижению Бога через свой внутренний мир (протестантство); и наука возникла почти в то же время на тех же индивидуалистических стезях - творчестве, понимаемом, как исключение из правил.
Но все это - даже высокое - настаиваю, отдает “низостью”, в смысле <<
освобождения индивида от всяких обязанностей к целому>>.И вот, если средневековье живет под эгидой целого, “высокого”, капитализм - под эгидой индивидуального, “низкого”, то социализм должен опять вернуться - хоть и не отвергая индивидуального, но все же как-то да вернуться - опять под эгиду целого.
Начиная на свой страх и риск свое “низкое” от де Санктиса - этого на итальянский лад Белинского - я теперь, случайно, наткнулся и на марксистский перепев этого же самого мотива.
Венгр Эндре Фаркаш пишет (в книге “Мораль и революционность”, М., 1979, стр. 157), что альтруизм - эгоизм <<
в современных учебниках марксистской этики выражается в парной категории: коллективизм - гуманизм>>.То есть свои термины “высокое - низкое” я могу заменить авторитетными терминами “коллективизм - гуманизм”. И тогда волнообразное качание стилей от готики до барокко можно изображать в этих - идейных - координатах:
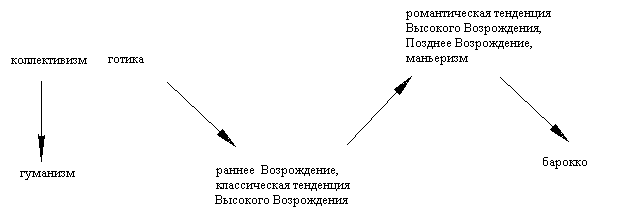
Фаркаш, после всяческих реверансов антиаскетизму социализма, все же пишет:
<<
Конечно, лишь при коммунизме действительно не будет той почвы, на которой произрастают тенденции альтруизма и эгоизма, противоречия между ними... При социализме сохраняется разделение на классы и слои... сохраняется связанное с этим различие в интересах и, как следствие всего этого, отношения индивида и коллектива лишь в тенденции являются гармоничными... мы можем констатировать, что было бы еще преждевременно ожидать от социалистического общества проявления единства [индивидуального и общественного] в массовом масштабе... Надо стремиться к тому, чтобы интересы индивида и коллектива осуществлялись гармонически, но если при этом возникает конфликт, то конечным критерием социалистической морали выступает доминирующая роль интересов коллектива. Важнейший критерий морали - коллективность>>.*
Здесь я не удержусь, отвлекусь в сторону. Впрочем, кривые дороги часто вернее приводят к цели. (А цель у нас - барокко.)
В связи с острым утверждением Фаркаша мне стало ясно, почему... не плодовит был Олеша.
Олеша в 1927 году, во времена НЭП-а написал сногсшибательный роман “Зависть”. Помню, читая его я испытывал какой-то шок: какая изображена глубокая и страстная ненависть к коллективистскому, социалистическому началу, как могут некоторые писать, прямо-таки живописать!.. Так вот: больше нигде так щедр Олеша не был на “живопись”.
В “Зависти” Олеша, сюжетно утверждая коллективизм на пути наибольшего сопротивления этому коллективизму, сделал художественное открытие - так называемый прозаический тип метафоры. Ее так разъясняет Кожинов:
<<
Удивительно точное изображение предмета: “Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы”, “человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, карандашах”. В такого рода тропах словно начинает говорить о себе мир мертвых вещей: они обретают голоса>>.А ведь это же есть то самое, гачевское <<
освежающее восприятие самых обыденных вещей>>. Причем там, в “Зависти”, именно обыденные вещи так парадоксально живо даны. И Олеша это неявно признал в своей речи на 1-м съезде писателей:<<
...Это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства... были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений>>.Однако, самое знаменательное то, что яркость восприятий отдана Олешей мещанам (Кавалерову и Ивану Бабичеву), полемически отдана - у коллективиста (Андрея Бабичева) в “Зависти” <<
нет воображения>>.Да, Олеша - социалистический писатель. Поэтому он душу индивидуалиста Кавалерова обкарнывает “сверху” (у Рены Нагибиным душа тоже этак обкорнана):
<<
Я мечтал всю жизнь о необычайной любви... Та? Тонкорукая? Воображаемая?.. Мне снится, что прелестная девочка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются...>>Да, в поле коллективистского тяготения Олеша не дает торжествовать блеску Ивана Бабичева - духовного пастора эгоиста Кавалерова: искусство Ивана не выходит за границы развлекательности (довольно “низкие” границы) - Иван Бабичев работает эстрадником. Да, в своем просоциализме Олеша привел Кавалерова к моральному краху. Да, сознание и душа Олеши тянутся к коллективизму.
Но сердце Олеши, рожденного в старом мире, не поспевает за его душой и сознанием. Социалистическая стройка в стране - не его тема (по его же заявлению на том же съезде). Его конек - <<
сила первой вещи, сила пересказа первых впечатлений>>, т. е. как раз то, что открыло в эпоху раннего Возрождения мещанство как класс для искусства Нового времени.Ведь что за руслу дало начало раннее Возрождение -
радости обычной земной жизни. А что взялся показывать Олеша в “Зависти” - злорадность по отношению к ахиллесовым пятам коллективизма. И вот он берется очень живописно изображать советского правительственного деятеля в клозете, за умыванием, за утренней гимнастикой и т. д.: все эти подмышки, кишки, кальсоны, пах, звуки испражнения, фырканье, чавканье, храп, сопение. Не то что мертвые вещи, как пишет Кожинов, а что угодно у Олеши приобретает “самость”, обретает свой голос: и храпящая гортань совсановника (“Кракатоу... Кра... ка... тоуу”), и его прямая кишка (“...трам-ба-ба-бум!”).А вот - безусловная и для индивидуалиста радость его врага, коллективиста: прекрасная квартира, красивые зубы, элегантный костюм, ноги любимой, увлеченность делом.
<<
- Что? - он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу.- Что-с? - И он отсутствует еще>>.Но все это есть недоступная мещанину радость жизни (ему не предоставят такую квартиру, он некрасив из-за своего гнилого образа жизни, ему не видать такого костюма из-за безденежья от безделья, и его не полюбит такая девушка). И все это тем более живописно описывается. Вожделенный недосягаемый для мещанина идеал. Ибо мещанину не дана соль жизни в молодой социалистической стране.
<<
В конце концов что ж особенного? Человек работает, человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе и говорит: ты - обыватель, Кавалеров. Конечно, он не заявляет этого... Но это понятно без слов>>.Но вот описываются вещи, совсем не являющиеся прерогативой коллективиста:
<<
Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения>>.И со следующей строки - следующее:
<<
(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные отношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает...)>>Обыватель выброшен из жизни вообще. Радость жизни для него это зависть к жизни.
Но как бы то ни было, нужно наличие мещанина, чтоб обнаружилась так или иначе РАДОСТЬ ЖИЗНИ, чтоб любое дерево становилось Деревом; нужен глаз обывателя, дальние предки которого открыли изображение радости жизни.
- Как же Олеша не стал певцом индивидуализма?
- По закону Выготского.
По закону Выготского Олеша развоплощал материал: выразил свое приятие коллективизма, изображая его негативно (глазами мещан), и выразил свое неприятие индивидуализма, изображая его сочувственно (глазами мещан же). Олеша шел путем наибольшего сопротивления: чтоб вырвать индивидуализм из души своей, он со всей возможной прелестью давал “низкое” - чтоб победить сильнейшего, а не искусственно ослабленного противника.
А на пути наибольшего сопротивления как раз и совершаются открытия.
Но время НЭП-а кончилось. Постепенно стали замалчивать, что страна наша в массе своего населения осталась мещанской. И так отчаянно, как в “Зависти”, преодолевать мещанство стало вроде бы ни к чему.
Чтоб проявить в дальнейшем свои особенности, особенности художника по преимуществу, Олеше было два спасения. Одно - найти гармоничных советских людей, гармоничных в отношении индивидуального и общественного, каким был в “Зависти” советский сановник первого поколения Андрей Бабичев. А такие становились все более редкими - по мере утраты нашим обществом революционности; такие исчезали - по мере истребления Андреев Бабичевых Сталиным; такие перерождались - по мере внедрения тем же Сталиным системы привилегий для номенклатурных работников.
Второе спасение Олеше было в палочке-выручалочке под названием “антиаскетизм социализма” (не корейского, по крайней мере, а европейского социализма), а говоря общо, спасение Олеше было в переходе к широко понимаемому барокко, так же широко понимаемому, как повторяющийся маньеризм.
Вообще барочное мировоззрение я понимаю как в той или иной мере самообоманное мировоззрение. Потому самообманное, что безусловно гармоничное общество будет только при коммунизме, а все предыдущие периоды усталости от смут и времена достижения покоя оказывались иллюзорно-гармоническими. Значит - самообман, раз человек не замечал иллюзорности своих палочек-выручалочек.
Однако самообманы могут разниться по степени. У Галилея была минимальная степень. Но она и к обществу относилась минимально. У философов XVII века (Декарта, Спинозы...) степень самообмана тоже довольно мала (всепримиряющий разум). Потому мала, что их мирообъемлющие системы были довольно умозрительными: противоречивый мир, так или иначе, они объясняли, а на обустройство мира в гармоническом духе они не претендовали, особенно на социальном поприще.
Но уж всяческие веры: в высшую справедливость, разум, целесообразность, милосердие - все более или менее в Боге воплощавшиеся (хоть и не всегда в ортодоксально-церковном духе) - все они были самообманами в большой степени и в тем большей, чем искреннее была вера.
Причем, чем ближе было к ортодоксальным церковным и государственным идеям, тем, вероятно, меньше было самообмана и больше обмана других, больше фальши.
А чем глубже был человек, тем меньше он поддавался гипнозу самообмана (можно проверить, не был ли таким Паскаль, ушедший из науки и светской жизни в аскетический монастырь янсенистов...).
В наше время, оказавшись в подобной - самообманно-обманной - ситуации, Олеша показал себя достаточно глубоким, чтоб фальшь ощутить и от творчества (романного, по крайней мере) - отказался.
Задачу-то (барочную) он себе поставил:
<<
...во мне имеется сила красок и будет нелепостью, если эти краски не будут использованы...Много было такого в моей юности, в моих мечтаниях, в моих отношениях к миру, что и теперь я могу изобразить в произведении как принадлежащее человеку нового мира.
Все свое ощущение красоты, изящества, благородства, все свое ви`дение одуванчика, руки, перил, прыжка до самых сложных психологических концепций - я постараюсь воплотить в этих
вещах в том смысле, чтобы доказать, что новое социалистическое отношение к миру есть в чистейшем смысле человеческое отношение>>.Но выполнять такую задачу Олеша не стал.
*
А вот Нагибин - не знаю, ставил ли себе сознательно задачу в духе барокко,- но выполнять ее взялся.
Задача эта - в утверждении возможности уже сейчас жить гармоничной (в отношении индивидуального и общественного) жизнью. Сейчас, когда (Фаркаш) <<
отношения индивида и коллектива лишь в тенденции являются гармоническими>> (иначе: сейчас - гармоничными не являются). Сейчас, когда (опять Фаркаш) <<доминирующая роль - интересов коллектива>> - при конфликте индивидуального и общественного. И сейчас, когда без этого конфликта не проходит ни один день.И образом этой гармонии у Нагибина является гармония тела и духа, гармония все больше где-то вблизи отношений мужчин и женщин.
Почему я настаиваю на этом “сейчас”? Да потому, что Нагибин сейчас, нас, а не кого-нибудь испытывает идеей гармоничной жизни.
А почему я заявляю, что у Нагибина имеется в виду достижимость его идеала, достижимость гармонии? А потому, что он очень уж деформирует, трансформирует действительность.
Я теоретический постулат под это нашел:
<<
Мера субъективной авторской активности по отношению к материалу жизни, глубина художественной “переработки” действительности есть свидетельство сближения идеала и жизни>> (В. М. Муриан. Эстетический идеал. М., 1966, стр. 18).Боже, прости меня, но я сейчас испытаю этот постулат историей.
Утопизм и титанизм Возрождения - что такое, как не сближение идеала и жизни? Как пишет Кожинов, <<
...ренессансные рыцарские повествования при всей необыкновенности и героичности изображаемых в них приключений вовсе не являются “крайне идеальными” по отношению к эпохе Возрождения. В самом деле, достаточно вспомнить события жизни хотя бы одного из выдающихся людей этой эпохи - поэта Камоэнса, чтобы убедиться в непосредственной связи с реальностью самых необыкновенных историй>>.Далее у Кожинова идет доказательство фактами биографии Камоэнса, а потом... <<
Эта невероятная и героическая жизнь человека, воина, творца, гражданина вовсе не исключение, но правило эпохи. Десятки выдающихся писателей живут именно так и умирают несогнутыми титанами - на плахе, как Мор, на костре, как Бруно, или даже бросившись грудью на шпагу, как Бонавентура Деперье. Поэтому и рыцарские повествования, и героическая драма, и высокая поэма Возрождения отражают подлинную реальность современной жизни, а вовсе не “крайнюю идеальность” беспочвенной фантазии>>.Муриан пишет на той же 18-й странице: <<
И столь же естественно обратное... свидетельство увеличивающегося разрыва между идеалом и жизнью>>.А Аникст этому как бы вторит, сообщая, что с закатом Возрождения возрастает реализм искусства: <<
Идеальный герой уступает место реальному. Вместо спенсеровского принца Артура с его добродетелями перед нами принц Гамлет>>, говорящий о себе: “Сам я человек сносной нравственности. Но у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня...”Муриан, правда, под “
обратным” числит пассивное воспроизведение жизни, натурализм, а не реализм, но направление логики Муриана я все же выдерживаю: активности повышенной обратна активность пониженная, а реализм вполне сойдет за активность пониженную. В общем, я - сопрягаю, а без некоторого насилия тут не обойдешься.Итак, исключая волшебную сказку, повышенная активность художника к жизненному материалу это сближение идеала и жизни, пониженная - отдаление идеала от жизни.
И если уж сопрягать... Это правило распространить надо на мало-мальски “высоко” направленное искусство (в том числе на барокко, поскольку оно причастно к “высокому”, раз мирит “высокое” с “низким”). А на “низко” направленное - ни-ни. Ибо “высоко” направленное обязательно в какой-то мере иллюзорно, если толкует о достижимости идеала, и, значит, нуждается в трансформации действительности.
А вот для “низко” направленного “правило Муриана” должно быть противоположным: “низко” направленное искусство должно предполагать пониженную активность художника по отношению к материалу при желании сближать идеал с действительностью.
При очень большом желании можно и это у Муриана вычитать на той же 18-й странице. В общем, сопрягаю...
И достигнутый в первой европейской буржуазной революции - в Нидерландах - сниженный, бюргерский, гуманистический идеал клавдиев получит от, извиняюсь, меня теоретическое оправдание в том, что этот идеал выражен оказался голландским реализмом в живописи XVII века: натюрмортами из жратвы, простецкими пейзажами и сценами, животными и тому подобной “низостью”.
Я не смогу тут всю историю искусств рассмотреть под таким углом зрения. Но здесь, ей-Богу, есть над чем подумать.
Ну, а для меня, сейчас, важно, что я приобрел дополнительный инструмент для на этот раз полного анализа Нагибина.
Я, грешен, думал было его в непоследовательные отнести, в шатающиеся от маньеризма к барокко и обратно (оба стиля - в широком смысле слова). Но какая-то тоска удерживала руку. Угнетало, что я совсем не понимаю на черта он, умеющий живописать, занимается высококультурными потугами, снами, химерами, сомнамбулизм описывает, поток сознания, да такой какой-то поток - прерывистый.
И я тянул, тянул время.
А теперь все ясно. Как на ладони.
Нагибину руки себе нужно было развязать. Ибо если он живописует, то черт знает, куда его материал из рук рванется: вдруг не туда, куда надо.
*
Могут, наверно, возразить, что Нагибин, мол, реалист по крайней мере в тех рассказах, что современными сказками не названы.
Но он не реалист не только в современных сказках.
Что такое реализм? Лучше всего отвечать с, так сказать, генетической точки зрения. В момент рождения новое качество наиболее определенно по своей сути. Впоследствии оно дробится на рукава и течения, подчас в чем-то противоречащие друг другу. И потом уже трудно в его сути разобраться. А вначале видна одна голая суть, что пройдет в будущее красной, но упрятанной нитью сквозь все рукава и течения.
Но пусть ответит Сучков, достаточно авторитетный для данного вопроса товарищ.
<<
Метод реализма возник в искусстве тогда, когда перед членами гражданского общества встала задача показать скрытые от непосредственного созерцания силы, которые обусловливают действие механизма социальных отношений>>.Это можно пояснить психологической аналогией (процитирую Узнадзе):
<<
...человек пробуждается... берет обувь и начинает ее натягивать и вдруг оказывается, что дело не подвигается вперед, что что-то мешает... я останавливаюсь... обувь становится сейчас для меня самостоятельным объектом, особенности которого я должен осознать для того, чтобы быть в состоянии обуться... я начинаю ее воспринимать с разных сторон, сопоставлять замеченные мною особенности... Словом... начинается процесс... отношения к предмету, отношения, отвлекающегося от интересов непосредственно практического применения каждой из отмеченных мной особенностей...>>Иными словами, при возникновении препятствий умеряется активное поведение и начинается незаинтересованное вглядывание. Или, если вернуться к искусству - как по Муриану, когда он пишет о прогрессивном искусстве - активность по отношению к жизненному материалу сменяется “неактивностью”. Начинается слежение за самодвижением героев, которые ведут себя как бы независимо от воли автора - непредсказуемо, как сама жизнь. Начинается реализм.
Вот это самодвижение воссозданной художником жизни и было открытием сверхранних и ранних реалистов. Так я сопряг (деформируя так или иначе) Кожинова, Муриана, Аникста и Сучкова. Сопрягать, так сопрягать!
Чем же характерен текст литературного произведения при “незаинтересованном” слежении реалиста? А он характерен принципиально НЕОЦЕНОЧНОЙ речью, которая не хочет ни воспеть, ни осудить, ни осмеять. В этой речи мало тропов, синтаксических фигур, торжественных, “прекрасных”, редких, необычных слов. Она тяготеет к протокольности и стремится лишь изображать, а не выражать.
А что у Нагибина?
<<
...Опахнуло протопопа, рассеяло дым на мгновение, и в тонком золотом лучике, пронизавшем тьму грядущего узрел он тех, кто через века подхватит его слово и его подвиг. И сразу радостно затосковал о них Аввакум. С теми, кого он любил при жизни, он встретится скоро, с иными - лишь только кончится эта телесная мука и Господь примет его освободившуюся душу в свежесть рук своих, с другими - малость попозже, когда придет их недалекий черед, но те, что подымут, оберегут и понесут дальше его слово, еще томятся во тьме предбытия, они родятся на свет Божий еще ох как не скоро! И пройдут века-века, прежде чем он встретится с ними в раю>>.Это мысли последних мгновений жизни сжигаемого на костре русского Боккаччо (по Кожинову) - Аввакума.
Или последняя секунда жизни английского поэта Кристофера Марло:
<<
...кончик лезвия угодил прямо в глаз поэта. Он рассек прозрачное тело хрусталика, проник сквозь глазницу в мозг, в драгоценное вместилище снов и слов, и пронзил нежный образ Елены - последнее земное желание и бессмертную мечту поэта. И все. Океан нахлынул и поглотил Марло>>.А вот последний - при отрубании головы - миг жизни аварского героя Хаджи-Мурата, описанный реалистом Львом Толстым:
<<
Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему показалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи со своим телом>>.Толстой - следит. Нагибин - воспевает.
Вообще, все эти нагибинские рассказы о былых мастерах культуры, все эти произведения, которым Нагибин отдал почти 10 лет своей жизни - давали ли они возможность самовыражения героям? - В довольно-таки незначительной степени. С Нагибиным в принципе не могло быть того, о чем свидетельствовали многие, начиная с ранних реалистов - Гете, Пушкин, Флобер, Толстой: <<
что они “не знали” заранее итогов душевного развития и решающих действий своих героев - например, Вертера, Татьяны, Эммы Бовари, Анны Карениной, Оленина>>.Кожинов пишет, что вне реализма писатели <<
только “искусно изображают” своих героев, которые не могут “сами по себе” совершить или почувствовать нечто совершенно “неожиданное”>>.Вот Нагибин и занимается искусным изображением. Читаешь его рассказы о деятелях культуры и так и чувствуешь, как он упивается своей творческой силой искусного изображения, своей активностью в отношении к материалу, даваемому биографиями великих.
И все, на что толкает своих великих персонажей Нагибин, все это является не “
самодвижением” героев, а активностью автора в интересах идеала, в интересах той жар-птицы, которую Нагибину - советскому уважаемому писателю - удалось поймать, а великим: Тредиаковскому, Хемингуэю, Аввакуму и многим-многим другим - нет, не удалось. И тем, кто рядом был с великими, тоже не посчастливилось. Несчастье последних как бы вторит несчастью великих: полнота счастья, всесторонность жизни - не далась.Погибла, так и не увидев своего любимого, жена Тредиаковского Феодосия, так и унеся в могилу свой пробужденный любовью, но никому не сказавшийся поэтический дар. Погиб и Тредиаковский как лирик, оторвав себя от любви.
<<
Ах, бросить бы ему арцухиню Бурбонскую, за одно и прачку Мари, так хорошо умевшую гладить, и весь галантный, литературный, театральный, ученый Париж, уже давший ему все, что мог, да и вернуться в Астрахань, припасть к измученной груди Феодосии, хоть последней слезой ее омыть, и русская поэзия получила бы первого лирика.Знать не судьба была...
>>Сошла с ума Надежда фон Мекк, так и не узнав любви Чайковского, да и сам Чайковский проклял свою жизнь, не имевшую того, что называют интимно-личным.
Умерла душа Тютчева, когда в годовщину смерти любовницы он обрел спокойствие.
Спился Аполлон Григорьев из-за хороших и плохих женщин:
<<
...он мог бы стать другим, даже сейчас мог бы, позови его та, единственная... [Леонида Визард]...Почему хорошие женщины избегали его?..>>
Лишь 1/20 текста этого рассказа - о женщинах Григорьева и 1/20 - об одной из них - Леониде Визард. Однако то, что женщину во главу судьбы Григорьева ставит не только нагибинский Григорьев (в своем внутреннем монологе после загула), но и сам Нагибин - следует из такой, неожиданной, концовки рассказа:
<<
...Бессмертная страсть Григорьева, Леонида Визард, окончила в Швейцарии медицинский факультет и защитила диссертацию на тему: “О влиянии цианистого кали на организм кроликов”>>.В общем, много у Нагибина трагических рассказов. Противно ради обоснования этого слова “много” натужно читать рассказ за рассказом с их тягомотно длинными периодами внутренних монологов почти обездвиженных героев. Нудно читать их несобственно-прямую речь, чуть не в каждом предложении которой проглядывает еще особая авторская активность - неумеренная демонстрация осведомленности о деталях жизни великих и обстановке того времени.
*
А обычная активность автора в отношении материала направлена в одну сторону: чтоб читатель, переживший развернутую перед ним трагедию, понес в свою, в сегодняшнюю жизнь вкус к полноте жизни, к единству духа и тела.
Вот красавица Феодосия, отправившаяся на поиски своего любимого мужа - Тредиаковского; и в этом неудачном пути вот ее, спящую и потому несопротивляющуюся, насилует разбойник (будто это может быть - потому несопротивляющуюся):
<<
Феодосия проснулась от придавившей ее тяжести и духоты. В первое мгновение ничего не поняла, и тут будто расплавленный свинец влился ей меж бедер, и, чтобы не умереть, она прозрела в какой-то иной вселенной и узнала своего единственного. Он услышал ее тоску, ее зов через тысячи верст, вернулся, разыскал в глухом лесу и сразу одарил своей любовью, по которой так изболелось ее тело. Неизъяснимое наслаждение охватило Феодосию, никогда еще не открывалась она так любимому.- Милый, родной! - выжимала она со стоном сквозь стиснутые, скрежещущие зубы.- Счастье-то какое!..
>>И Нагибин ее от такого насилования вроде как сумасшедшей “сделал”, скомкал рассказ и поскорее “убил” Феодосию холерой.
И читателю жаль, читатель уносит из рассказа память о великом умении Феодосии любить, а она ж ведь еще особая душа: любовь в ней пробудила дар поэтический:
Уж я встречусь с тобой, милый, родненький,
Накормлю тебя сладко, сдобненько.
Напитаю твою плоть нищую
Самой вкусной и сытной пищею.
Сердце бедное плачет, надеется,
Что любовью снова согреется,
Что забудется мука мученическая,
И ты счастью обучишь еще меня.
“Жить бы ей со своим Тредиаковским да сочинять чудесные стихи,- как бы внушает своей трагедией Нагибин,- да не то времечко было. Не то, что сейчас...”
А Тредиаковского даже не жалко - такую жену забыл. И рассказ, соответственно, опять скомкан (здесь уж - чтоб не жалели? или просто расплылся Нагибин на предыдущем?), и читателю уже прямо авторской речью, без никакой образности писатель назидает, мол, не забыл бы Тредиаковский Феодосию - стал бы первым лириком в России. Впрочем, для этого вернуться надо было в Астрахань, а чем бы он тогда там жил. Не то было, понимай, время. Не то, что сейчас.
Где бы мы ни очутились в мире Нагибина, всюду силовые линии его тенденциозности направляют наш читательский компас на одно и то же: на единство тела и духа сейчас и у нас.
В одном (не “культурно-историческом”) рассказе - “Чужое сердце”,- не помеченном, кстати, что он - современная сказка,- весь сюжет на том и строится, что трансплантированное чужое сердце обладает якобы таким духовным атрибутом как памятью, памятью о самом дорогом для этого сердца, памятью сердца в буквальном смысле: человек с этим не своим сердцем становится неравнодушен к голубям, узнает девушку, наверно любимую прежним обладателем сердца, узнает мать “того”, и наоборот, к своей матери и жене он, оперированный, перестал питать прежние чувства. Да и те обе чувствуют, что это теперь другой человек живет с ними. А мать погибшего, у которого взяли сердце,- узнает душу, сердце сына в чужом мужчине. И все это подается на полном серьезе, как будто молчаливо договорившись с читателем: ну, поверь на часок, что это так; как тебе понравится прочитанное? И, признаюсь, нравится. И трогает. И даже во втором чтении трогает. Самый конец трогает - неизбывность трагедии: мать узнает живую душу, сердце сына, но ей не дано увидеть его плоть. Это хуже, чем видение, галлюцинация, наваждение, хуже, чем боль незаживающей раны памяти.
Книга закрыта, трагедия закончилась, а вполне, вообще говоря, достижимый у нас идеал гармонии духовного и телесного в любви матери и сына вспыхивает в читателе с новой силой. Но, видимо, этот идеал не способен быть в нашем обществе образом гармонии индивидуального и общественного, “низкого” и “высокого” и поэтому этот рассказ не отдает фальшью при всей его невероятности.
Так или иначе, в этой трагедии идеал единства духа и тела налицо.
Впрочем, мой пафос - не в доказательстве, что идеал этот наличествует, а в утверждении, что у Нагибина он сближен с жизнью и фальшив: в идеале единства тела и духа (в любви половой) дан образ единства общественного и личного у нас и сегодня.
В “культурно-исторических” рассказах все происходит не у нас и не сейчас - и все является в той или иной степени трагическим. Даже в самой, казалось бы, благополучной истории, в истории с прозрением юного Пушкина: <<кто он и зачем явился>> миру - в рассказе “Царскосельское утро”, давшем название всему “культурно-историческому” сборнику,- даже здесь, где никого не убивают, не сжигают, никому не изменяют, где все разворачивается на фоне благостного майского утра, даже здесь порывы к высокому даются за счет преодоления “низкого”, а не в гармонии с ним, вожделенным; жар-птица полноты жизни не достигнута и в этом неконфликтном рассказе.
<<
Ему хотелось жить, любить Наталью, поклоняться Карамзиной, писать легкие и дерзкие стихи... а не взваливать на себя грехи всех словообидчиков [Пушкин взялся исправить русский язык] ... Почему он должен расплачиваться за чужую глухоту? Сблизив слова со смыслом... дать литературе живую речь, искаженную непрошеными зашельцами, церковниками, немецкими профессорами,- разве по плечу такой труд одному человеку?Он плакал, потому что кончилось детство>>.
И здесь, в сущности, - трагедия. Начало трагедии, длившейся всю жизнь Пушкина: <<...в гостиных, на гулянье, в кругу друзей, за пиршественным и карточным столом [за все “низкими” занятиями] - подмечали странную особенность поэта вдруг выпадать из окружающего, проваливаться в какую-то угрюмую бездну, куда не достигали голоса живых
>>.И даже чтоб провидеть свое духовное будущее, Пушкину, по воле Нагибина, понадобилось почувствовать бездуховность своей Натальи, жившей “данностью”
: <<это было грустно, обидно и скучно>>. И Пушкину понадобилось срочно прервать свидание с Натальей:<<
- Куда же вы? - жалобно спросила Наталья.- Пора... - сказал Пушкин, чем-то смутно озабоченный
>>.Озабоченный, как оказалось, приближающимся прозрением о своем предназначении.
Итак - трагедия неполноты жизни, трагедия негармоничности. Такое уж, понимай, было время. Для веселия была планета наша мало оборудована, а если ты имел высокие помыслы - в особенности.
А в наше время, но не в нашей стране?
Если эта страна - капиталистическая, ФРГ, например, как в “Сентиментальном путешествии”, тогда, конечно, тоже - трагедия. Хороший человек не может там жить в гармонии тела и духа. И вот Гизела, открывшая для себя изуверство своего любимого (ранее) мужа - в прошлом фашистского палача,- вынуждена, слабая, спасаться воображаемой гармонией:
<<
Вот когда ей было особенно плохо, но и с этим можно справиться. Надо плотно закрыть глаза, откинуть голову за подушку, чтобы не дать прикоснуться сухому рту и квадратику усов к своим губам, и думать, что это кто-то другой, ну, хотя бы заправщик с соседней бензоколонки>>.Опять трагедия негармоничности. Для веселия западная часть планеты плохо оборудована... Пока.
А восточная часть? Советский Союз?
*
Тут, оказывается, тоже для веселия планета мало оборудована. Для, по крайней мере, самых лучших людей - плохо.
Вот Петров из рассказа “Где-то возле консерватории”. Это же замечательно хороший человек, человек, умеющий глубоко любить женщину, работу, родину. Он неудачник, правда, и все его глубокие любови почти не проявились вовне. Но внутри (литература все может сделать видимым), внутри мы его глубину видим. Что из того, что он не только не сделался на войне героем, а даже струсил, впервые увидев немца нос к носу. Зато он глубоко пережил трусость, зато мы понимаем, что это естественно - поначалу. Зато он, Петров, был добровольцем и рвался на фронт, и даже - после ранения. Не его вина, что его так скоро и так неудачно ранило. Его неудача это.
Что из того, что из него не получился ученый, зато он, любя все же науку, сделался талантливым ее популяризатором.
Что из того, что у него семья построена на расчете, что у него при этой семье были легкие романы. Зато он инактуально всю жизнь любил ту, кого любил еще в школе, а инактуально в квадрате он всю жизнь еще больше любил Таню.
И вот для этого весьма и весьма хорошего человека даже восточная часть нашей планеты не обеспечила гармоничной полнокровной жизни.
Такого же рода ситуация и в рассказе “Срочно требуются седые человеческие волосы”. Тоже в центре повествования человек, умеющий глубоко любить женщину, работу, родину. Неудачных фронтов жизни у Гущина меньше - только на семейном фронте крах: жена стала шлюхой, а дочь - презирает его за терпимость. На фронте военном и трудовом он ас. Впрочем, свою глубину характера он демонстрирует больше всего именно на неудачном фронте.
Что из того, что он раз изменил-таки изменнице-жене. Зато это было вызвано глубоким чувством (не беда, что быстро возникшим). В рассказе все сделано, чтоб показать, что это была у него с Наташей не интрижка командировочного (а у нее - не интрижка с командировочным): взять хотя бы переживание обоих после командировки... И только очень-очень глубокая натура могла отказаться от этой новой любви ради смутного долга по отношению к памяти, что ли, к остаткам любви старой - к нынешней шлюхе-жене.
Точно такой же замечательно хороший человек - и профессионально и душевно - судебный следователь Нина Васильевна из рассказа “На заре туманной старости”. Разлюбить мужа и расстаться с ним из-за того, что он перестал ей казаться романтиком!.. Отказаться от любви другого, молодого сослуживца, Горина, из-за того, что у него, мол, это, во-первых, блажь и она, во-вторых, для него - немолода и не влюблена... Отказаться от мужа навсегда из-за того, что он, изгнанный ею несправедливо и бездомный, пристроился возле какой-то женщины...
Да ведь это предельно замечательные люди выведены у Нагибина. Советские люди. И их трагедия в их “высоком” устремлении. Эти герои страдают от того, еще шекспировского идеала постоянства: в любви, в отношении к семье, к высшим идеалам, сводящим мужчину и женщину в семью.
Будь Петров, Гущин, Нина Васильевна менее цельными личностями, они бы не упустили подвернувшихся Тани, Наташи, Горина.
Да по Нагибину вообще нет смысла рассматривать единство “высокого” и “низкого” на уровне хоть чуть пониже мировых стандартов.
Так что? Я сел в лужу? Сел, доказав, что гармония “высокого” и “низкого” и сейчас (а не только в прошлом), и у нас (а не только на Западе) по Нагибину - недостижима. Так?
*
Да.
Я действительно не смог вполне убедительно доказать, что Нагибин сближает идеал с действительностью.
Ну, что ж? У меня это - экспериментальные записки: уж очень велика была степень незнания, к чему я прийду, когда я начинал эти записки. Это кухня, по сути. И вот случилась неудача в приготовлении очередной “солянки сборной”.
Итак, я не осилил Нагибина на все 100.
Но насколько-то я ж осилил?
*
И - еще несколько взмахов кулаками после боя...
В начале своего обращения к Нагибину я заметил, что он (в своей “современной сказке”), как Грин, скрещивает фантазию с реальностью, как бы договорившись, что мы послушаем, а он-то уж - увлечет.
Так вот Нагибин не только в “современной сказке” скрещивает фантазию с реальностью. И Тютчев - по Нагибину - слышит мистические голоса, и Феодосия Тредиаковская, и перед Чайковским предстает как бы одушевленный портрет Надежды фон Мекк, и Пушкину случился необычайный ясновидческий сон: утром, после целой ночи сна, и пациент с трансплантированным сердцем, как и его близкие, окутан мифологией, и какое-то наваждение, сомнамбулизм движут Гущиным с Наташей, Петровым с Таней, Гориным с Ниной Васильевной. И любовь вообще в чем-то таинственна, по Нагибину.
Так что фантазий, трансформаций, активности автора в отношении материала у Нагибина полно.
Но все это и отличается же от гриновской слитности фантазии с действительностью.
Я не смогу (я в этой книжке уже сдался) текстуально доказать это отличие Нагибина от Грина.
Но. Грин уводит в вымышленный мир (одни его собственные имена чего стоят, несуществующие: Лис, Зурбаган, Ассоль...). А вот Нагибин ведет совсем в другом направлении. Не в вымышленный мир. Даже его явно вымышленное имя “Гай” не докажет обратного. Даже завуалированность социального строя в той “современной сказке” не отбивает здешности. Нагибин, утверждаю (пусть и малообосновано), влечет не к бегству от действительности, а в действительность, как он ее понимает. К нам. В сегодня. К нам, по-нагибински, в сегодня, по-нагибински. Реальному существованию этого нагибинского мира хозяев жизни, думаю, у Нагибина есть много доказательств.
Такой направленности - к нам, в сегодня - у Нагибина служит вся, я бы выразился, олешевского типа живописность, приметы нашего, именно нашего времени. (Но достаточную теоретическую базу под эту свою сентенцию я пока не нашел.)
О нагибинских “современных” трагических рассказах (кроме “Ильина дня”; его для этой книжицы как бы нет) можно сказать пушкинскими (и чеховскими
!) словами: счастье было так близко, так возможно...А ведь Чехов, по мнению некоторых, открыл метод, так сказать, предсоциалистического реализма - <<
форму закономерного сочетания в искусстве категорий действительного и возможного, реального и ожидаемого, такую степень реализма, что любое изображение жизни, какой она не должна быть приводило к ощущению необходимости и неизбежности коренных перемен в жизни>> (Бялый).Вот в чем-то подобное ощущение <<возможной реальности>> веет и от нагибинских микротрагедий любви. Читательский микрокатарсис очищает: в произведении - любовная гармония тела и духа погибла, в жизни - побеждает. Мол.
(И это в век-то разводов...)
Видимо, существуют реализмы, по разному ощущающие разрыв идеала и действительности: толстовский - разгар поисков, и чеховский - на грани завершения этих поисков.
Видимо, существуют и разные трансформации действительности, разные активности авторские: одна,- как в Высоком Возрождении,- сближающая идеал с действительностью, другая,- как у романтиков,- служащая для бегства из действительности.
Сложно все. Сложно. Но не до безнадежности. Есть в каком направлении еще думать.
А пока - расквитаемся с Нагибиным окончательно (здесь).
*
Худо-бедно доказанная барочная, сквозь все муки, успокоенность этого писателя дает объяснение его кажущейся разноликости и моей (прежней) разной оценки разных его вещей или разных кусков этих вещей. (Само по себе это довольно солидное приобретение, по-моему.)
Он не маньерист. Он кажется только высокодуховным, когда тянет “вверх” “низкое” Петрова, Гая. И он не “низкий” реалист, вроде фламандцев XVII века, не - утрировано говоря - пошляк, когда женщиной обосновывает болдинский взлет Пушкина.
В заставившем говорить о себе “Терпении” многих (судя по отклику в “Литературной газете”) шокировала сцена совокупления пропащего безногого инвалида Пашки с солидной матроной Анной Скворцовой: средь бела дня, едва ли не на виду у людей. А по-моему, эта сцена у Нагибина “высоко” оправдана всей предшествующей нагнетенной колоссальной энергией (потенциальной энергией) неприятия мещанства, вещизма, потребительства. Стоило подразнить ханжей Нагибину. Лопнуло терпение - и сцена с Пашкой это образ катастрофы, а не низкий самоцельный натурализм. Здесь - та земля, в которую молнией бьет перенакопившийся заряд неба.
А сцена Гая с Реной во время грозы это совсем другая “земля”, земля, которую нужно было Нагибину вознести повыше, чем уровень сексуального приключения.
Всюду Нагибин сводит полюсы, мирит, как-то уравновешивает противоположным.
Если вы слишком уж вошли, положим, в экзотику, окружавшую японского средневекового ниндзю и если прониклись его одухотворенностью - вернитесь в сегодняшние будни, где духовный потомок ниндзи видится советскому туристу жалкой тенью.
И наоборот. Если уж вам случилось увлечься земным, сегодняшним: <<фотоаппаратами, заряженными на слайды и киноаппаратами, неугомонными транзисторами и карликовыми настенными магнитофонами, ракетками для бадминтона и подводными ружьями, красивой и удобной спортивной обувью, обтянутыми, нарочно заношенными джинсами, дорожными сумками-холодильниками и работающими на бензине печками, складными велосипедами и разборными палатками>>, современной музыкой, песнями, живописью, стихами, речами, спорами, интересами, весельем и кумирами - если вы увлеклись картиной умения жить, если вы стали сопереживать героине, которой вдруг захотелось <<принимать неожиданные решения, совершать сумасбродные поступки. И чтоб она нравилась, и чтоб за ней ухаживали>> - тогда, пожалуйста, Нагибин вас одарит высокодуховным поворотом сюжета (“Берендеев лес”).
А на днях я узнал, что Нагибин имеет отношение к довольно острому, старому уже, фильму “Председатель” (это как районные власти при культе личности ухудшали и без того отчаянное положение послевоенного села), к фильму с едва ли не паточно-розовым концом (как, мол, неузнаваемо изменился к лучшему колхоз через эн лет после разоблачения культа личности)... И тут же я прочел теоретическую защиту (Муриана) от возможного упрека авторам в ретроспективной облегченности подхода. Фильм-то, мол, глубоко современный, а то, что кажется, будто он о прошлом, так это из-за одного закона (ого!) художественной адаптации действительности, согласно которому познанное противоречие, будучи отражено в произведении, представляется подготовленным для преодоления и становится тем самым для нас как бы “прошлым”.
“Даешь хвостизм!” - иными словами.
Ну, что ж: все нормально. Это Булгаков не ждет разоблачения культа личности и пишет “Мастера и Маргариту”. А Нагибину нужно, чтоб культ личности сначала был отвергнут, потом нужно, чтоб партия преодолела катастрофическое положение в сельском хозяйстве, а потом уж Нагибин создаст довольно острый сценарий. Барокко никогда не чуралось противоречий. Даже рвалось к ним. Только для того рвалось, чтоб умиротворить.
Даже вожделенная достижимость идеала нагибинская, наконец, мелькнула в моей памяти: заключительные кадры “Председателя”.
И можно как угодно тасовать мотивы (противоположные мотивы) нагибинских рассказов и ставить фильм “по рассказам Нагибина”,- это сделано недавно под таким названием: “Время отдыха с субботы до понедельника”,- и все это тасование не будет противоречить Нагибину, ибо все остается симметрично центростремительным: к идеалу достижимой гармонии “высокого” и “низкого”.
Смотря этот фильм я поначалу негодовал: “Так все переврать в “Терпении”! Как мог Нагибин согласиться, чтоб поставили его имя в титрах?” Холодных хлюстов, потаскуху и потаскуна - детей Анны Скворцовой, умельца жить, предателя друга и родины - мужа Анны - превратить в прямо противоположных людей: в невинную скромную девушку, в патриотического юношу, в добропорядочного гражданина. Совокупление Анны с Пашкой заменили разговором. То, что Анна утонула, удирая от этой жизни, заменено инцидентом с посторонним человеком за бортом. Неведение ее мужа о ее смерти заменено испугом, не она ли это там тонет, тоже в черное одета. А его прицеливание на очередную супружескую измену заменено идиллической встречей всей семьи за столом корабельного ресторана.
Но все верно. Ведь в титрах-то - “по рассказам”, множественное число, и вовсе не обозначено - “Терпение”. Чем буря и затишье “Времени отдыха с субботы до понедельника” отличается от бури и умиротворения “Берендеева леса”? Ничем.
Ну, что ж. Спасибо Аниксту и Якимовичу, как минимум, за то, что я сумел отличить личное от общественного в своем отношении к “Терпению”, в своем субъективном и объективном отношении.
А вообще, я здорово изменился в процессе своих штудий исторически повторяющихся маньеризма и барокко. И хотя я не добрался до Рубенса, зато добрался до представителя современного барокко.
*
Впрочем, и в Рубенсе кое-что приоткрылось.
Я был в Ленинграде и пошел в Эрмитаж посмотреть на нетревожный красный колорит Рубенса. Путь лежал мимо зала голландской живописи XVII века. В моей нынешней систематике искусств это (я уже упоминал) - реализм “низко” направленный, искусство со сближенными идеалом и действительностью. Но тогда я не был еще так теоретически богат. Я заметил только следующее: 1) в экспликации на стене зала указывалось, что этот реализм быстро пришел в тупик; 2) еда и посуда в натюрмортах очень богатые; 3) главное: я возле одного из натюрмортов вдруг осознал, что все остальные натюрморты как-то “низки”. На этом “одном” - на нем единственном - были нарисованы цветы среди жратвы и питья. Только на одном!
Я тогда еще подумал, что голландское искусство это в чем-то “низкое” искусство. И это подготовило меня к тому, чтоб как-то принять, что бельгийское искусство, Рубенс - будут “повыше”, одухотвореннее, хоть у Рубенса и ждут меня толстые мясы его голых баб.
И Рубенс в чем-то оправдал такое “возвышенное” ожидание.
По-моему, во всем Эрмитаже (хоть я больше не смотрел - прошел лишь к выходу) нет более мажорных, бравурных, сияющих красок на картинах. Какой-то фонтанирующий восторг!..
А табличка на стене рубенсовского зала намекала, что хоть бельгийская (ровесница нидерландской) буржуазная революция и потерпела поражение от феодальной Испании, зато у бельгийского бюргера, и его искусства, осталось (не в пример голландскому) будущее: национально-социально-освободительное, “высокое” при всей своей бюргерской “низости”.
И я подумал: они все, бельгийцы,- а Рубенс - их выразитель,- знали палочку-выручалочку: мануфактурное разделение труда, проникшее даже в мастерскую Рубенса (подмастерья картину рисовали, а Рубенс несколькими мазками доканчивал). И эта палочка-выручалочка гарантировала, что бельгийцы-бюргеры у испанцев-феодалов не мытьем, так катаньем выведут по-своему, по-буржуазному.
И я тогда еще заметил, что бывает и ”повышенное” барокко.
Наше теперешнее барокко я, увы, не могу, имея в виду наш теперешний маньеризм, отнести к “повышенному”. Высоцкий у нас “высок”, а не Нагибин.
* * *
В чем я изменился, пока писал сей опус?
1. Начиная его, я ожидал, что авторы самодеятельных песен,- люди, разочарованные в настоящем и в близком будущем нашего общества и верящие в его отдаленное будущее - в коммунизм,- окажутся аналогами художников барокко; а вышло - аналогами маньеристов. (Ибо барочные верят в близкое будущее.)
2. Начиная сей опус, я ожидал, что неуважаемые мною злопыхатели, критиканы социализма, инакомыслящие в антисоветском смысле слова, правый фланг движения песенной самодеятельности (с Галичем во главе), разочаровавшиеся в коммунизме как таковом и ставшие его ренегатами, будут аналогом маньеристов. А у меня получилось, что маньеризм это весьма уважаемая эпоха.
И мне пришлось изобрести “высокое” и “низкое” разочарование, “высокий” и “низкий” маньеризм (если уж нужно слово “разочарование” заменить словом “маньеризм”).
3. Пока я писал предыдущий свой большой и серьезный опус (с очень несерьезным названием “Солянка сборная”), у меня сложилась - пардон - концепция, что вершины искусства вздымаются в эпохи Незнания пути в лучшее социальное будущее. Мне там пришлось, однако, отказать в высоком художественном качестве тем, кто сверх меры разочаровался в Истории из-за этого Незнания.
И вот теперь я обнаруживаю, что “Гамлет” - плод очень уж сильного разочарования.
Что делать? Не отлучать же “Гамлета” от вершин искусства?
И я нашел что-то общее между историческими оптимистами и
некоторыми историческими пессимистами. Эти некоторые в какую-то сверхисторию, что ли, верят. И принц Гамлет, заботящийся о своей репутации в глазах потомков и сделавший его таким Шекспир, становятся у меня этакими сверхисторическими оптимистами!Эта лазейка похитрее той, что я в “Солянке сборной” придумал для Лермонтова: мол, лишь в крайне реакционном окружении без упадничества обходится крайне же разочарованный в Истории.
Пусть - согласно новой лазейке - будет у Лермонтова какая угодно степень разочарования, лишь бы он в сверхисторию верил (что упадочникам не дано) - и художественность ему обеспечена.
И я нашел в самое последнее время печатное подтверждение этому выверту - в межвузовском сборнике “Анализ одного стихотворения”, изданном в 1985 году в Ленинградском университете (но я, как уж у меня тут принято, стану подавать свою находку
сопрягая).<<
В творчестве Лермонтова мотивы “бури” и “покоя” почти неизменно противостоят друг другу как два начала, не поддающиеся даже относительному сближению. И выбор обычно делается в пользу одного из них. “Парус” оказывается исключением: здесь отчетливо звучит намек на потребность воссоединения противоположностей, ни одно из которых не может удовлетворить вполне... Жажда идеала устремлена здесь за все мыслимые пределы законов бытия и духа>> (Маркович).Это же то, что я называю верой в сверхисторию. Вот как ее утверждение обосновывается в “Анализе...”:
<<
Противоречия [ни поиски счастья, ни отказ от него]... снимаются в самой словесной художественной ткани лермонтовского стихотворения... В этом плане существенно распределение различных грамматических категорий между тремя строфами - особенно в рифмующихся окончаниях строк. В первой строфе рифмующиеся слова - прилагательные, во второй - глаголы, в третьей все (кроме одного) - существительные. Само “распределение словаря” выражает здесь движение... к субстанциональной утверждаемости (существительные)>> (Маркович).И еще:
<<
...характер имеет динамика чередования отдельных словесно-символических тем. Они играют важную роль в лермонтовском “Парусе”: поэтический смысл стихотворения... живет... в отдельных словах и словосочетаниях, выделенных своим эмоциональным тоном и символическим значением. Особым звучанием и особой смысловой емкостью отмечены слова “одинокий”, “ищет”, “кинул”, “бежит”, “счастье”, “буря”, “покой” и такие по существу нерасторжимые тематические группы, как “в тумане моря голубом”, “струя светлей лазури”, “луч солнца золотой”, “в стране далекой”, “в краю родном” и т. п. Каждая из этих тем в известной мере эстетически автономна, каждая обладает до какой-то степени самодовлеющим смыслом - нерасчлененным, мерцающе-зыбким, отчасти даже иррациональным, смыслом, для которого само фонетическое звучание слов не менее важно, чем их семантика [значение]. Отдельные слова и словосочетания выполняют здесь смысловые функции, близкие функциям музыкальной темы. Они объединяются помимо логических и синтаксических связей “поверх” лирического сюжета. В сущности, их связь создает своего рода “словесную мелодию”, взаимодействующую с ним.Эта мелодия звучит и входит в читательское восприятие как относительно самостоятельная смысловая величина. Тем важнее то обстоятельство, что ее развитие начинается лирической нотой одиночества, а завершается нотой покоя, которая смыслом и звучанием своим снимает предшествующее напряжение. Динамика возникновения и смены тревожно-драматических мотивов (“одинокий”... “ищет”... “кинул”... “бежит”... “мятежный”... “просит бури”) как бы разрешается в этой точке, разрешается не в динамике объективного смысла, но в ощущении читателя, в звучании стиха. Более всего - в каденции, завершающей интонационную динамику последнего предложения [
мелодию абы чем не кончишь, а каденция это гармонический оборот, которым кончить-таки можно], “гармонизирующая” тенденция поддержана неизменно симметричным, во всех строках одинаковым чередованием “пейзажных” и “медитативных” [с размышлением] двустиший. Таким образом формируется художественное целое, объемлющее и как бы заключающее в границы эстетической завершенности те беспокойно-мятежные порывы, которые пронизывают его изнутри>> (Маркович).А сверхисторически-оптимистичному выводу из “эстетической завершенности” специально посвящена соседняя статья в сборнике - об удивительно симметричной композиции стихотворения “Толпе тревожный день приветен, но страшна...” Баратынского. Баратынский же, вместе с Лермонтовым, отнесен уважаемым мной В. Кожиновым к некой разновидности русского... маньеризма (если прочесть - а прочесть разрешает вся моя работа - кожиновское “безысходное, дисгармоничное, тревожное, беспокойное барокко” как маньеризм).
Само это стихотворение Баратынского мне не понравилось. Я не хочу его переписывать и цитировать разбор его. Я просто пользуясь идейной (по большому счету - маньеристской) родственностью Баратынского с Лермонтовым присоединю выводы о том стихотворении к выводам о “Парусе”:
<<
...в... стихотворениях, в которых воссоздается “образ контрастного и единого в своей безысходности бытия”>> есть сверхисторическое - вершина-идеал над склонами-разладом. <<На вершине этого разлада перекличка противоположностей вносит отзвук поэтического согласия... Это не просто эстетическое преображение несовершенства жизни по индивидуальной творческой инициативе, а воссоздание объективно существующих [сверхисторическая цель?]... мирового порядка и мировой гармонии......движение мысли, вбирающее в себя и тем объединяющее все противоположности... рождает не только субъективное ощущение единства мира: совершенная “отделка стихов” призвана сделать это ощущение таким, чтобы оно могло быть передано другим людям...
>> (Гиршман).Так что и крайне отчаявшиеся в пору николаевской реакции Лермонтов и Баратынский поступают как Гамлет, не велящий умереть Горацио.
Чтоб читатель не поймал меня на исключительности, мол, “Паруса” и, следовательно, на неправомочности, мол, выводов об этой вещи на Лермонтова в целом, я бегло остановлюсь еще на нескольких стихах.
Я не понимаю, как специалист, анализирующий “Парус”, не замечает, что никакое это не исключение из лирики Лермонтова; что в каждом, наверно, стихотворении этого поэта звучит (я бы даже сказал - кричит) жажда соединения противостояний, “устремленная за все мыслимые законы бытия и духа”.
Какой порыв в запредельное, мечта преодолеть “
не поддающееся сближению” разъединение сосны и пальмы чувствуется в стихотворении “На севере диком стоит одиноко...”!..Или всеизвестная лермонтовская жгучесть, горечь одиночества, неразделенной любви к предмету... быть может, недостойному
такой любви... Разве не вопиют многие любовные стихотворения поэта о “потребности воссоединения противоположностей”?За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Здесь тоже своеобразные буря и покой: мучительная и полнокровная жизнь и смерть-ничто.
И разве в ироническом утверждении этих крайностей не звучит “намек на потребность воссоединения противоположностей”?
Что ни возьми - будет то же, если вдуматься. А если это все - слишком заумно и недостаточно понятно в своей беглости и отрывочности разбора, то вот, по-моему, очередной пример:
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...
Чем не вершина-согласие поэтическое, а идейно - вне-, сверхисторическое нечто, но не внеприродное, а принадлежащее какой-то высшей “мировой гармонии”?..
В общем, считаю, что когановско-лермонтовскую сосну из “Солянки сборной” я ввел-таки в систему большого маньеризма.
Но дело даже не в этой мелочи (хотя из-за мелочей-то, если они не пригнаны, и разражаются системоразрушающие катастрофы). Дело в том, что мне, кажется, удается ввести романтизм в волнообразное (относительно полюсов: индивидуализма и коллективизма) движение стилей.
Романтизм, являющийся художественным - если общо - отражением генеральной линии мировоззрения развивающегося молодого (но не первоначального, как в Возрождении) капитализма, романтизм - с его упором на личность,- отражающий психологию эпохи воинствующего второго пробуждения индивидуализма - этот романтизм на первых порах (сентиментализм, положим, или иной предромантизм) оказывается аналогичным раннему Возрождению, оказывается “низким”, противостоящим “высокому”, нормативному искусству, искусству долга - классицизму.
А далее, Высокому Возрождению,- а там, может, и позднему,- аналогом будет следующий “романтизм”, скажем, декабристский. Это когда дело доходит до революций, крови и смертей, когда индивид - как титаны Возрождения - отстаивая себя, стоит за целый класс (за третье сословие - до победы над феодализмом, за мелкую буржуазию - после победы).
Ну а маньеризму (включаемому некоторыми в Возрождение в широком смысле этого термина), такому маньеризму будут соответствовать те мечтатели, которые залетают с отчаяния в запредельные сферы.
Вот, итого, что дает моя выходка со сверхисторическим оптимизмом.
Впрочем, и этого мало. Она может пристроить такую мысль Аполлона Григорьева, что историзм идеалов искусства, мол, это мелко, это релятивизм, это “
эстетическое безразличие”, это “раболепное служение всякой жизни”.Сверхистория искусства и вообще жизни мне тем более импонирует, что, кажется, обретает уже вторую жизнь теория (Шмита) о прогрессивном циклическом развитии искусства, которая охватывает 40-тысячелетнюю прошлую историю и замахивается на предсказания тоже отдаленные. Повторяющиеся маньеризмы и барокко в ней спиральки на Сверхспирали. А вера или разочарование в коммунизме представляется на этой кривой последним сверхвитком, частным случаем.
Смысл всей Сверхистории и тем паче следующего, еще бо`льшего образования (если оно обнаружит себя) нам и близко неведом, но это не так уж режется с Аполлоном Григорьевым, с его “
единством идеала”.*
Через год соберется XXVII съезд КПСС, и на нем будет принята новая программа партии. Я не думаю, что это будет крупный теоретический шаг вперед по сравнению с прошедшими десятилетиями. Но даже если я окажусь прав, все же, думаю, что идея нынешнего сверхвитка к коммунизму (сверхвиток содержит N витков очарований и разочарований) достаточно гибка, чтоб объяснить будущие колебания стилей искусства.
А сверхисторический оптимизм пессимистов сто- и более столетней давности вернет мне всех великих художников Сверхспирали... в прокоммунизм.
Каунас. Весна 1984 - лето 1985 г.
Перестроечные комментарии
Я ошибся.
Разочаровавшиеся в доперестроечные времена создатели авторской песни (тогда она называлась самодеятельной - сама, без помощи государства, без официальных средств массовой информации продвигала себя в массы), так вот, разочаровавшиеся тогда в действительности барды разочаровались за разные качества той действительности. Одни - за то, что все больше и больше оказывалась фикцией борьба за коллективистский коммунизм - Высоцкий, например. Другие разочаровались в действительности за то, что в фиктивной этой борьбе подавлялся у большинства народа индивидуализм (красивее - личность). Тут ярким примером будет Галич.
Поэтому, строго говоря, к высоким маньеристам я безоговорочно должен был относить только первых, что я и сделал, и сделал в принципе правильно. Именно в принципе. Потому что конкретно по Высоцкому я, опять же, ошибся (опершись на отзывы о нем, а не на сами его песни). Разобрав впоследствии в разрезе всемирно-исторической Синусоиды стилей сами его песни, я увидел, что Высоцкий не дошел еще в своем развитии до маньеризма, увидел, что он - так сказать, поздний возрожденец.
А вот других разочаровавшихся я совсем зря отнес к низкому маньеризму.
Их дань низкому, телесному, индивидуальному, антипатия к общему - вовсе не результат слабости духа под влиянием краха коллективистского социализма. Краха тогда, в те десятилетия, еще не было. Они в коллективизме увидели зло, а в индивидуализме - добро. Низкий же маньерист зло,- зоологический эгоизм, например,- злом и считает. И восхваляет тот же зоологический эгоизм именно за то, что он - зло. В отместку добру за его поражение.
Не то - так называемые (или подразумеваемые) диссиденты. Это, строго говоря, не разочаровавшиеся в социалистической (по-коллективистски) действительности, а прозревшие ее порочность. Они должны мною называться ранними возрожденцами (или термином другого периода Синусоиды - ранними романтиками), которые из-за общей конфронтационности мира, из-за преследования властей СССР очень быстро проскочили в своеобразное непобедительное высокое возрождение (Окуджава) с его гармонией “я” и “мы”. Барды-диссиденты проскочили очень быстро в позднее возрождение и даже в высокий маньеризм, т. е. в коллективисты, но не как последние могикане борцов за коллективистский государственный социализм (с его антивещизмом, антипотребительством...), а как последние могикане уничтожаемых в СССР инакомыслящих, борцов против такого социализма.
Так глядя, мне не понадобилось бы пять лет назад метить низким маньеризмом свою антипатию к критиканству Галича. Я это критиканство - еще раньше - довольно адекватно определил как песенную публицистику (а публицистика - одна из граней науки с искусством, не нечто чисто художественное) и как сатиру (а сатира - наименее художественный род искусства из 4-х: эпоса, лирики, драмы и сатиры). Не стоило без специального разбора (как и в случае с якобы высоким маньеристом Высоцким) вешать ярлык низкого маньериста на Галича.
Я приношу извинение перед чтящими его.
И меня можно извинить. Его песни в период застоя не были особо доступными. Мне попались - очень злые: публицистические и сатирические. По ним я когда-то и сделал свой разбор (и от него не отказываюсь).
А с перестройкой Галич стал доступнее. Я услышал не только сатиру и публицистику.
Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были - и нет.
Так и лежим, как шагали - попарно, попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали - попарно,
И общий привет.
И не пугает ни враг, ни побудка, побудка, побудка,
И не пугает, ни враг, ни побудка
Уснувших солдат,
Только лежим и вдруг слышим, как-будто, как-будто, как-будто,
Только лежим и вдруг слышим, как-будто
Вновь трубы трубят.
Что ж, поднимайтесь, такие-сякие, такие-сякие!
Что ж, поднимайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь - не вода.
Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия,
Если зовет своих мертвых Россия,
То значит беда.
Вот мы и встали в крестах и нашивках, нашивках, нашивках,
Вот мы и встали в крестах и нашивках
В смертельном дыму,
Встали и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка,
Встали и видим, что вышла ошибка,
И мы - ни к чему.
Где полегла в сорок третьем пехота, пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота
Напрасно, зазря,
Там по пороше гуляет охота, охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря.
Под Нарвой и Псковом зародилась Красная Армия и вместе с бывшей царской армией (вот почему кресты и нашивки) спасла революцию в ее колыбели - Петрограде. А революция, ею рожденное государство наплевали на человека: этот “общий привет” (еще хорошо, что хоть как-то похоронили - в длинный ров, что ли, раз попарно, как шагали), это “напрасно, зазря” (по-сталински, не считаясь с потерями вели Великую Отечественную войну начальнички)... А может, и не похоронили вовсе людей (под влиянием все таких же начальничков) - не по кладбищу же “гуляет охота” (уже в брежневское, наверно, время) все той же, кстати, банды начальничков, ибо это их, по большей части, прерогатива - охота с егерями.
“Бедные герои, бедные патриоты России, бедные воители за святое общее дело революции! - как бы восклицает Галич.- Ваши чувства растоптали те, кто вас вел...”
И я смею думать, что Галич, тем самым, призвал к пересмотру веры (и сделал это высокохудожественно). И новая вера - вновь высока, поскольку объединяет.
Вот эта мистика - вставание мертвых во имя общих целей какой-то социальной группы и уход обратно - это признак высокого маньеризма.
Призрак в “Гамлете” хоть и призывает к делу частному - мщению сына за преступление брата и измену жены, но образом-то это оказывается “
возвышенных чувств, связанных с общественной жизнью” (де Санктис), не то что призрак Тингоччо из “Декамерона”, явившийся почти по бытовому приглашению в гости.Беда частных лиц, ставшая бедой всей России, всего СССР, хоть и вызванная “низкими” причинами низкого, почти африканского уровня жизни (образом чего является плевое отношение к жизни солдат и памяти о них) - эта беда оказывается групповым интересом тем более высоким, чем большей части народа эта беда касается непосредственно.
И вот - в позднем возрождении, в высоком маньеризме самодеятельной песни оказались две струи разного (“высокого” и “низкого”) происхождения. Нужно, однако, иметь теоретический аппарат, разработанный в данной книжице, чтоб это уловить.
Надо ли удивляться, что это не улавливается в условиях, когда не только мою книжицу немыслимо опубликовать, а и теория повторяемости больших стилей не приживается в СССР? Даже участники движения клубов самодеятельной песни двуструйность не улавливают.
Например, в 1989 году, выступая в Одессе, второе (кажется, второе) лицо этого движения - Мирзоян - назвал М. Анчарова родоначальником самодеятельной песни, а “военные” песни Высоцкого - вышедшими из такой вот - тут же спетой Мирзояном - военной песни Анчарова, которую Анчаров написал, мол, еще в 1944 году:
Парашюты рванулись и приняли вес,
Земля колыхнулась едва.
А внизу - дивизии “Эдельвейс”
И “Мертвая голова”.
Автоматы выли, как суки в мороз,
Пистолеты били в упор.
И мертвое солнце на стропах берез
Мешало вести разговор.
И сказал Господь: “Эй, ключари,
Отворите ворота в Сад!
Даю команду: от зари до зари
В рай пропускать десант”.
И сказал Господь: “Это ж Гошка летит,
Благушинский атаман.
Череп пробит, парашют пробит,
В крови его автомат.
Он врагам отомстил и лег у реки,
Уронив на камни висок.
И звезды гасли, как угольки,
И падали на песок.
Он грешниц любил, а они - его,
И грешником был он сам.
Но где ж ты святого найдешь одного,
Чтобы пошел в десант?
Так отдай же, Георгий, знамя свое,
Серебряные стремена.
Пока этот парень держит копье,-
На свете стоит тишина”.
Я слова эти списал из сборника, вышедшего в 1989 году. И там был напечатан еще один куплет:
И скачет лошадка, и стремя звенит,
И счет потерялся дням.
И мирное солнце топочет в зенит
Подковою по камням.
И дата стояла - 1964 год.
Я не помню, пел ли этот куплет Мирзоян. Я не знаю, правда ли, что в 44-м году появилась эта песня. Но я вижу, что война здесь взята для прямо противоположной цели, чем брал ее Высоцкий.
Высоцкий ее понимал (совсем как Днепров, которого вряд ли он читал) как период массового улучшения народа. Улучшение - в высоком, коллективистском смысле. А послевоенное время - как период массового же его ухудшения. Ухудшение - потому что возрастал индивидуализм, гуманизм (когда по-человечески все можно понять), аморальность (моральность - по определению ориентирована на общее, так что слово “аморальность” не нужно долго оговаривать, мол, направлено это понятие вниз - в принятой в этой книжице системе ценностей). Из аморального послевоенного времени Высоцкий рвался мечтой в моральное военное, причем с тем большей страстью, чем менее вероятно было, что его поймут, а если и поймут, то в жизни станут поступать морально.
А теперь смотрите, что Анчаров.
Ненавистно это спускание в ад - месторасположение отборных фашистских дивизий; ненавистна стрельба, как вой сук в мороз; ненавистно само солнце - мертвое. Вся война ненавистна. Причем с точки зрения персонажа (“Парашюты рванули и приняли вес, земля колыхнулась едва” - это видит и чувствует десантник). Яростно поет это Мирзоян, с ненавистью. Как бы вживаясь в ненависть десантников. Но ненависть эта скорее не к врагу, губителю святого коллективистского социализма, а к командирам, не считающимся с потерями: “от зари до зари в рай пропускать десант”
.Мы узнали теперь, что Сталин с народом, с потерями не считался, и вся рать начальников его копировала. А солдаты это чувствовали на себе и вполне могли презирать “святош”, которые за высокие идеалы все-таки не лезли в самое пекло.
А этот Господь из песни вполне как тот всеведущий, что успокоил Тингоччо. И он - за грешниц, и за грешников, и за атамана какой-то банды благушинской. И он против войны, как одухотворяющего, улучшающего людей начала, как борьбы за святое большого коллектива. Не нужно Господу святое. И он разоружает и экспроприирует святого Георгия в пользу благушинского Гошки.
И все это,- если прав Мирзоян,- еще в разгар войны, еще в 44-м году. Из войны: “Мира давай!” А не наоборот, как (образно) Высоцкий. И последний куплет - апофеоз мира, бесконечно долгого, но не надоедающего - все в зенит идет мирное солнце, и не величественная, а приземленная, для маленьких человеков, лошадка цокает под мирным Гошей. Вечный мир - мечта воюющих (вполне и в 44-м мог это сочинить Анчаров, а не в 64-м).
Но полярен гуманизму, мы знаем, другой полюс - коллективизм. И если Анчаров гуманистичен, то не мог из него выйти Высоцкий (и судить об этом можно не глядя, когда ж на самом деле была сочинена “Баллада о парашютистах”).
Впрочем, проследив от “а” до “я” идейно-художественные генетические связи, я теперь согласен уступить Аниксту насчет смешения стилей (ибо вижу теперь, из каких составляющих смесь состоит, а это уже - не эклектика).
Художник, чего доброго, всегда прокоммунист. В том смысле прокоммунист, что тяготеет к гармонии тела и духа, природы и человека, человека и общества. А мир гармоничным перед ним никогда почти не предстает. Вот художник и бунтует своим творчеством. Против того, в первую очередь, бунтует, в какую сторону, как ему кажется, мир сдеформирован от идеала. А один и тот же мир разным художникам предстает сдеформированным в разные стороны: в зависимости от того, на какую сторону крив отроду или по воспитанию сам творец. И кривой налево иной раз может и мир увидеть скривленным налево же, если мир уж чересчур налево окривел для него в тот раз.
Так, наверно, рождаются нехарактерные для “левого” художника “правые” опусы, а для “правого” - “левые”.
Я сознаю, что разработанная здесь схема развития искусства достаточно груба и много чего в художниках оставит необъясненным. Но как в математике есть методы приближенных вычислений, так и здесь. С какой-то, приемлемой, степенью точности они приводят к в общем-то правильному результату. Во всяком случае, за истекшие 5 лет я десятки произведений проверил, и они у меня нашли свое место на всемирно-исторической идейно-художественной Синусоиде искусства. С этим, думаю, надо считаться.
Одесса. 8. 06. 1990 г
ББК 87.811.181г
В 68
УДК 111.852:7.011(091)
Воложин Соломон Исаакович
Сопряжения. - Одесса: ООО Студия “Негоциант”, 2001. - 124 с. – (Закономерность искусства. Кн. 1)
ISBN 996-7423-83-2
Книга представляет собой как бы стенограмму потока сознания автора, осваивающего азы философии истории искусства и приходящего к собственной версии этой философии. Она заключается в акценте на изменчивости идеалов художника как движущей силе изменчивости стилей в вековой диалектической спиралевидной (синусоподобной) повторяемости плавного изменения идеалов, колеблющихся между коррелирующими друг с другом парными ценностными оппозициями: ингуманизмом, коллективизмом, общим, “высоким” - с одной стороны - и гуманизмом, индивидуализмом, частным, “низким” - с другой, а также с гармоничными сочетаниями “высокого” и “низкого”, общественного и личного и т. п. в середине. И это все - для художника, умеющего приспособиться к изменяющейся действительности. А для не умеющего - с экстремистским идеалом, как бы инерционно вылетающим вон с синусоиды идеалов в месте перегиба этой кривой.
Попутно здесь разбирается “Гамлет” Шекспира и произведения Микеланджело, Булгакова, Черкашина, Маяковского, Дж. Донна, Нагибина, Мошковского, Олеши, Лермонтова, Галича, Анчарова.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на специалистов.
| В 0301080000 | ББК 87.811.181г |
| 2001 | УДК 111.852:7.011(091) |
| ISBN 996-7423-83-2 | O Воложин С. И., 2001 |
| O Студия “Негоциант”, 2001 |
Соломон Исаакович Воложин
СОПРЯЖЕНИЯ
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
Н/К
Сдано в набор 01.11.2001 г. Подписано к печати 10.11.2001 г.,
формат 148х210. Бумага офсетная. Тираж 20 экз.
Издательский центр ООО “Студия “Негоциант”
270014, Украина, г. Одесса-14, а/я 90
Конец второй и последней интернет-части книги “Сопряжения”
| К первой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |