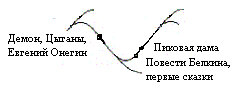
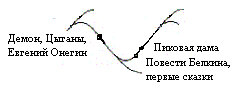
С. Воложин
Доклады для Пушкинской комиссии
|
Нецитируемый катарсис, озаряющий из-за противочувствий от противоположных элементов произведения, и Синусоида идеалов с вылетами как иллюстрация движителей истории искусства и творчества художника – вот то, что открывает истинный художественный смысл произведения искусства. |
Первая интернет-часть книги
“О сколько нам открытий чудных…”
С. Воложин
О сколько нам открытий чудных..
Доклады для Пушкинской комиссии
при Одесском Доме ученых
Одесса 20
03
В стихах: Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я - слова “утром”, “уверен”, “увижусь” находятся в... связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук “у”... конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в ряде слов заставляет выделить его в сознании... как некую самостоятельную единицу... она получает семантику от слова... “утром”, “уверен”, “увижусь”... возникает значение, невозможное вне этого сопоставления... “архисема”...
...“Архисема” не дана в тексте непосредственно...
...В дальнейшем... структура строится уже на уровне архисем, которые, включаясь в оппозиции, раскрывают сопротивопоставленность своего содержания, образуя архисемы второго и высших уровней, что, в конечном итоге, ведет нас к постижению одного из аспектов...
(Ю. М. Лотман)
...художественного смысла произведения, если этак пройти по всем уровням текста: звукам, стихам, строфам, ситуациям, мотивам и т. д.
Обстановка моей деятельности
как интерпретатора
(Вместо предисловия)
Две особенности резко отличают меня от других деятелей в области интерпретационной критики: 1) использование тригонометрической аналогии для иллюстрации изменчивости художнических идеалов - синусоиды бесконечной, к точке на которой я свожу художественный смысл конкретного произведения; 2) парадоксальное использование противочувствий для катарсиса (по Выготскому), приводящее меня к утверждению, что художественный смысл есть катарсис, и в, скажем, произведениях литературы его нельзя процитировать, в произведениях живописи в него нельзя ткнуть указкой и т. д., зато об этом неуловимом художественном смысле принципиально возможно сказать словами, причем довольно коротко.
Так если синусоиду у меня не принимают по недоразумению - она же просто необычное отражение обычного социологизма и культурно-исторической школы, то с нецитируемостью художественного смысла, выраженного мною, интерпретатором, в нескольких словах, совсем беда: и субъективизм, мол, это отчаянный и кощунство примитивное.
О кощунстве - подробнее.
*
Вообще в интерпретаторы идут редкие люди. Потому что это очень скользкая область. Это - если сказать по-плохому. Если по-хорошему - там очень мало наукой наработано и потому там легко испортить себе репутацию.
Вот как толкование характеризуют
за здравие,
за здравие рискующих им заняться
.(Курсивом я отмечу источники, жирным шрифтом - прямое цитирование, обычным - свои вставки.)
Верли М. Общее литературоведение. М., 1957. С. 75-76:
“...в работе по истолкованию литературного произведения меньше, чем в какой-либо другой области гуманитарных наук, можно говорить о каких-то точных, традиционно сложившихся методах работы, о четко определившемся направлении исследования. Поэтому и приходится говорить об “искусстве толкования”, об интуитивном или экзистенциональном характере любой попытки освещения произведения”.
Нет принципиального “нет”. Как же относиться к критику, пытающемуся подкрепить свои, пусть и озарения, некоторыми правилами и проверкой? Совсем терпимо? Шмелев Д. Н. Слово и образ. М., 1964. С. 15:“...оценки роли тех или иных речевых средств в художественных произведениях не являются... бесспорными и четко очерченными”.
Уже не категорическое фэ. А если вдобавок оценивать эти средства с точки зрения, например, идеи целого произведения, которая как сок, мол, пропитывает весь плод и каждую его клетку? Совсем терпимо?
Виноградов В. В. О теории поэтической речи. М., 1971. С. 103:В области языка как формы “до сих пор еще нет единства мнений и нет больших достижений”.
Так, может, хвалить безумство храбрых, забирающихся в эту terra incognitа?
Рудяков Н. А. Стилистический анализ художественного произведения. К., 1977. С. 4:“Проблема стилистического анализа художественного произведения, цель которого - “в анализе формы увидеть полнее содержание” (Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. С. 278), справедливо считается одной из наиболее сложных проблем современной филологии”.
С. 8:
“Выдвинутая Л. В. Щербой проблема целостного анализа художественного произведения, по общему признанию, остается до сих пор нерешенной”.
Так, может, хотя бы как-то попробовать решить?
Вы видите, что я пытаюсь комментировать все эти не совсем негативные оценки ситуации как пение за здравие мне подобным, рискующим.
А теперь пойдет -
за упокой
.Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 121:
“Описательное стиховедение и описательная поэтика исходят из представления о художественном построении как механической сумме ряда отдельно существующих “приемов”. При этом художественный анализ понимается как перечисление и идейно-стилистическая оценка тех поэтических элементов, которые исследователь обнаруживает в тексте. Подобная методика анализа укоренилась и в школьной практике. Методические пособия и учебники пестрят выражениями: “выберем эпитеты”, “найдите метафоры”, “что хотел сказать писатель таким-то эпизодом?” и т. д.
Иной подход... подразумевает, что тот или иной “прием” рассматривается не как отдельная материальная данность, а как функция с двумя или чаще многими образующими. Художественный эффект “приема” - всегда отношение”.
Я тоже когда-то начал с описательной поэтики, с подхода: “что есть что”. Но вскоре спохватился, наткнувшись на “Психологию искусства” Выготского. Помню, как я чуть не подскакивал от таких выражений: “В течение столетий эстетики твердят о гармонии формы и материала и вдруг мы обнаруживаем, что это величайшее заблуждение”. Или: “Предрассудок, будто характеры действующих лиц должны определять собой действия и поступки героев”. И т. д. и т. п. Почти как Лотман (с. 164):
“...общим законом структуры поэтического текста”
является “соотнесенность” частей. “Сама по себе” часть “просто не существует: все свои качества, всю свою определенность любая часть текста получает в соотнесении (сравнении и противопоставлении) с другими его частями и с текстом как целым”.Только у Выготского все время известно, что кроме характера и действий, кроме формы и материала, кроме одного и другого есть третье, нематериальное, так сказать, но совершенно определенное - катарсис. А у Лотмана - хоть и тоже “не отдельная материальная данность”, но зато нечто, совершенно не дающее определенности - “отношение”.
У Выготского - “зачем так”, у Лотмана - “как” без интереса к “зачем”.
С. 7:
Из Гегеля следует, что искусство теперь дает некое знание низшего типа. “Несмотря на то, что это положение Гегеля неоднократно подвергалось критике, например Белинским, оно настолько органично... что снова и снова возникает в истории культуры... Это же убеждение проявляется в слабых сторонах методики изучения литературы, настойчиво убеждающей учеников в том, что несколько строк логических выводов (предположим, вдумчивых и серьезных) составляют всю суть художественного произведения, а остальное относится к второстепенным “художественным особенностям””.
А отсюда - я так понимаю - отказ настоящих ученых говорить о художественном смысле или, по крайней мере, стеснительное упрятывание высказанного о нем где-то в середине абзаца, в придаточном предложении, практический отказ вывести словосочетание “художественный смысл” в заглавие и т. д. и т. п.
С. 9:Искусство оказывает “человечеству незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще ясных по своему механизму сторон человеческого знания”.
А раз так, то не думай, мол, что ты умней других.
Я, впрочем, и не думаю. Атанас Натев эту незаменимую услугу уже открыл и назвал. Удивляюсь, что до Лотмана это не дошло.
С. 10-11:Пушкин свой стих о непонятной жизни кончил так:
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...
Жуковский это неопубликованное Пушкиным стихотворение, публикуя, улучшил по рифме:
Темный твой язык учу...
“...для нас важно другое: кто бы ни сделал это изменение - Пушкин или Жуковский,- но для него стихи:
Смысла я в тебе ищу...
и
Темный твой язык учу -
были семантически эквивалентны: понять жизнь - это выучить ее темный язык”.
Будто не бывает, что язык знаешь уже, а смысл сообщения не понятен еще, и душе надо трудиться и трудиться. Но для Лотмана-то важно не идти дальше языка, за которым - художественный смысл.
С. 11:Художественная информация “неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга... объяснить, как художественный текст становится носителем определенной мысли - идеи... такова общая цель...” книги Лотмана.
Это как иной биолог: найти некий центр удовольствия в мозгу у крысы - он найдет, но сказать, какое удовольствие получает крыса от раздражения этого центра: половое, вкусовое или еще какое, - нет, этого он не скажет. Исследуйте сами на свой страх и риск. А я, мол, не при чем, если вы ошибетесь.
С. 17:“...художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно недоступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, что данная информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне данной структуры. Пересказывая стихотворение обычной речью, мы разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего не тот объем информации, который содержался в нем. Таким образом, методика рассмотрения отдельно “идейного содержания”, а отдельно - “художественных особенностей”, столь привившаяся в школьной практике, зиждется на непонимании основ искусства и вредна, ибо прививает массовому читателю ложное представление о литературе, как о способе длинно и украшенно излагать те же самые мысли, которые можно сказать просто и кратко”.
И замалчивается синтезирующий анализ Гуковского, способный в каждом элементе увидеть идею целого, замалчивается так называемая сходимость такого анализа, принципиально отказывающегося рассматривать отдельно идейное содержание от художественных особенностей.
С. 32-33:“...художественный текст выступает и как совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно... этот “язык искусства” - сложная иерархия языков... С этим связана принципиальная множественность возможных прочтений художественного текста”.
Будто нельзя занумеровать и иерархию прочтений: то единственное, которое все соотнесет в подпрочтениях, то и верно. Сходимость анализа!
С. 33:
“...художественный текст имеет особенность: он выдает разным читателям различную информацию - каждому в меру его понимания, он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой организм, находящийся в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя”.
Так почему версию, соответствующую бо`льшей обученности, не признать более верной? - Нет. Молчаливо принята терпимость ко всем версиям, кроме абсурдых. А интерпретатору, мол, лучше вообще помалкивать и перейти на другой род деятельности.
С. 34:
“...обычные виды связи знают только два случая отношений сообщения на входе и выходе канала связи - совпадение или несовпадение... А между пониманием и непониманием художественного текста оказывается очень обширная промежуточная полоса”.
По принципу “если не можешь достигнуть удовлетворения потребности (тут - в понимании) - снизь ее уровень”. А кто с этим принципом не хочет мириться, тот, мол, мальчишка, жизнью не битый, или дурак неисправимый.
“...разница в толковании произведений искусства - явление повседневное и, вопреки часто встречающемуся мнению, проистекает не из каких-либо привходящих и легко устранимых причин, а органически свойственно искусству”.
Так как же ученому позволить себе выдать интерпретацию, когда другой тут же выдаст другую и тоже обоснованную?
С. 45-46-47:
Наконец,- в порядке раздачи всем сестрам по серьгам,- можно и толкователям кинуть кость:
“Именно изучение того, что же означает “иметь значение”, что такое акт коммуникации и какова его общественная роль,- составляет сущность семиотического подхода. Однако для того, чтобы понять содержание искусства, его общественную роль, его связь с нехудожественными сторонами человеческой деятельности, мало доброго желания, мало и бесконечного повторения общеизвестных и слишком общих истин. Нужен семиотический подход.
Если считать это формализмом, то права Простакова по поводу того, как разделить найденные “триста рублев” троим поровну: “Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке”...
...Можно по-разному относиться к обучению арифметике или грамматике, но нельзя опровергнуть того, что для овладения этими науками их следует - на определенном этапе - представить как имманентные, замкнутые...
...изучение культуры, искусства, литературы как знаковых систем в отрыве от проблемы содержания теряет всякий смысл. Однако нельзя не видеть, что именно содержание знаковых систем, если только не удовлетворяться чисто интуитивными представлениями о значениях, наиболее сложно для анализа”.
Лезьте в эту сложнятину, фанатики толкований. Но - не нормальные люди.
С. 78:
Можно даже притвориться, будто на кинутой толкователям кости в принципе есть мясо.
Из “...невозможности пересказать поэзию прозой, художественное произведение - нехудожественным языком... не вытекает часто делаемого вывода о том, что наука о литературе... бессильна уловить... единичное своеобразие, в котором и состоит сущность произведения искусства”.
С. 90:
Об этом “в принципе мясе” Лотман говорит как “о совокупности допустимых истолкований”, но не как “об одном исключительном истолковании”.
С. 89:
Сдаваясь перед жизнью, требующей интерпретаций именно исключительных, что “неоднократно вызывало (порой весьма обоснованные) протесты”, но “бесконечное число раз практиковалось в истории культуры и, видимо, будет практиковаться и в дальнейшем, поскольку... органически вытекает из самой общественной роли искусства”, Лотман не понимает специфики этой роли.
Роль-то эта - по Натеву - испытательная. Функция искусства, ничему больше не присущая, есть <<непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества>>. (Натев А. Искусство и общество. М., 1966. С. 212, 224.)
Однако для Лотмана это остается тайной. Даже когда он говорит о рамке и моделировании действительности (С. 258).
С. 90:
А сдается он толкователям - лишь будто бы.
“Поэтому целесообразно будет указать на возможный путь, следуя по которому мы сможем [толковать] с наименьшими утратами”
.Потому “будто бы” он сдается, что пути-то к исключительному художественному смыслу и не дает. А если и дает,- я его даже в эпиграф вынес,- то в конце рекомендации стесняется признать, что это путь к художественному смыслу. К “постижению одного из аспектов структуры произведения”
(С. 181),- увиливает в последний миг Лотман, и мне пришлось - в эпиграфе - оборвать его и вставить более достойные слова.С. 101:
И еще потому “будто бы” сдается он толкователям, что то, что он дает-таки, это - думает он - не путь уточнения исключительного варианта содержания, а - хоть он и не акцентирует - путь увеличения различности содержаний в связи с “многократными вхождениями одного и того же элемента в различные конструктивные контексты” (а раз конструктивные,- понимаю я Лотмана,- то - и содержательные).
Ну а я - буду акцентировать досадный плюрализм Лотмана при цитировании:
“Закон художественного текста: чем больше закономерностей (указующих, каждая, на свой смысл) пересекается в данной структурной точке, тем индивидуальнее он кажется. Именно поэтому изучение неповторимого (многосмысленного) в художественном тексте может быть реализовано только через раскрытие закономерного (многозакономерного) при неизбежном ощущении неисчерпаемости (количественной и разносмысленной) этого закономерного.
Отсюда и ответ на вопрос о том, убивает ли точное знание произведение искусства. Путь к познанию - всегда приближенному - многообразия (в вариантах художественного смысла) художественного текста идет не через лирические разговоры о неповторимости, а через изучение неповторимости как функции определенных повторяемостей (за каждой из которых - свой смысл), индивидуального (многосмысленного) как функции закономерного (многозакономерного).
Как всегда в подлинной науке, по этой дороге можно только идти. Дойти до конца по ней нельзя. Но это недостаток только в глазах тех, кто не понимает, что такое знание”.
Лотман знание понимает как бесконечное увеличение количества вариантов смысла. А я - как бесконечное уточнение и подтверждение исключительного смысла и бесконечное же подтверждение ложности всех остальных смыслов.
С. 90:
Что я не ошибаюсь со своим акцентированием Лотмана, свидетельствует следующее:
“Вероятно, все исторически имевшие место истолкования “Евгения Онегина”, если к ним прибавить те, которые еще возникнут прежде чем это произведение перестанет привлекать читательский интерес, будут составлять область значений пушкинского романа в переводе на нехудожественный язык... Все новые и новые коды читательских сознаний выявляют в тексте новые семантические пласты.
Чем больше подобных истолкований, тем глубже специфически художественное значение текста и тем дольше его жизнь. Текст, допускающий ограниченное число истолкований, приближается к нехудожественному и утрачивает специфическую художественную долговечность (что, конечно, не мешает ему иметь этическую, философскую или политическую долговечность...)”.
По-моему же, художественную долговечность произведение имеет постольку, поскольку умеет воздействовать непосредственно и непринужденно. А уж этическая, философская и политическая долговечость обеспечивается повторяемостью человеческих идеалов в истории. Пусть только они будут в произведении - эти этические, философские и политические ценности. А уж возбудить - по аналогии или по противоположности со злобой дня - людей они смогут всегда. Важно, повторяю, чтоб произведение смогло - через века - донести до будущих людей свои этические, философские и политические ценности именно непосредственно и непринужденно. И все! И ответное вибрирование душ обеспечено. Шедевры, вроде бы все признают, это умеют. Потому шедевры искусства живут вечно.
Ну, почти вечно.
Все ж не только повторяется, но и изменяется тоже. Вследствие изменчивости развивается глухота на старое.
Но если прочистить уши... Если ввести в курс прошлого... Смерть отступит. Будет возрождение.
Но Лотман, даже когда пускается в операцию прочистки ушей, умудряется увильнуть в сторону от открытия художественного смысла (С. 237)
:“То как Якобия оставить,
Которого весь мир теснит?
Как Лонгинова дать оправить,
Который золотом гремит?
(Державин)
“Якобий” и “Лонгинов” выполняют в державинском тексте роль антонимов. Однако для современного читателя, который не знает ни об иркутском генерал-губернаторе И. В. Якоби, обвиненном в попытке вызвать военное столкновение с Китаем, ни о петербургском купце И. В. Лонгинове, ни о страстях и интригах, кипевших вокруг их процессов... эти имена лишены собственного, вне текста стихотворения лежащего значения. Державинское отождествление “Якобия” с “гонимым праведником”, а “Лонгинова” с “торжествующим злом” ни с чем не совпадает и ничему не противостоит в сознании читателя (напомним, что совпадение - частный случай конфликта). Поэтическое напряжение, которое существовало в этом месте текста, утрачено”.
Так на то есть институт комментариев. И он бы нас навел на аналогии с “незаконной” квартирой Собчака и патриотизмом (за который все прощают) Наздратенко, выступившего против мелкой уступки Китаю в пограничном соглашении. Комментарий бы заставил сравнить бандитов, приведших к власти Екатерину II, с криминалитетом, распоясавшимся при Ельцине. Это теперь. А когда Лотман писал свою книгу, аналогии должны были б быть с брежневско-чурбановскими предпосылками нынешнего массового разврата, о чем говорили на кухнях лучшие люди страны. Напряжение державинского стиха было бы восстановлено. Но в чем его художественный смысл - напряжения?
Может, вообще опасно было при тоталитаризме доходить до художественного смысла любого произведения (чтоб не натыкаться иногда на открытие идеологически запретного и не подвергать себя тогда унизительной самоцензуре)?
С. 234- 235
:“В организации стиха можно проследить непрерывно действующую тенденцию к столкновению, конфликту, борьбе различных конструктивных принципов...
Думается, что, глядя на стихи с этой точки зрения, мы... неизбежно придем у выводу о том, что любое явление структуры художественного текста есть явление смысла
...Художественный эффект создается именно фактом борьбы. Полная победа той или иной тенденции, незыблемость значений, существовавших... до возникновения данного текста, и полное их разрушение, позволяющее безо всякого сопротивления создавать любые текстовые комбинации, в равной мере противопоказаны искусству...”
И дальше идет упоминавшийся пример с Державиным.
Казалось бы, все! Лотман “сдался” Выготскому с его борьбой противоречивых элементов, как признаком художественности.
Но нет. Он и тут выскользнул и переключил нас на “энергию стиха”, отвлеченную от художественного смысла конкретного произведения.
Все-таки он враг толкователей.
И они,- изредка и втайне призываемые, а чаще затурканные и по сей день,- прозябают.
*
Ну а я оказался особенным даже среди редкостных ныне толкователей...
Ибо я считаю, что творцу художественный смысл в словах обычной речи не дан в принципе (от волнения хотя бы), поэтому он выражает его противоположностями. (“Прозаизмы - поэтизмы”
, ““расподобление” языка - “уподобление” картине действительности”, “явление - ожидание”, “закономерность - ее разрушение” - Лотман дал десятки примеров противоположностей - и сознательных, и бессознательных). И творец выражается - нечего стесняться - сравнительно длинно, и избыточно (в каждом столкновении противоположностей произведения сквозит одна и та же, одна и та же идея целого), и можно даже по сохранившемуся всего лишь фрагменту реконструировать эту идею целого. И воздействует произведение на нас и непосредственно (как жизнь), и непринужденно (как выдумка, т. е. не как жизнь), и на наше сознание воздействует, и на наше подсознание. И мы всем своим существом соотносим свое сокровенное с идеалом автора, и тем самым человечество нас - каждого персонально - испытывает. Но только чаще всего лучше это получается с помощью интерпретатора, который в качестве сотворца выдаст вашему сознанию,- одному только сознанию!- кратко, словами обычной речи открывшийся ему художественный смысл вещи, созданной когда-то автором в силу вдохновения, то есть вырвавшегося проявления авторского идеала, который автор иначе - словами обычной речи - не мог выразить, как гениален он ни был.Акцентируя результат столкновения противоположностей - назовем это “зачем так” - (в пику лотмановскому “как” и в пику “что” гонимых им примитивных интерпретаторов), я оказался, похоже, в одиночестве на ниве синтезирующего анализа в интерпретационной критике. И принялся пахать целину. И не получал урожая признания при климате, какой застал. И стал издавать книги крошечными тиражами, для библиотек, для будущего климата. Ну и читал доклады терпимой Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых.
*
Когда я увидел, сколь мало влияния оказывают мои доклады на немногочисленных посетителей заседаний этой комиссии, я понял, что и с этими выступлениями я должен обратиться к будущему: издать книгой и подарить ее библиотекам.
Я собрал те доклады, что не перекрываются изданными книгами, и вот они перед вами, расположенные в порядке зачитывания, если были произнесены на заседаниях, а затем незачитанные - в порядке их написания.
Три исключения.
Одно. Когда я уточнил для себя художественный смысл “Капитанской дочки” и “Полтавы” и поместил это в данный сборник, стало ясно, что надо сюда вставить и то, относительно чего произошло уточнение - газетную статью.
Другое. В конце я вставил не доклад. Очень уж он пришелся под стать всему содержанию книги.
Третье. То же - с отрывком из одного частного письма.
Те возражения, которые я получил после зачитывания докладов, если они, на мой взгляд, хоть чего-то стоили и были сколько-то обоснованы и логичны, помещены в конце соответствующего доклада, но не дословно, а как они мне запомнились. Я не считал целесообразным приводить здесь мои ответы, зато возражения мне, по-моему, показательны.
Одесса. Зима-весна 2002 г.
Лотман и художественный смысл
“Евгения Онегина”
В науке в отличие от искусства глубокая мысль выигрывает от упрощения.
А. Б. Мигдал
А интерпретационная критика - скорее наука, чем искусство...
Мне уже не раз приходилось отмечать практически принципиальный отказ ученых рассматривать художественный смысл произведения искусства. Еще в 1947 году Гуковский написал: <<
Установилась даже некая привычка считать, что “академической” науке, мол, и негоже заниматься толкованием смысла... литературных произведений, что это, мол, дело критики и школы. Нелепый и вредный взгляд. А откуда же возьмет средняя школа свои толкования произведений, если наука не даст ей этих толкований?>> [2, 52] Прошло полвека, а воз и ныне там. Свыше тридцати лет я читаю литературоведческие и искусствоведческие работы и почти ни разу не встретил такую, которая называлась бы “Художественный смысл произведения имярек”. Шестой год я почти без пропусков посещаю заседания нашей Пушкинской комиссии и за исключением своих докладов не помню ни одного, посвященного исключительно открытию художественного смысла какой-нибудь вещи, толкованию ее.В обыденном сознании считается даже неприличным толковать: “Люди сами с усами. Без вас поняли или поймут”. Или: “Каждый понимает по-своему и нечего к нему навязываться”.
Приходилось слышать и от наших членов Пушкинской комиссии скептическое отношение к толкованиям как к чему-то зыбкому и потому, мол, для себя они выбрали целью биографические изыскания: “Найдешь в архиве документ. И все. Что написано пером - не вырубишь топором. Это уже абсолютная истина”.
Восхождение к художественному смыслу какого-нибудь творения находишь в лучшем случае, как эпизод, как крупинку золота в породе и редко - в золотоносной. Потому что чаще всего пишут и докладывают даже не касаясь творения, не опираясь на текст литературного произведения.
И что самое ужасное, это что если и опираются на текст, то как на воспринятый, как говорится, “в лоб”. Будто художественный смысл произведения литературы можно процитировать. Будто и не была уже больше тридцати лет назад опубликована “Психология искусства” Выготского.
Работа Лотмана “Роман в стихах Пушкина “Евгений Онегин”. Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста” (1975 г.) опирается и на текст и вспоминает Выготского.
Надо ли напомнить, что, по Выготскому, произведение искусства (любого) состоит из противоречивых элементов, которые обеспечивают дразнящий эффект (противочувствия), завершающийся аннигиляцией (взаимоуничтожением) противочувствий и возникновением катарсиса (в случае с литературой - у читателя). Если этот катарсис (переживание целостное, включающее в себя и подсознательное) суметь осознать и выразить словами (последействие искусства) - получится некое приближение к художественному смыслу произведения. Это - акт сотворчества, воспринимаемый как озарение. После него, если вернуться мыслью к прочитанному, то каждый кусочек, как в яблоке соком, пропитанным представляется идеей целого произведения.
В общем эта же идея двигала когда-то автором как вдохновение, будучи не до конца осознаваемой им самим, так как в этом процессе, опять же, участвует весь организм автора, в том числе и его подсознание.
Как бы долго автор ни писал свое произведение, как бы ни менял замысел и ни менялся за это время сам, если произведение цельно - художественный смысл его остается одним и тем же и проявляется в каждом кусочке, ибо автор его правил, правил, полагаясь не только на память, рассудок, но и на подсознательное, на интуицию. И если это гений - все у него оказывается соотнесенным.
Лотман показал, что Пушкин начал осуществлять свой замысел “Евгения Онегина” <<
в плане сатирического противопоставления светского общества и светского героя высокому авторскому идеалу>> [3, 400], связанному <<с кругом молодежи декабристского типа>> [3, 400]. Начало работы над романом - май 1823 года. А в апреле Орлов, желавший военным антиправительственным выступлением спровоцировать гражданскую войну, был устранен с поста командира дивизии в Кишиневе. Разброд в декабристском движении усилился: <<вопрос о необходимости политического контакта с социально чуждой средой - народной и солдатской>> [3. 407] смущал. Она инертна или, будучи разбужена, опасна? Начались переоценки ценностей, неверие и пессимизм. <<С этих позиций представление об “умном” человеке ассоциировалось уже не с образом энтузиаста Чацкого, а с фигурой сомневающегося Демона... Такой подход заставил по-иному оценить и скуку Онегина>> [3, 408]. Тот <<вырос в серьезную фигуру, достойную встать рядом с автором>>, что <<создало угрозу возвращения к характерному для романтической поэмы слиянию героя и автора>>, бывшему <<для Пушкина уже пройденным этапом>> [3, 408]. <<Характерно, что именно в конце первой главы, когда мир героя и мир повествователя сблизились, Пушкину пришлось прибегнуть к знаменитому декларативному противопоставлению себя Онегину... Быстрая эволюция воззрений Пушкина привела к тому, что в ходе работы над первой главой замысел сдвинулся... Отношение автора к нему также коренным образом изменилось. Противоречия в тексте главы не укрылись от взора автора. Однако произошла весьма странная вещь: Пушкин не только не принял мер к устранению их, но, как бы опасаясь, что читатели пройдут мимо этой особенности текста, специально обратил на нее внимание:...Я кончил первую главу:
Пересмотрел все это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу...
>> [3, 409]Это цитировалось из первой главы работы Лотмана и называется она “Принцип противоречий”. Этот принцип иллюстрируется Лотманом и во всех остальных главах.
Во второй главе он трактует о столкновении в “Евгении Онегине” многообразно проявляющейся “чужой” речи с авторской. В третьей - о столкновении художественных точек зрения стилей предшественников: классицистов, сентименталистов, романтиков - с неэстетизированной точкой зрения. В четвертой главе говорится о столкновении синтаксических и ритмических единиц, которое интегрально сталкивалось со всем, что было в поэзии до “Евгения Онегина”. В пятой главе речь идет вообще о столкновении в этом романе литературности с нелитературностью. И так далее и так далее.
И лишь дважды, вскользь, Лотман позволяет себе высказать, к чему приводят все эти бесчисленные столкновения противоположностей и противоречий в сознании и подсознании читателя и что было в сознании и подсознании автора и подвигнуло его на создание этого романа в стихах. Лотман позволяет себе сказать о намеке <<
неустроенности жизни и сомнения в возможности ее устроить>> (раз) [3, 442]. И другой раз он пишет, что результат <<осознается как вхождение... в подлинный, то есть простой и трагический мир действительной жизни>> [3, 444].Я б от себя добавил только, что и автор и, вслед за ним, читатель не испытывают особого огорчения от такого открытия. А раз нет пессимизма, то есть какое-то светлое предчувствие надежды в будущем открыть другой идеал, чем был у предшественников в эпоху Просвещения и во времена романтизма.
Кто знает мой метод выявления идеала с помощью Синусоиды изменений идеала во времени, тотчас согласится, что “Евгений Онегин” находится на перевальной точке перехода с восходящей ветви Синусоиды на нисходящую, на которой - нисходящей - будет осуществлено барочного типа соединение несоединимого: идеалов сверхвысокого и сверхнизкого,- изображаемых на вылетах вон с Синусоиды сверхвверх и субвниз,- что выражает соответственно: 1) полную самоотрешенность во имя общего дела (Ипсиланти, радикальных декабристов вроде Орлова, а в будущем пушкинского Сильвио в конце повести “Выстрел”) и 2) суперэгоистическое демоническое своенравие (того же Сильвио в начале повести, а в жизни - молдавского разбойника Кирджали, тирана Наполеона или когдатошних деспотов Крымского ханства). В эстетических категориях вылет сверхвверх называется радикальной декабристской струей в так называвшемся ранее гражданском романтизме (теперь его называют вторичным классицизмом). Вылет субвниз называют бурным романтизмом байроновского типа.
“Евгений Онегин” по изменяющемуся идеалу его создателя,- повторю иначе,- является точкой плавного перехода от героического цареубийственного “Кинжала” (безнародного, хоть и во имя народа) к прозаическому - в “Борисе Годунове” - молчанию народа, отвергающему царей-убийц, и, следовательно, переход изменения идеала ведет к требованию народности как в общественном движении, так и в литературе.
Лотман тоже называет “Евгения Онегина” чем-то переходным: моментом <<
равновесия... двух тенденций>> [3, 461]. Каких?Одна - статическая - это представление, что литературным повествовательным текстам свойственна бо`льшая организованность и упорядоченность, чем та, которая свойственна потоку жизни. Лотман к представителям этой тенденции относит Ричардсона, Матюрена, Нодье, Руссо как автора “Новой Элоизы”, ориентировавшихся <<
на удаление из образов героев любых взаимопротиворечащих свойств>> [3, 460].Другая тенденция - динамическая. Это когда герои изменяются на протяжении повествования, противоречивы. И в этой связи Лотман цитирует Выготского. И выдает такой литературный ряд: Шекспир, Сервантес, Прево (“Манон Леско”), Дидро (“Племянник Рамо”), Руссо (“Исповедь”).
И, ссылаясь на дух мысли Тынянова, Лотман рисует картину <<
периодической [во времени периодической] агрессии через разделяющую их [упомянутые тенденции: статическую и динамическую] границу в структуре культуры>> [3, 461]. А <<“Евгений Онегин” знаменует момент равновесия этих двух тенденций. В эпоху Пушкина именно литературным повествовательным текстам приписывались свойства большей организованности и упорядоченности, чем та, которая свойственна потоку жизни>> [3, 461].Мне представляется, что Лотман допустил здесь неточность.
Он акцентировал временной параметр в понятии динамичности. Смотрите:
в эпоху Пушкина...Тынянов и Выготский наоборот: <<
Ощущение формы... есть всегда ощущение протекания... соотношения <...> между ее элементами <...> В понятие этого протекания... вовсе не обязательно вносить временной оттенок. Протекание - динамика - может быть взято само по себе, вне времени...>> [1, 209].По Выготскому главное не в том, что герой или эстетика изменяются во времени, а в том, что художественные произведения структурно состоят из противоречащих элементов всегда, и эстетическое переживание есть противочувствия и катарсис тоже всегда.
Другое дело, что в одних вещах противоречий больше, в других меньше. И вот тут-то вперед и выступает время как время создания этих вещей. Так Лотману бы осветить, когда и почему рождаются произведения, так сказать, статические, а когда и почему - динамические. Он же этого не только не сделал, а еще и блестяще затемнил вопрос, заметив, что “при конце последней части” <<
Пушкин вдруг приравнивает Жизнь (с заглавной буквы!) роману и заканчивает историю своего героя образом оборванного чтения:Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Поэт, который на протяжении всего произведения выступал перед нами в противоречивой роли автора [
т. е. литератора] и творца [т. е жизни], созданием которого, однако, оказывается не литературное произведение, а нечто прямо ему противоположное - кусок живой Жизни, вдруг предстает перед нами как читатель (ср.: “и с отвращением читая жизнь мою”), то есть человек, связанный с текстом. Но здесь текстом оказывается Жизнь. Такой взгляд связывает пушкинский роман не только с многообразными явлениями последующей русской литературы, но и с глубинной и в истоках своих весьма архаической традицией>> [3, 461-462].Я не могу не восхититься Лотманом, заметившим то, что позволяли себе не печатать издатели Пушкина: большие буквы для обычного слова “жизнь”, что так не характерно для романа.
Но я не могу не заметить, какую упорядоченную колоду Лотман интерпретацией этой своей находки вдруг смешал, какой во времени выстроенный гигантский ряд он разрушил, вместо того, чтоб - наоборот - разложить статичности и динамичности во времени. Хотя бы те, какие сам Лотман и упомянул.
Что это за
весьма архаическая традиция засквозила, мол, в конце пушкинского романа? - Это словесность на стадии так называемого (термин Аверинцева) дорефлективного традиционализма, когда <<за правилами... приличия... стоит архаическое представление о магических возможностях функции слова>>, когда <<в представлениях древности словом можно прямо, непосредственно воздействовать на действительность>>, мол, <<словом можно помогать и вредить, создавать и уничтожать, врачевать и убивать... На этой стадии человек твердо знает диктуемые ему традицией правила словесного поведения, твердо знает, какое словесное поведение уместно, прилично в данной ситуации, а какое - нет. Но сами правила нигде не зафиксированы...>> [4, 100-101]. В общем, текст есть жизнь. А твердое знание, какое слово когда применить, не устраняет противоречивости применяющего, ибо противоречива сама жизнь.У Пушкина тот финальный выверт есть еще одно столкновение литературности с нелитературностью, думаю, в интересах катарсиса на тему о <<
неустроенности жизни>> и, возможно, о все-таки надежде <<в возможности ее устроить>> раз текст есть Жизнь, а он - его создатель. А вот зачем было Лотману так выделять финал ради, мол, оглядки Пушкина назад? - Думаю, чтоб отвлечь наше внимание от отсутствия у него, у Лотмана, характеристики тех эпох, когда был характерен непротиворечивый персонаж и вообще упорядоченность, а когда - наоборот.Я бы так дополнил Лотмана: когда наступало время ЗНАНИЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ (пусть и иллюзорного, что выяснялось позже), тогда доза противоречий в структуре художественного произведения снижалась. Наоборот, когда наступало время НЕЗНАНИЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ, тогда структурная противоречивость творений искусства увеличивалась.
Причем ЗНАНИЕ и НЕЗНАНИЕ обязательно чередуются, через РАЗОЧАРОВАНИЕ, и все это носит периодический (чего не отрицает и Лотман) характер, т. е. синусоидальный.
Более того. Эта периодичность, синусоидальность - сложная: на большие синусоиды накладываются малые, на те - малюсенькие. Настроения, периоды жизни и творчества, стили, типы литературы - все периодично и синусоподобно.
Пушкин, по Черноиваненко, модифицированному мною посредством синусоиды, знаменует начало в России нового гигантского периода типов литератур. Этот период Черноиваненко называет художественным. Может он бы согласился считать, что в нем - преимущество произведений с перевесом противоречий в структуре, с большей похожестью их на неупорядоченную жизнь. (Перед этим - период риторический, с меньшей дозой противоречий в структуре, с меньшей похожестью на жизнь - из-за исключения искусством из своего внимания того, что ненормативно. Еще перед - период дорефлективного традиционализма, уж и вовсе сливающийся с жизнью и нормирующий ее словесные проявления, но всё-то в противоречивой и непредсказуемой жизни не пронормируешь. В общем, все в чем-то повторяется через раз.)
Эту гигантскую синусоиду надо бы испещрить меньшими синусоидами, синусоидами стилей. Те же упомянутые Лотманом Шекспир и Сервантес, что привержены к <<
динамической интеграции противоречивых свойств>> [3, 460] жили на излете Возрождения, в эпоху разочарования в его низведенных с неба на землю идеалах, в эпоху НЕЗНАНИЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ. И потому у них так мало риторизма, отдающего ЗНАНИЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ. Но и это - лишь на каких-то этапах творческой и мировоззренческой эволюции и Сервантеса и Шекспира.А если отнестись внимательнее, то и творчество их обоих есть некий фрагмент синусоиды еще поменьше.
И тут работать и работать. И над всеми остальными упомянутыми Лотманом именами и произведениями - тоже.
Однако это бы слишком далеко увело. И я поступлю так же, как и Лотман - брошу, лишь начав, эти эстетико-исторические экскурсы.
Только Лотман так поступил, чтоб переключить “динамизм” Тынянова и Выготского на категорию времени, а я - чтоб обратить внимание на категорию структуры в их “динамизме”.
Своим переключением Лотман, по сути, не принял психологическую теорию художественности Выготского: <<
...слишком смело утверждать, что художественное и нехудожественное... имеют вечные... признаки>> [3, 461].Что ж. Выготский действительно настаивал на непреходящести в веках психологического механизма эстетического переживания как катарсиса от противочувствий. Но его можно понять. Он выдвинул идею. Он ради углубления ее покинул искусствоведение на время, чтобы вернуться в него обогащенным психологией. Но не успел. Погиб. Он даже не стал публиковать свою “Психологию искусства”, и это сделали впервые почти через треть века после его гибели другие. Так неужели надо с порога отвергать его идею противоречивого строения художественных произведений?
Да, противоречивость не всегда насквозь пропитывает творение художника. Зато можно ли отрицать, что в какой-то мере она есть всегда? Например, можно ли отрицать столкновения фразирующей и тактирующей тенденций произношения стихов. Всех. А особенно, можно ли игнорировать катарсис от противочувствий в тех произведениях, которые насквозь противоположностями пропитаны?
Выготского, обильно ссылаясь на него или замалчивая, не принимают во внимание многие, практически все. Тут, думаю, срабатывает следующее непроизносимое табу: нельзя допустить, чтоб про тебя, специалиста, сказали: “Гора родила мышь”.
Что я имею в виду?
Выготский сам только один раз позволил себе осознать катарсис и написать результат осознания тремя словами: он назвал его переживанием парения к Богу - от развоплощения толщенных стен готического собора ажурными, узкими и стрельчатыми окнами в этих стенах (все остальные разы он ограничивался лишь указанием на противочувствия).
Действительно, представляется стыдным свести результат исследования, критической работы, доклада и т. п. к... нескольким словам или предложениям. А если разбору подвергается творение общепризнанного гения, то тем паче.
Забывается как-то другая народная мудрость: со стороны - виднее.
Ведь творец-то был первопроходцем! До него-то никто до ТАКОГО не додумывался! Да и он сам, не будучи мыслителем, не в состоянии был это выразить теми несколькими силлогизмами, до каких потом доходят его интерпретаторы. Доходят потому, что творец это им “сказал” много-много раз и по-разному, целым, иногда очень большим, произведением своим, в котором все - через противоречия структуры - кричит об одном и том же.
Ученые естественники, прикладники и математики,- это все знают,- могут свою многотомную работу сжать до одностраничного резюме. А просветители и популяризаторы, не извратив, могут это сжать до нескольких слов. Художник ничего этого не может. Его произведение - это вторая природа. И дело ученых ту природу изучать и сводить результат до кратких резюме.
Как бы ни была неисчерпаема первая природа, нас не смущают краткие выводы о ней ученых и популяризаторов. А изучающие вторую природу, художественное творение, все что-то еще стесняются.
Так не пора ли откликаться на полувековой давности призыв Гуковского к науке и давать, наконец, обоснованные варианты открытия художественного смысла конкретного произведения искусства впрямую, а не пряча или намекая.
Литература
1.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.2.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М., 1966.3.
Лотман Ю. М. Пушкин. С.-Пб., 1995.4.
Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте. Одесса, 1997.Написано весной 2000 г.
Зачитано в октябре 2000 г.
Возражения
Слюсарь А. А.:
Лотман - представитель школы семиотических исследований, рассматривающих знаковые упорядоченные системы коммуникаций. Известны случаи, когда он отказывал в публикации статьи в курируемом им сборнике только за то, что она не относится к семиотическому профилю. И он был прав по-своему. Соответственно к нему нельзя предъявлять претензии за отсутствие внимания к художественному смыслу. Это не его профиль.
Вода Соколянского
на мою мельницу
В 1998 г. в Любеке была подготовлена и в 1999 г. в одесском издательстве “Астропринт” издана книга Соколянского “И несть ему конца. Статьи о Пушкине”. Но в продаже в Одессе она появилась в 2000 г., и на экземпляре библиотеки им. Горького есть юбилейная - изготовленная к 170-летию библиотеки - вклейка, свидетельствующая о том, что подарен этот экземпляр библиотеке в 2000-м. Поэтому я и решил, что имею право говорить об этой книге в связи с темой “пушкиниана 2000”.
Правда, сам Соколянский пишет, что статьи публиковались еще раньше, и он применяет слова
“без существенных изменений и дополнений” [2, 4] для характеристики нынешней редакции. Но позволительно думать, что раз он статьи все-таки повторил, то можно их читать и обсуждать по-новому. Во всяком случае я предлагаю новое - с упором на пушкинский художественный смысл - отношение к статьям.Оно потому новое, что я не согласен со Слюсарем, возразившим мне, что после Гуковского вот уж полвека как наступило новое литературоведение, учитывающее тот факт, что художественный смысл произведения есть первостепенная и чаще всего еще не решенная проблема, после решения (или хотя бы упоминания о) которой только и можно приступать к какому бы то ни было другому аспекту рассмотрения произведения.
Книга Соколянского лишний раз доказывает, что такое новое литературоведение еще не наступило.
В книге 11 статей. Большей частью это, так сказать, пушкинианы: обзоры того, что написано учеными о таком-то произведении Пушкина или черте творчества в выбранном Соколянским аспекте, с оценками - Соколянского же - доводов и выводов ученых. Ни у этих ученых, ни от себя Соколянский не фиксирует художественного смысла пушкинских вещей. Имеется в виду, что всем все о художественном смысле давно ясно и ничего скрытого и проблемного здесь нет.
Лично меня не интересуют такие работы, но раз уж я прочел и есть среди них касающиеся произведений, которыми я недавно занимался и результаты издал, то мне интересно осветить, чем кое-какие штрихи у Соколянского могут меня лишний раз утвердить в собственных выводах.
Первая статья в сборнике Соколянского - “Пушкин и Мильтон”. В ней речь заходит о пушкинском “Бове” 1814 года. Соколянский не согласен с мнением Самарина от 1948 г., объясняющего <<
“добродушно-ироническое” отношение автора “Бовы” к поэме Мильтона “и всем комплексом эстетических воззрений Пушкина-лицеиста”, и общим “ироико-комическим” характером замысла “Бовы”>> [2, 11].Слова Самарина хорошо согласуются,- кто читал - согласится,- с моим выводом о первом периоде творчества Пушкина и о “Бове” в частности, как о насмешничестве надо всеми современными Пушкину течениями русской литературы [1, 66] и над собой, насмешником [1, 71], в том числе. В “Бове” в целом Пушкин смеется над радищевцами [1, 75], а в начале - мимоходом - и над Мильтоном, как теперь мне стало ясно.
Как это оспаривает Соколянский? - Безапелляционностью тона:
<<
...автор “Бовы” отталкивается от различных поэтов, в ряд которых вместе с Гомером, Клопштоком, Шапеленом, Ширинским-Шихматовым (Пушкин называет его Рифматовым) попадают и Мильтон с Камоэнсом:Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого,
- декларирует юный стихотворец свое намерение, а далее идут такие строки:
За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крыл парить;
Не дерзал в стихах бессмысленных
Херувимов жарить пушками,
С сатаною обитать в раю...
Вряд ли стоит преувеличивать серьезность и обоснованность критического запала юного лицеиста...
>> [2, 11]Я не знаю, сколько доказательств
ироико-комического было в 1948 году у Самарина, но у меня-то их в 1999 десятки. И безапелляционность Соколянского, направленная против чего-то, сходного с моей, обильно аргументированной, версией, по-моему, работает на мою доказательность.“Автор” в первых 21-ой строках “Бовы” замахивается на такие авторитеты: Гомера, Вергилия, Клопштока, Мильтона, Камоэнса,- и сравнивает себя с такими неавторитетами: Шапеленом и Ширинским-Шихматовым,- что ясно, что Пушкин и над собой смеется. А это очень серьезно. И требует перестать относиться к первым пушкинским шагам как к ерунде, к чему я и подводил в своей книге. И тут я опять совпадаю с неведомой мне концепцией Самарина, <<
находящего (по Соколянскому) уже в “Бове” приметы серьезного и устойчивого отношения Пушкина к Мильтону>> [2, 12]. А какое же это (по Соколянскому) несерьезное отношение: смотрите, в какой ряд юноша Мильтона поместил. Он и впоследствии Мильтона всегда помещал в самый достойный ряд. Разве не чувствуются черточки гения с первых шагов?Как это оспорил Соколянский? - Он довольно логично уязвил Самарина, заметившего, что Пушкин, мол, <<
не случайно>> [2, 11] и в 1814-м и в 1836-м годах применяет относительно Мильтона одинаковые отрицательные слова. Только в 1814-м это сказано,- заметил Соколянский,- о “стихах бессмысленных”, а в 1836-м словами: “своенравный и смелый даже до бессмыслия” - <<сказано о Мильтоне-человеке, и слово “бессмыслие” употреблено в том высоком значении, в каком слово “безумие” употребляется, например, применительно к сервантесовскому Дон Кихоту>> [2, 12]. В этой связи Соколянскому <<трудно принять>> [2, 12] концепцию Самарина о “Бове”.Но пусть даже Самарин ошибся (а это, строго говоря, еще проверять надо) в этой частности, касающейся даже и не “Бовы”, а неоконченной статьи “О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая””. Ну разве можно на таком узком основании
трудно принимать всю концепцию о “Бове”?! Такой явный перегиб опять убеждает меня в моей правоте о, так сказать, серьезном ерничестве раннего Пушкина, в том числе и в “Бове” [1, 74].Есть у Соколянского и передергивание: относительно слов самого Пушкина. Читаем:
Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Эллинския [Гомером]
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера. -
смеющими, я понимаю, своими осиплыми голосами их воспевать, как болтун Гомер воспевал героев юга. Так разве Шапелен и Рифматов в одном ряду с Гомером? - По-моему, нет. Здесь два ряда. Гомер, потом иные и Мильтон - один ряд. А Шапелен, Рифматов и “автор” времен до написания “Бовы” - другой ряд.
Соколянский же на основании того, что от всех их “автор” “Бовы”
отталкивается, считает их одним рядом. Мне ясно: ему же нужно доказать, что Пушкин тогда был птенец и нечего, мол, его, раннего, принимать всерьез.Может, Соколянский и неосознанно передернул. Над ним довлела общепризнанная концепция поэтической и просто человеческой неразвитости юного Пушкина. Но раз такая концепция толкает на передергивания - это еще раз меня, над которым эта концепция не довлела (я исходил только и только из художественного смысла стихов [1, 3]), убеждает в моей правоте.
Есть и еще один тенденциозный намек у Соколянского. Необоснованно отвергая <<
обоснованность критического запала юного лицеиста>> [2, 11] против Мильтона, и чувствуя, что обоснование-то у юного гения было: следовать за едким Вольтером периода “Орлеанской девственницы” (а Вольтер - величина очень немалая и эта его поэма - тоже), Соколянский дает сноску в примечания: <<Заметим, что позднее Пушкин в чем-то пересмотрел свое отношение к вольтеровской поэме>> [2, 17]. Понимай, неразвит был - ценил, а развился - пересмотрел; и с Мильтоном, мол, то же самое.Что ж. Пушкин действительно много раз круто менялся и можно, вообще говоря, ждать поэтому изменчивости его оценок. Но здесь-то, в первых строках “Бовы”, юнец явно нарывался на упреки в адрес “автора”. Зачем? Не для того ли, чтоб дать понять, что автор без кавычек не так прост.
И чтоб это понять теперь, когда давно известен принцип Выготского: что столкновение противочувствий (здесь: великий - унижен шалопаем) ведет к катарсису,- теперь можно было б легко почувствовать катарсис (здесь: шалопай-то не прост, раз знает, кого унижать нельзя). Но надо иметь Выготского на вооружении. А еще прежде - надо иметь желание видеть проблему в открытии художественного смысла. Надо, чтоб настало новое литературоведение. - А оно все не настает.
Другая статья о произведении того же, первого, периода творчества Пушкина - “Фольклоризм и/или всемирная отзывчивость. (О лицейском стихотворении А. С. Пушкина “Козак”)”. Соколянский здесь отмечает всемирную отзывчивость, которая - по Достоевскому - у Пушкина хоть и расцвела только в послеонегинский период, но развилась же - по Соколянскому - из <<
тех начал, которые были заложены в даровании>> [2, 53]. А следовательно, с юности проявились в виде <<какого-то особого чутья к культуре (в том числе и народной) других... этносов>> [2, 53], чему свидетельство “Козак”. С другой стороны, Соколянский не хочет соглашаться с - он так ее называет - идеологемой 1970-х годов, <<что стихотворение “Козак” является наиболее ранним проявлением пушкинского фольклоризма>> [2, 47]. А разве может быть одновременно и отсутствие фольклоризма, и наличие уже в юности какого-то особого чутья к народной культуре других этносов? - Не понятно. Видно, и самому Соколянскому не понятно. Это отразилось и в названии статьи. Он применил для нее несуществующий в русском языке знак препинания - дробь: “Фольклоризм и-дробь-или всемирная отзывчивость”. Впрочем, это не интересно.Зато интересно применить его метания для себя.
Напомню читавшим у меня о “Казаке” и в двух словах введу в курс нечитавших.
Я надеюсь, мне удалось показать, что Пушкин - с одной стороны - под маской автора “Казака” насмехается там над прагматизмом на ниве любви у персонажей украинских песен [1, 70], которые ему, Пушкину, привелось слышать от соученика, Илличевского. А с другой стороны - этот “автор” по воле Пушкина же так огрубляет в своем отличающемся от фольклора произведении скоротечную любовь с первого взгляда [1, 71], что от сшибки этих двух насмешек возникает образ мудрого и холодного исследователя циников, человеческой природы [1, 71].
Так вот, когда Соколянский попрекает Сумцова, что тот <<
пытался - без достаточных, думается, оснований - установить связь между “Козаком” и такими украинскими песнями, как “З-за гори, гори” и “Ой, вiдтiль гора”>> [2, 48] - то я рад. Пушкин же и по-моему от них отталкивался как от, мол, недопустимо прагматичных для любовной тематики. То же относится и к Охрименко, которого Соколянский упрекает за категоричность параллелей между “Казаком” и песней “В славнiм городi Переяславi”.Я так же радуюсь следующему обоснованному рассуждению Соколянского: <<
Частые упоминания исследователей и комментаторов юношеских стихов Пушкина о песне “Iхав козак за Дунай”... связаны с ее популярностью во всей России в начале девятнадцатого века>> [2, 48], и что непосредственным стимулом для написания стихотворения “Казак” эта песня быть не могла [2, 48]. Было бы действительно странно, если б песня, связанная с патриотическими настроениями времени войн с Наполеоном послужила стимулом к вышучиванию - как это выведено у меня [1, 70] - любовного фольклора.У Соколянского я прочел и ссылку на интерес украинца Илличевского к “Козаку”, что хорошо для моего предположения, что подначки украинским любовным народным песням особенно хорошо чувствовались людьми, знакомыми с этими песнями.
В результате я доволен тем, что мне удалось осилить книгу Соколянского. Человек с более широкими интересами и знаниями, чем у меня, найдет в ней больше пищи для ума, чем это представил я, и им я ее рекомендую.
Литература
1.
Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы... Одесса, 1999.2.
Соколянский М. Г. И несть ему числа. (Статьи о Пушкине). Одесса, 1999.Написано в январе 2000 г.
Зачитано в феврале 2000 г.
Попробовать примирить с Пушкиным
украинских националистов
Попытка 1-я: понять значит простить.
Зачем Пушкин в таком негативном свете выставил Мазепу в Полтаве? - Затем что в то время, в 1828 году, ему казалось, что он нашел причину поражений современных ему антифеодальных дворянских революций: в Португалии, в Испании, в Италии, в османской Молдавии и в России (декабризм). Революции эти были безнародные (дворяне, помня недавний разгул Великой Французской революции, боялись разбудить революционную стихию крестьянской и солдатской массы), и народ не поддержал выступления элиты. Та желала конституции и свободы; была мечта: элите - освободиться от монархического, крестьянам - от помещичьего самоуправства. Но, как оказалось, история не делается прекраснодушными мечтателями. Да они не так уж и прекраснодушны, если задуматься. Если докопаться до корня антифеодальных выступлений - они движимы, в конечном счете, эгоизмом. Красиво это называется свобода личности. Поэтически - свобода страстей: любви, ненависти... И эстетическим воплощением этого был тогда романтизм. И вот это все потерпело поражение. И Пушкин счел, что такова была воля Истории. И перешел к историзму. А ранний этап историзма,- как писал Лотман, опираясь на духовный опыт всей Европы,- неизбежно включал в себя примирение с действительностью, представление об исторической оправданности и неизбежности объективно сложившегося порядка.
И Пушкин поверил было, что новый российский царь, Николай I, это новый Петр I и что он продолжит реформы Петра и приблизит Россию к Европе, где много где уже были конституции и не было крепостничества. И Николай I, взойдя на трон, дал-таки повод думать о себе хорошо. Например, он учредил комитет, который должен был заняться вопросом о положении крестьян. И можно было поверить, что ведущая роль, какую Россия приобрела в Европе после победы над Наполеоном, из реакционной превратится во что-то приемлемое. И тогда вообще продолжилась бы традиция самого счастливого, как выразился Губер, столетия для России - XVIII-го. Пушкин и был по его мнению последним и самым ярким выразителем той, счастливой России. И в этом свете и явилась миру поэма “Полтава”, в которой Петр I выводился прославившим себя в веках именно потому, что целиком отдал себя Истории, а История улыбалась России.
И как враги Николая I были, получается, романтики - декабристы, частью повешенные, частью сосланные в Сибирь, так индивидуалистами (людьми, приверженными своим страстям) представились не только враги Петра I, Мазепа и его сторонники, но и охваченный ненавистью Кочубей и даже кроткий агнец Искра. И все они - с точки зрения, вынесенной в “Полтаве”, через сто лет вперед - оказались в забвении. “И что ж осталось От сильных, гордых сих мужей, Столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось - И с ним исчез кровавый след Усилий, бедствий и побед... Забыт Мазепа с давних пор... Но дочь преступница... преданья Об ней молчат”.
Пушкин испытывал моральный дискомфорт оттого, что изменил свой идеал и как бы предал своих друзей декабристов. Он не мог обрушиваться на национально-освободительные (Испании против Франции, Италии против Австрии, Молдавии против Турции) и антифеодальные движения 20-х годов, которым он сочувствовал, и горечь от поражения которых была еще свежа. А в Украине в XIX веке национально-освободительного движения против России не было. И всю мощь антиромантического пафоса он обрушил на Мазепу, сделав того абсолютным злодеем в романтическом духе.
А чтоб ему (в том числе и этот занос) простили он снабдил поэму примечаниями. И там есть одно, в котором говорится о том, что Мазепа был поэт, что одна его патриотическая дума “замечательна не только в историческом отношении”.
Пушкин и перед декабристами своеобразно извинился, предпослав поэме посвящение, которое в книжной публикации не имело номеров страниц, какие были для остальной поэмы. Этого тогда не поняли. Только сейчас ясно, что посвящение обращено к Марии Волконской, уехавшей к мужу-декабристу в Сибирь. И мы не осуждаем Пушкина за то, что он отказался от романтизма и перешел к реализму.
Может, не осудим его и за то, что он применил своеобразный образ Мазепы в этой борьбе?
Попытка 2-я: кто старое помянет...
Попытка 3-я: бойтесь данайцев, дары приносящих.
Пушкин недолго пробыл в покорной, так сказать, фазе историзма. Он даже стал историком (в “Истории Пугачева”), чтобы историей управлять, а не только ей подчиняться. Если верить Марине Цветаевой, народ не сложил песен про Пугачева. Народ был прав: слишком мрачная это была фигура, как показало исследование Пушкина. И слишком неутешительные должны были бы получиться выводы, если б просто подчиниться открытию причин народного восстания, возглавленного Пугачевым. Причины эти были - непримиримые классовые интересы сословий дворян и крестьян (Пушкин, правда, термин “классовые” не применил, но суть-то узрел). А он бы хотел консенсуса в сословном обществе. И обольщаться, уж в который раз, тоже не хотел. Вот он в “Капитанской дочке” историю фантастической доброты и Пугачева, и Екатерины II к главному герою, Гриневу, и поручил изложить этому довольно недалекому человеку - Гриневу. Он “произнес” свою мечту о консенсусе, и в то же время его нельзя назвать утопистом.
Те, кто скажет, что Россия всегда опасна, особенно для соседей, потому хотя бы, что все еще слишком велика и потому что народ ее все еще привержен к глобальному самосознанию, те будут нынче не правы. Не правы потому, что нынче весь мир, включая и Россию, и Украину, стоит перед вызовом Истории в лице, так сказать, США подчиниться глобализации экономики. А за экономикой американизируются и народы Земли. Вот откуда теперь исходит угроза украинской самобытности, а не от России. И, может, стоит у Пушкина поучиться тому, как под конец жизни он бросил вызов Истории?
Написано в мае 2000 г.
Опубликовано 14 февраля 2001 г. в одесской газете “Правое дело”
О художественном смысле пушкинского
“Демона”
...каждая мысль... страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью... а чем-то другим... для критики искусства нужны люди, которые... руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства...
Л. Толстой
Вы знаете, что художественный смысл произведения я ищу между строк, отталкиваясь от его противоречивых элементов, то есть в соответствии с принципом художественности по Выготскому. Этот принцип мало кто применяет, и поэтому я заинтересовался, когда увидел у Лакшина нечто похожее в отношении пушкинского “Демона”.
<<
“Злобный гений”, “тайный яд”, “неистощимая клевета” - вот какие слова находит... Пушкин... Поэт будто останавливается на пороге нового сознания. Демон еще сохраняет могущественную власть над его душою, но злая природа этой силы уже осознана автором, и он готовится стряхнуть с себя его чары... И лучшее тому доказательство, что все это выговорилось в стихах, закреплено, отлито в слове, стало предметом созерцания со стороны и, значит, преодолено>> [3, 143].А теперь подумаем: раз преодолено, то для автора демон - гений не злобный, тайные приемы того - не яд, неистощима - не клевета. Так?
Логически - да. А по сути - нет. Потому что Лакшин понимает “Демона” как отталкивание от предшествующего варианта:
Мое беспечное незнанье
Лукавый демон возмутил,
И он мое существованье
С своим навек соединил.
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.
Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?
Чего, мечтатель молодой,
Ты в нем искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился?
И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
Жестокой суетной, холодной,
Смешон глас правды благородной,
Напрасен опыт вековой.
Здесь мир отвергается, а демон полностью приемлется лирическим героем. И относительно этого “Демона” канонический вариант действительно является шагом от экстремизма. Но, зато, оказывается, что и противоречия никакого Лакшин в каноническом варианте не выявил: по Лакшину, хорош - юный идеализм, плох - демонизм. А мне лишь показалось, что критик выявил столкновение противоположного.
Однако, вдумавшись, я противоречие все же обнаружил. Оно состоит в прошедшем времени происходящего, с одной стороны, и в колоссальном накале эмоций, с другой. (Ведь если плохое - в прошлом, то можно бы сейчас и не волноваться. Да?)
Это прошедшее время не просто грамматическое. Речь идет о давних годах: “В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия”. Речь идет о лицейском времени: “И взоры дев, и шум дубровы ” - это о Наташе Кочубей, о Кате Бакуниной, о царскосельском парке, где “ночью пенье соловья”, если уж подходить биографически. “Когда возвышенные чувства, / Свобода, слава и любовь” - это об освободительной войне против Наполеона и о связанной со всенародным патриотическим подъемом в этой войне надежде на конституцию и освобождение крестьян от крепостничества, а также о гармонирующих с этими высокими переживаниями первых нешуточных любовях к упомянутым ровесницам и ровням по образованию и культуре (если опять - биографически). И тогда “вдохновенные искусства”, что “Так сильно волновали кровь”, - это первые продекабристские стихотворения, вроде “Воспоминаний в Царском Селе”, “Лицинию”, а не стихотворения предшествующего им периода, когда Пушкин, пробуя силы,- совсем, как оказалось, немалые,- иронизировал то над “легкой поэзией”, то над “оссианизмом”, то над сентименталистской - надо всем [1, 55].
Впрочем, биографический подход, как всегда, мелок. В первой части стихотворения просто мало глаголов, и я обратил повышенное внимание на ассоциации, заданные тональностью первых двух строк: “В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия”. Биографический подход (несчастные любови и связанный с ними элегический период, а может, и творческий кризис, заявленный в тогдашних элегиях) не объяснит, что именно “Тогда какой-то злобный гений / Стал тайно навещать” лирического героя. Чувство повсеместного краха охватило Пушкина после второго продекабристского периода, с его знаковыми стихотворениями, такими, как “К Чаадаеву”, “Вольность”, из-за которой его сослали, когда ее стали применять в качестве агитки, казалось бы, друзья-вольнолюбцы. Страшный любовный удар, по Губеру, тогда же он получил от Натальи Кочубей, в которую в то время вторично и очень глубоко, но несчастливо, влюбился. Оклеветал товарищ (Толстой). Все обрушилось. Случился второй творческий кризис. Но и эти биографизмы, строго говоря, не проходят для иллюстрации строк “Демона”. Не проходят потому, что в жизни Пушкина тогда удары на него посыпались извне, а “Демон” описывает внутреннюю драму: “Часы надежд и наслаждений / Тоской внезапной осеня, / Тогда какой-то злобный гений / Стал тайно навещать меня”
.Оно конечно: при мировоззренческих ломках (раз наступают новые периоды творчества и раз даже случаются творческие спады) происходят внутренние драмы. Но уж больно ярко описаны в “Демоне” эти “дела давно минувших дней”. Все-таки 7 лет прошло с тех пор, как “были новы все впечатленья бытия”. И каких лет!
Однако представим, что мы не в курсе биографии поэта. Широкий читатель не обязан быть в курсе. И все же, думаю, и он заметит, как от строки к строке нарастает интенсивность переживаний якобы “в те дни”, явно довольно удаленные от времени рассказа.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел -
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Широкий читатель, по-моему, должен заподозрить, что что-то катастрофическое произошло совсем недавно, раз лирический герой так подогрет.
Кто знаком с биографией Пушкина, понимает, что произошло с вольнолюбивым человеком, оказавшимся в Молдавии чуть не в центре резерва этеристской революции Ипсиланти, загубившего это восстание, на фоне, кстати, тогда же все возникавших и побеждаемых дворянских, но антифеодальных, революций, не поддержанных народами, в Португалии, Испании и Италии. Сведущие понимают, как себя чувствует импульсивный и чуткий прогрессивный человек в окружении заговорщиков против царя, когда тех вдруг сажают в тюрьму (В. Ф. Раевского), отдают под следствие (М. Ф. Орлова, который и до того - после женитьбы - <<
заметно увял как заговорщик>> [3, 113]). А кто прочел книгу Краваль и впечатлился ею (насчет любви Пушкина в те годы к Анне Гирей, любви взаимной, очень глубокой и продолжительной), тот поймет, каково ему было, когда - тогда же - ее отдали замуж за нелюбимого и та пошла.Нужен ли для таких, сведущих в пушкинской биографии, еще и общепризнанный прототип демона из пушкинского “Демона” - Александр Раевский? - Может, он даже и мешает. Мешает потому, что очень уж это был плохой человек. И всех тянет видеть отрицание его Пушкиным в “Демоне”. А художественный смысл этого стихотворения нужно искать в катарсисе от противочувствий. И если одним из противочувствий является большого накала негативизм к демону, то в художественный смысл это переживание попасть не может
.Любому ясно, что повидавший жизнь человек, каким был Пушкин в 1823 году (когда он и создал “Демона”), обычно довольно скептически относится к своему молодому идеализму (о котором и говорится в стихотворении). И не проще ли не отрицание демона юнцом видеть в стихотворении (как об этом написано, если понимать текст “в лоб”), а некое утверждение критики человеком опытным? И не вернее ли будет не экстраполировать чувства того юнца на чувства лирического героя стихотворения, человека тертого? (Не экстраполировать на том основании, что уж больно горячо этот тертый говорит.) Не резоннее ли будет этот свежий накал чувств отнести к озарению, что тертый нашел, наконец, не подобную прежней реакцию крайнего разочарования, а отличную? И что-то теперь у демонического отрицания плодотворно приемлет.
Да. Приемлет что-то в Александре Раевском, останавливаясь, как тонко заметил Лакшин, а я уже цитировал, <<
на пороге нового сознания>>. Лакшин сам стихийно влечется прочь от собственного заблуждения (о полном отрицании Пушкиным злого Александра Раевского), когда замечает, что пишет-то окончательный вариант “Демона” Пушкин в то же время и на тех же листах бумаги, что и первые две главы “Евгения Онегина” [3, 143]. А ведь пока Пушкин их писал, у него отношение к Онегину изменилось с сатирического, противопоставленного декабристскому идеалу [4, 400] как хорошему идеалу, на более взвешенное: Онегин <<вырос в серьезную фигуру, достойную встать рядом с автором>> [4, 408]. И ведь давно общепризнанно, что прототипом и Евгения первых глав романа, как и прототипом демона, является все тот же Александр Раевский.Но у Лакшина замечаем некое мерцание приятия-неприятия демона-Онегина, иррадиирующее в неприятие автором демона из стихотворения “Демон”: <<
Юноша-поэт [Ленский] предстает в романе в той фазе своей жизни, какая обрисована в первых строках “Демона”: “В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия...” Его встреча с Онегиным - это встреча со своим Демоном...В Онегине, как в трезвом и скептическом наблюдателе, сохраняющем при этом благородство покровительственного суда, есть то, что импонирует и автору и читателям: он становится наперсником поэта, терпеливо выслушивает “отрывки северных поэм”, то есть Байрона, и не спешит произнести “охладительное слово”.
Симпатии автора то склоняются к Ленскому, то остаются с Онегиным, но главное, пожалуй, что поэт отчетливо занимает какую-то более высокую точку зрения. По сути он поднимается над обоими героями, как над прожитыми фазисами своей жизни: романтическим восторгом молодости и холодным скептицизмом, нераздельным с именем Демона - Раевского
>> [3,152-153].Видите? В начале и в конце процитированного отрывка,- там, где Демон,- по Лакшину истаивает пушкинское приятие даже Онегина-Раевского. И дальше у Лакшина это пушкинское, мол, неприятие разрастается: <<
Претензия на “демонизм” ведет к их [добра и зла] неразличению>>, и в пример Лакшин приводит <<все сюжетно-психологическое развитие романа, отношения Онегина с Татьяной [неспособность полюбить ее] и Ленским [насмеялся и убил его]>> [3, 154]. То есть - неприятие. Тогда как на самом деле в Онегине всегда есть барочного типа соединение несоединимого. Как и в демоне стихотворения “Демон”.Почему же сбивает сам себя Лакшин? - Из-за перекоса на биографизм, на прототип, на Александра Раевского, очень плохого человека. А еще - из-за невнимания к принципу противочувствий и катарсиса по Выготскому, который Лакшин не мог не знать. В применении к “Демону” этот принцип должен был бы подсказать Лакшину: если что отрицается в тексте (“злобный гений”
, “яд”, “клевета”), то в художественный смысл это отрицанием не входит; если что воспевается в тексте же (“улыбка, чудный взгляд”, внушающая сила: “речи вливали в душу”, нешаблонность и смелость суждений), то, опять же, в художественный смысл воспеванием это тоже не входит.Могу судить по себе. Уже зная Выготского и время от времени применяя его принцип противочувствий и катарсиса, я часто его и не применял тоже (потому что это очень трудно - применять, и сам не замечаешь, как про него забываешь и начинаешь понимать текст “в лоб”). И когда-то, приступив к пушкинскому “Демону” и столкнувшись в нем с противочувствием, заключающимся в воспевании красоты юношеского идеализма, с одной стороны, и в воспевании красоты прямо противоположного, я,- по-совковому опешив перед необычностью второго - воспевания демонизма,- забыл о красоте идеализма (тем более, что демонизм был в конце). И... решил, что наконец-то Пушкина хоть раз да занесло в экстремизм крайнего разочарования. И простил (извините за выражение) Пушкину только за то, что это редкое исключение.
Я был не прав относительно, как мне тогда казалось, пушкинского приятия демона главным образом из-за своей неосведомленности в биографии Пушкина. А теперь вижу, что и Лакшин не прав относительно, мол, пушкинского неприятия демона как зла и только - из-за биографического перекоса.
Лучше всех как бы возразил Лакшину насчет измельчения художественного смысла, если налегаешь на прототип, сам Пушкин в 1825 году: <<...Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и влияние оного на нравственность нашего века>>.
И чтоб это парировать Лакшин опустил начало пушкинского текста. Вот оно: <<
Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения, иные даже указывают на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении>>. Зачем это Лакшину понадобилось? Чтоб сделать упор на прототип. И Лакшин позволил себе следующий домысел в духе дурного биографизма: <<...опровержение, скорее всего, понадобилось Пушкину потому, что зимой 1824/25 года ему было непереносимо думать, чтобы одно из любимейших его созданий соединяли с именем человека, столь чуждого теперь ему. Ему хотелось как бы смыть в памяти лицо своего демона, отнять у него ту поэтическую честь, которую сам он дал в общественном мнении Александру Раевскому. Да и неприятно ему было числиться под чьим-то влиянием, тем более такого человека>> [3, 175]. И цитирует слова Вяземского, оправдывающегося по поводу доноса, будто бы Пушкин о нем, Вяземском, сказал однажды: “вот приехал мой демон!”: <<по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться...>>. И Лакшин добавляет еще о расположении пушкинского опровержения прототипизации в черновиках “Евгения Онегина”, что <<всего несколькими строками выше - обширное лирическое отступление о... друзьях и красавицах, в котором содержатся прямые отголоски недавних одесских впечатлений>>[3, 176] о соперничестве относительно жены Воронцова с Александром Раевским и доносе того о ее связи с поэтом самому Воронцову.Я возражу Лакшину собственным домыслом. Пушкин чувствовал себя благодарным Александру Раевскому за то, что тот, такой дрянной, существовал в его жизни как раз тогда, когда поэт от краха революций на Западе смотрите, как занесся в своих политических идеалах:
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! - мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся...
Пушкину нужны были и изменницы, когда вышла замуж Анна Гирей, когда, “надежду потеряв, забыв измены сладость”, он рвался к лихорадочным любовям: к Собаньской, Ризнич, Воронцовой - этим неверным женам и изменницам своим любовникам.
Ему нужны были демоны и демоницы, чтоб излечиться от рецидива тех дней, когда нам были новы все впечатленья бытия. Они нужны ему были и потому, что демонстрировали, в какую черноту он скатится от полного разочарования в тех днях
.Но... Об этом у меня есть отдельная специальная работа.
Под конец я хочу возвратиться к Выготскому. Этот гениальный ученый открыл психологический принцип художественности в 20-х годах ХХ века, а творцы создавали художественные произведения тысячи лет до того. О чем это говорит? - О том, что художественность творится стихийно и частично неосознанно. Поэтому каждый настоящий художник недоосознает, что он сделал. Как это ни дико звучит, он недопонимает художественный смысл собственного создания.
Это можно увидеть и у Пушкина в отношении “Демона”.
Каков, если одним словом, художественный смысл этого стихотворения? - Квазидемон. То есть то, что он, Пушкин, частично демонизм приемлет.
А назвал он стихотворение одним словом - демон. И это не вполне соответствует художественному смыслу.
То же - с проектом прозаического автокомментария. Лишь слово “сей” указывает, что он отстраненно относится к такой крайности, как дух отрицания и сомнения, что стихотворение и создано-то для преодоления этой крайности путем частичного приятия ее.
Однако неполное осознавание художественного смысла такого этапного произведения, как “Демон”, не помешало Пушкину по-особому относиться к нему. <<
“Не стыдно ли Кюхле,- писал он брату,- напечатать ошибочно моего “Демона”! моего “Демона”! после этого он и “Верую” напишет ошибочно”>> [3, 137].Есть разница между переживаемым и осозаваемым. Переживаемое - шире. Может быть неосознаваемое, но переживаемое. Может быть недоосознаваемое и переживаемое. К последнему и относится особое отношение Пушкина к “Демону”: он нашел третий путь, когда третий раз его настигло - однотипное - крупное мировоззренческое разочарование. И в третий раз обошлось без творческого спада. Лакшин это отметил так: <<
Пушкин переживал в ту зиму какой-то новый взлет молодых сил, запоем писал “Онегина”, являлся в обществе, часто бывал в ударе, легко покорял сердца>> [3, 159]. И здесь не хочется вполне согласиться с Лакшиным. Шла ломка мировоззрения. Это не сладко. Но шла без кризиса. И это было сладко. И только это и проявлялось внешне.Закончить я хочу согласием с одним едва уловимым нюансом у Лакшина, с которым (с согласием) Лакшин вряд ли бы согласился. Он в начале своей работы вспоминает: <<
За несколько месяцев до смерти Пушкин писал в Крым Н. Б. Голицыну: “Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний разного рода. Там колыбель моего “Онегина”: и вы, конечно, узнали некоторых лиц”... Письмо Голицыну важно... тем, что прямо указывает на существование лиц, послуживших прообразами по крайней мере некоторых героев романа>> [3, 76, 77]. А вся работа Лакшина имеет подзаголовок “Александр Раевский в судьбе Пушкина и роман “Евгений Онегин”” и посвящена продвиганию хорошего протортипизма, так сказать. Так получается, что Пушкин, вспоминая благодатный Крым, по ассоциации вспоминает и Александра Раевского, благодатного, давшего ему, Пушкину, такую благодать, как прототип Онегина.Что ж. С этим можно согласиться. Байронизм Пушкина, начавшийся с Крыма, никогда не был полноценным байронизмом [2, 72]. А можно говорить “демонизм” вместо “байронизма”. Всегда байронизм-демонизм у Пушкина был лишь элементом. Благодаря байроновскому романтизму Пушкин переборол свой второй идейный и творческий кризис, но русским Байроном не стал. И именно это было благодатью: соединение несоединимого.
Да, оно хорошо развернулось в нем в Крыму в 20-м, еще полнее (после нового залета в декабризм) в 23-м, в Одессе. И повлияло на всю русскую литературу. Было чем хорошим помянуть юг.
Литература
1.
Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы... Одесса, 1999.2.
Дьяконов И. М. Об истории замысла “Евгения Онегина”. В кн. Пушкин. Исследования и материалы, т. Х, Л., 1982.3.
Лакшин В. Я. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979.4.
Лотман Ю. М. Пушкин. С.- Пб., 1995.Написано весной 2000 г.
Зачитано в мае 2001 г.
Памяти Слюсаря
Мне не по силам оценивать научные достижения Арнольда Алексеевича в литературоведении вообще и в пушкиноведении в частности. Но мне чрезвычайно импонирует то, что моему пониманию доступно - его манера опираться на текст художественного произведения. Наверно мне это так нравится потому, что входит необходимым элементом в мои собственные попытки что-то понять в искусстве, а те, в свою очередь, движимы, в частности, оппозицией широко распространенной манере говорить о художнике, не привязываясь к его творениям, к их элементам.
И самыми ценными для меня моментами у Слюсаря являются те наблюдения над текстом, те элементы художественного произведения, которые мною были не замечены, когда я сам с этим произведением разбирался.
Приведу несколько примеров из “Повестей Белкина”.
Наблюдение Слюсаря:
<<В “Выстреле” показана встреча человека с историей... Сложилась традиция считать, что дуэль между Сильвио и графом закончилась после Отечественной войны. Между тем это великое историческое событие... автором “Выстрела” не только не упоминается, а даже как бы намеренно замалчивается>> [2, 10].
Мое объяснение:
Это потому, что “первоавтором” “Выстрела” назван полковник И. Л. П., человек ограниченный и потому аполитичный. Белкиным, человеком тоже ограниченным и потому слишком уж политически темпераментным, И. Л. П. “сделан” именно таким для того, чтоб Белкину поиронизировать над его аполитичностью. А Пушкину это все нужно было, чтоб поиронизировать над обоими во имя своей, возвышенной трезвости (в 1830 году) взгляда на историю и на будущее страны и человечества.
Наблюдение Слюсаря:
Завязка: <<Это замкнутый мирок ремесленников, для которых человек, сохраняя свое значение, является вместе с тем еще и возможным “клиентом”. Гробовщик в силу особенностей своей профессии [желание скорей похоронить пока еще живущего и похоронить за “преувеличенную цену”] ощущает с особой остротой противоречие между этими двумя измерениями, и у него зарождается смутное чувство неудовлетворенности. Оно не проходит и тогда, когда он переселяется, наконец, из ветхой лачужки в новенький домик, и не исчерпывается печальными размышлениями об убытках. Понятно, что Адрияну Прохорову хочется отделаться от этого...>> [2, 13].
Развязка: <<В. Узин... считал, что развязка не полностью совпадает с завязкой... неудовлетворенный, сумрачный при въезде в дом, он после страшного сновидения ощущает “физическую радость существования”.>>
[2, 13-14]Примеры:
В начале: “Адриян Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить дочерей...”
В конце: “- ...Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.
- Ой ли! - сказал обрадованный гробовщик.
- Вестимо так, - отвечала работница.
- Ну, коли так, давай скорее чаю да позови дочерей”.
Мое объяснение:
Адриян во сне получил оправдание: к нему плохо “клиенты” отнеслись - и он теперь может без смутных угрызений совести относиться к ним плохо. Приказчик Б. В., рассказавший Белкину этот казус, рад веселому концу, потому что сам тоже бессовестный. И, нечуткий, рад рассказать веселое Белкину. А для недовольного безнравственным миром Белкина эта веселость конца лишний раз подтверждает его, белкинский, вывод о мерзости вселенной, вывод, вынесенной в начало, в эпиграф. Пушкину же беззлобно смешны все. Его идеал их всех приемлет.
Наблюдение Слюсаря:
<<В “белкинском” цикле “отцы” и “дети” принадлежат к разным эпохам>> [2, 23].
Мое объяснение:
Идеал-то Пушкина - консенсус [1, 84]. Вот ему и нужны очень разные персонажи.
Наблюдение Слюсаря:
<<В “Барышне-крестьянке” отразился миф об Амуре и Психее. Его поэзия любви стала доступной героям рассказа благодаря тому, что они на время оказались как бы вне своей среды>> [2, 24].
Мое объяснение:
Мифология-то для трезвого реалиста Пушкина смешна. Но и его в 1830 году тянет в нечто подобное, в утопизм консенсуса в сословном обществе [1, 84]. Как не презирать самого себя за этот идеализм? - А вот как: насмешкой над демократом Белкииым, очень уж насмехающимся над мечтательной девицей К. И. Т., выдающей в своем тому рассказе желаемое за действительное: любовь, счастливую вне зависимости от враждебного к ней социума.
Арнольд Алексеевич сделал приведенные наблюдения свои не для того, чтоб вскрыть или уточнить вскрытый другими художественный смысл “Повестей Белкина”. И он наверно не согласился бы с моей интерпретацией замеченных им деталей, как не соглашался никогда.
Но я сегодня хочу сделать акцент на другом, на абсолютной ценности слюсаревских наблюдений над текстом. После них ни одна интерпретация “Повестей Белкина” не может быть признана удовлетворительной, если она не может объяснить замеченное Слюсарем.
Литература
1.
Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса, 1998.2.
Слюсарь А. А. Проза А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Опыт жанрово-типологического сопоставления. Киев - Одесса, 1990.Написано в ноябре 2001 г.
Зачитано в ноябре 2001 г.
Возможность проникнуть
в подсознание Пушкина
...научный спор - это доказательство того, что точка зрения противника не имеет ценности.
М. Ю. Лотман
Открытие Жуковским для русской литературы богатых идейно-психологических возможностей в преодолении грамматики неглавными (и потому субъективными) значениями соединяемых в предложение слов широко известно и легко применяется при анализе, так как связано с почти полностью осознаваемыми реалиями. Известно, что Пушкин вполне воспользовался открытием Жуковского и названные противоречия, хоть и гораздо реже встречающиеся, чем у Жуковского, тоже легко у него выявляются и интерпретируются, особенно в романтических его творениях.
Пример. Казалось бы, жизнь и сон в некотором смысле противоположны и не характеризуют друг друга. Но Пушкина эта объективность не останавливает в стихотворении 1815 года “К ней”:
Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку.
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон
...К явлениям того же порядка относится - тут же - и сдвигание слов со своих привычных мест: не “тяжелый сон жизни”, а “тяжелый жизни сон”. Важна не объективность (и связанный с нею прямой порядок слов), а субъективное (и, следовательно, - нарушенный порядок).
Конечно, эта романтика применялась по наитию, стихийно. Но она, повторяю, легко осознается и толкуется. (Здесь - как презумпция субъективного перед объективным, как своеобразная победа над этим упрямым и неподдающимся миром; в нашем случае, прототипически, видно, речь о Наташе Кочубей или Кате Бакуниной, которых родители увезли из Царского Села и которые, чего доброго, и взаимностью-то не отвечали прототипу лирического героя рассматриваемого стихотворения.)
Гораздо трудней поддается осознанию - и уж точно творилось подсознанием поэта - более тонкая, например, звуковая организация стихов.
Согласитесь ли, что “Эльвина” и “Я вяну” звучит несколько похоже? А это не зря.
Стихи:
Эльвина, / милый друг, / приди, / подай мне руку.
Я вяну, / прекрати / тяжелый / жизни сон -
довольно отчетливо делятся на 4 взаимно почти равные группы. А первые образуют в фонологическом отношении соотнесенные пары:
Эльвина - Я вяну.
Эти группы образуют анафорический фонологический сегмент - основание для сопоставления. Извлеченные из подсознания в осознаваемые сопоставления, они со всей определенностью выявляют сходство: одинаковые согласные вн - вн, мягкие гласные и - я в середине, все звуки - переднегубные.
И я тут же позволю себе возвести до степени осознаваемой значимости обнаруженное сходство. Значимости, которая на молекулярном, так сказать, уровне начинает работать на идею целого произведения.
<<
Манера Жуковского,- пишет Гуковский,- его принципы рассеяны у молодого Пушкина повсюду...>> [1, 123] - <<вплоть до имен>> [1, 122]. <<Имя Эльвина - имя в стиле Жуковского>> [1, 127], в стиле прекраснодушного мечтателя [1, 59]. И вот прекрасный обертон этого тона - имени - в силу фонологического сходства переносится на что? - На - если объективно - совсем не прекрасное состояние души: “Я вяну”. И рождается третье, миникатарсис: утверждение “я”, утверждение души, сумевшей победить самый мир в своем от мира поражении путем отключения от этого мира и переключения на себя самого, на свое переживание, предстающее как огромная ценность, каким бы оно ни было - позитивным или негативным.То же видим и в рифме.
<<
В числе других классификационных принципов... можно встретить деление рифмы на богатые и бедные>> [2, 151]. И Лотман замечательно показал, что богатство заключается не столько в бо`льшем количестве повторяющихся звуков, сколько в смысловом несовпадении рифмующихся слов [2, 153].Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку.
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон;
Скажи, увижу ли... на долгую ль разлуку
Я роком осужден?
Здесь рифмуется слова “мне руку” с “разлуку”. Всего 3 звука из 6-ти и 7-ми совпадают. Зато насколько противоположны их смыслы! И все-таки рифма это повтор. <<
Рифма возвращает читателя к предшествующему тексту. Причем надо подчеркнуть, что подобное “возвращение” оживляет в сознании не только созвучие, но и значение первого из рифмующихся слов... При этом оказывается, что уже раз воспринятые... слова... при втором восприятии получают новый смысл>> [2, 154]. А в то же время <<два слова, которые как явления языка находятся вне всех... связей... оказываются соединенными>> [2, 154]. <<То - и одновременно не то... Природа рифмы - в сближении различного и раскрытии разницы в сходном. Рифма диалектична... В этом смысле далеко не случайным оказывается возникновение культуры рифмы именно в момент созревания в рамках средневекового сознания схоластической диалектики - ощущения сложной переплетенности понятий как выражения усложненности жизни и сознания людей>> [2, 155-156].Лотман даже в историю происхождения рифмы ударился, лишь бы ускользнуть от интерпретации, что конкретно значит та конкретная рифма, о которой он говорит.
И я всю эту длинную выписку из Лотмана привел не только для обоснования выведения миникатарсиса из противочувствий от со- и противопоставлений рифмы “мне руку” и “разлуку”, миникатарсиса, состоящего в акценте на сложности внутренней жизни, возведенной автором-романтиком в ранг высшей ценности. Я весь доклад написал в пику Лотману, который акцентирует в своей книге формалистский подход, почти нигде не срываясь в истолкование, всюду акцентирует “КАК”, почти нигде не срываясь в “ЗАЧЕМ ТАК”.
Лишь раз он сорвался, говоря о фонологии аллитераций в двух лермонтовских романтических стихах и через так называемые окказиональные (возможные) антонимы вывел <<
противопоставление “взора” и “голоса”, весьма обычное в романтическом портрете “загадочного человека”>> [2, 138].Я не согласен с лотмановским возражением на упрек ему подобным в формализме, что, мол, необходимо независимое от содержания изучение структуры художественного текста, как, например, необходимо отвлеченное от нравственности изучение арифметики. И я, наоборот, согласен с недавним возражением российского премьер-министра к составителям задачника: нельзя, чтоб, например, в задаче на деление с дробями предлагалось делить, скажем, на троих две сигареты. Российская цивилизация - не западная, и нечего протаскивать вседозволенность с помощью даже арифметики. Срывы, подобные упомянутым окказиональным антонимам, чрезвычайно полезны для усвоения абстракций структурализма. У меня, по крайней мере, лотмановский срыв породил вот этот минидоклад.
И за этот срыв я Лотману благодарен.
Можно было б продолжить фонологический разбор пушкинского стихотворения “К ней”. Там еще три куплета. Но это не даст новизны по сути. А возможности подхода, состоящего в поисках миникатарсиса от противопереживаний читателя на подсознательном уровне, я продемонстрировал.
Литература
1.
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.2.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.Написано в январе 2002 г.
Зачитано в январе 2002 г.
Возражения
Островская Н. К.:
Непрямой порядок слов в стихах встречается сплошь и рядом. Это не есть признак романтизма.
Александров А. В.:
Мы помним уродства вульгарного социологизма, и нас не сагитируешь работать на интерпретаторской ниве.
К пушкиниане 2001
В 2001 году в Одессе вышла крошечная брошюра Геннадия Группа “Пушкин и... советская власть”. В ней, вопреки названию, автор нападает не на власть, а, похоже, на раболепствующую перед ней пушкинистику советских времен. И совершенно неосновательно нападает.
Тем не менее сто`ит о книжке рассказать (в конце я обозначу почему
).Автор не скрывает, что это первая его книга и что он не филолог. Но он создает о себе впечатление как о человеке вдумчивом, не чуждом искусству (<<
поставил ряд теле- и радиопередач по собственным сценариям>>). Не чужд он - по его признанию - и пушкиноведению, причем не только в качестве читателя, но и в качестве журналиста, впрочем, не снискавшего успеха. Что тоже им признается. И вот теперь, став издателем, он, понимай, решил взять реванш данной книгой.Речь у него идет о хрестоматийном в СССР послании “К Чаадаеву” (1818 года) и о гораздо менее известном послании “Гнедичу” (1832 года). Вернее, речь о том, как советские пушкинисты наивно и нагло Пушкина переделали господствующей идеологии на потребу. Групп вспоминает в этой связи даже Оруэлла и его антиутопию “1984”.
Хочу отдать должное умению создать впечатление убедительности автора, проистекающее от обильного цитирования, а также впечатление большой страстности (от нескрываемой ненависти к оппонентам). Одним духом читается книжка, впрочем, еще и потому, что короткая - 11 страниц величиной с ладонь.
Итак, Пушкина переделывали: совки - по мнению Группа, а по моему мнению, в совков их переделал он.
Вообще-то тяга переделывать странна. Пушкин настолько разнолик (я это так называю: его идеалы - каждый в свое время - бывали на всех участках Синусоиды идеалов и даже - раз - на вылете с нее вверх; только на вылете вниз не бывали), итак, Пушкнн настолько Протей (морское божество, изменяющее свой вид), что он мог бы, не будучи искаженным, удовлетворить любому мировоззрению, если подобрать соответствующий период его творчества.
Впрочем, можно понять и тягу перетянуть к себе всего Пушкина (ведь мало кто знает, что тот всю жизнь изменялся в идеологическом смысле, изменялся диалектически, т. е. вплоть до противоположности себе прежнему).
В, скажем так, продекабристские периоды (их было целых три) Пушкин очень хорошо удовлетворял коллективистской идеологии, господствовавшей при советской власти. И одно из соответствующих стихотворений второго продекабристского периода, естественно, наизусть учили в школах - “К Чаадаеву” (“Любви, надежды, тихой славы...”).
В перестройку советскую власть принялись ломать. Ярым антисоветчикам было лестно даже Пушкина-продекабриста перетянуть на свою сторону. Таким, видно, был тогда Групп. И он попытался... Ну, если и не перетянуть, то хотя бы бросить тень на пушкиноведение и педагогику советского периода.
Групп сравнил текст “К Чаадаеву” из советских публикаций с текстом издания Суворина 1887 года и увидел расхождения. Главное расхождение: вместо дореволюционного “Заря пленительного счастья” после революции - “Звезда пленительного счастья”
.А звезда ж, понимай, это один из трех главных изобразительных символов советской власти: серп, молот и красная звезда. Ну так ату:
<<
Ме не хочется это комментировать. Читатель - не дурак и сам может сделать свои выводы. О том, как юношеское стихотворение, переполненное порывами еще детской романтики, стало хрестоматийным и обязательным в школьном изучении. И все из-за “Товарища” и “Звезды пленительного счастья...”, о которой поэт и понятия не имел>>.Я тоже не хочу комментировать, можно ли 19-тилетнего гения, еще в лицее принятого заочно в литературное общество “Арзамас” за поразительные достижения в поэзии, называть юношей, а его идеалы - детской романтикой. А так же, что этот гений <<
понятия не имел>>, скажем, о звезде, которая вела волхвов к родившемуся Христосу, или <<понятия не имел>>, что вообще все, надеющиеся на крупное обновление, говорят о путеводной звезде. Но давайте на минуту поверим Группу, что Пушкин о звезде <<понятия не имел>>.Когда Групп теперь, через полтора десятка лет, задумал опубликовать в книжке,- случайно (или по литературоведческой осторожности) непринятую Коротичем в тогдашний оголтело оппозиционный “Огонек”,- свою статью; теперь, когда страсти смены строя и власти несколько улеглись - теперь уже можно было проверить, насколько виноваты советские литературоведы в “звезде”.
Групп же показал, что он с юности умеет работать с полными собраниями сочинений. А там же печатают варианты. Там в комментариях отсылают к источникам этих вариантов. И эти источники зачастую - дореволюционные. Мог бы Групп и проверить,- подумал я наивно.
И, получив его книгу в подарок, я пошел и проверил.
И оказалось, что “звезда”-то все-таки была известна и до революции 1917 года. Да, автографа не сохранилось. Но зато сохранились копии. “Звезда таинственного счастья” - написано в копиях Забелина и Нейштадта. “Звезда желаннейшего счастья” - в копии Щербинина и в публикации Щербачева от 1913 года по копии в тетради Каверина. “Звезда цивического счастья” - по копии Щербакова, опубликованной Ефремовым в 1905 году. Наконец, “Звезда пленительного счастья” опубликовано Ефремовым же в рецензии на первое под редакцией Геннади собрание сочинений Пушкина в “Библиографических Записках 1861”. Все - дореволюционные источники.
Правда, вычитал я это в советском академическом Полном собрании сочинений (1937 года). А значит, по Группу, я оказываюсь вторым Михалевым, который,- как Групп пишет в книге своей,- его уже отчитал, опираясь на то же советское издание 37-го года, отчитал в газете в мае 1999 года за вранье, помещенное им, Группом, в газете “Слово” в феврале 1999-го.
Тогда я почитал отповедь Михалева. Оказалось, тот его еще крепче укусил, чем Групп это описал. Михалев сослался на Полное собрание сочинений, изданное уже после краха советской власти. <<
Новое же издание,- пишет Михалев,- силами современных ученых... существенно доработано и дополнено>>.И после этого Группу все равно неймется! Странно.
Я не смог достать второй том этого нового издания (именно во втором находится “К Чаадаеву”). Зато я посмотрел том первый.
Похоже, что Михалев не прав. В первом томе написано, что новое издание является переизданием акадамического, 1937 года (и уж в первых двух томах таковым, наверно, и осталось). Может, это подвигнуло Группа на упрямое несогласие с Михалевым при всей сокрушительности михалевской критики?
Вряд ли. Я выписал пару строк из обращения нового издателя, Пряхина, касающиеся советского академического издания 1937 года:
<<
За это время пушкиноведы, разумеется, продвинулись вперед. И тем не менее специалисты подтверждают научную ценность и даже уникальность именно этого собрания сочинений.Скромная деталь: даже в тогдашнем предисловии, которое мы воспроизводим дословно, вы не найдете ссылок на власти предержащие. А два юношеских стихотворения, написанные Пушкиным по-французски, даны в первом томе в переводах Анны Ахматовой. А ведь в конце тома значится: “подписано к печати 9 февраля 1937 года”. Тридцать седьмого! Если есть подвиг благородства, то перед нами именно такой коллективный, интеллектуальный, истинно пушкинский подвиг умолчания и непослушания
>>.Групп изгаляется над этим подвигом.
То же со второй статьей, публикуемой в книжке впервые.
Здесь Групп приписывает советским литературоведам замену заглавия (на “Гнедичу” вместо “К Н
**”) и вставку отброшенных Пушкиным целых шести последних строк стихотворения - таких:Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены,
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы и Еруслана.
И еще инкриминируется советским литературоведам игнорирование в суворинском издании примечания со ссылкой на Гоголя, мол, это стихотворение посвящено Николаю I, задержавшемуся с приходом на бал из-за того, что царь зачитался недавно вышедшим переводом Гнедича гомеровской “Илиады”.
Это был 1832 год. Пушкин уже 4 года как разочаровался в Николае I. И никогда больше уже не уповал на благо монархического правления в России. И было странно читать, что это, мол, к Николаю I относится такое обращение:
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
Ну, пусть увлеченное чтение Гомера еще может быть отнесено к таинственным вершинам и светлому настроению. Но что за скрижали вынес царь к заждавшимся гостям? - Если эту самую книгу-перевод Гнедича, то почему “свои”, а не гнедичские или гомеровские это скрижали?
Не поверил я Группу и, опять же, проверил по новенькому Полному собранию сочинений (этот, 3-й, том оказался мне доступен).
Оказалось, что это Жуковский наименовал стихотворение, не имевшее-таки названия, “К Н
**”. Кстати, Гнедича тоже звали Николаем... Оказалось, что еще Белинский определил, что это Пушкин обратился ко Гнедичу. И еще в 1904 году В. Ф. Саводник опроверг ложную концепцию Гоголя. А Лернер повторил это в 1915 году.Все до 1917 года, заметьте.
А если посмотреть вариант чернового автографа, то видно, что упраздненный “поэт” появляется у Пушкина в первых же движениях пера:
Таков поэт - во дни
И - в следующих:
Таков поэт - Великий жрец Гомера
Вперив въ <нрзб> его скрижаль
И - в следующих...
Если Пушкин и вправду думал исключить последние 6 строк, то потому,- как логично заметил Саводник,- что они делали стихотворение обращением не ко Гнедичу, не писавшему ни о Риме, ни о Бове, ни о Еруслане, а вообще к свободному в своем творчестве поэту.
Да и вычеркнуты Пушкиным без замены не 6 строк, а меньше. Это Жуковский уж все 6 “вычеркнул”.
В общем, не о чем говорить.
Так зачем я так до смешного серьезно навалился на Группа? Разве вообще безо всяких разбирательств не видна (Михалев, впочем, ее не увидел) вопиющая несерьезность групповских претензий? Чтоб советские ученые позволили себе присоединить 6 строк, бесповоротно меняющих адресата послания!.. Чтоб советские ученые ввели “звезду” из пиетета к советской власти!.. - Анекдот же.
Но Групп, по-моему, слишком умен и подкован, чтоб всего лишь из амбиции после квалифицированной и сокрушительной отповеди доцента Михалева опять выступить теперь со своими откровенно смешными аргументами (в том числе и с таким, брошенным относительно самого Михалева: <<н
е знаю такого>>).По-моему, у Группа эта смехотворность его аргументов возведена в принцип, осознает он его или нет. Его книга поименована литературно-художественным изданием. Групп шутит. Шутит принципиально. Шутит над самым святым в российской (евросибирской, по Гумилеву) цивилизации: над Пушкиным и над изучающей его наукой.
А Пушкин теперь очень актуален в свете нашего движения на Запад. Актуален в трех смыслах.
Во-первых, это движение затруднено реакционерами, тянущими обратно в социализм и тоталитаризм. Не зря Групп гиперболизирует свою тяжбу с Михалевым и газетой “Слово”:
<<
Я написал ответ, но знаменитая, самая интеллектуальная одесская газета не приняла его. Мне стало противно, вспомнились 70-е, начало 80-х, и я ушел>>.Во-вторых и в-третьих, на Западе господствуют две, так сказать, непушкинские тенденции, довольно несимпатичные с точки зрения - посмею так выразиться - российской цивилизации. Это все-себе-дозволенность и развлекаловка, шоу вместо искусства. Все-себе-дозволенность я возвожу к идеалу ницшеанства, шоу - к отсутствию вообще каких бы то ни было идеалов. И России (и русскоязычной культуре) в этом разрезе на Запад нечего идти (не возвращаясь и обратно).
Я не вполне еще разобрался в Геннадии Группе, но мне представляется, что его больше тянет не ницшеанство, а шоу-тенденция, насмешничество надо всем и особенно - над высоким. Он давно разочаровался в советизме (если вообще был им когда-нибудь очарован), разочаровался теперь в так называемой демократии и остался у разбитого корыта, без идеалов вообще. В этом смысл смехотворности его аргументов против лучшего и нетленного, что создано было в СССР, против пушкинистики. И поэтому я позволил себе доложить о книжке Группа.
Я и ему самому, думается, этим выступлением буду полезен. Пишет же он: <<
Сам не знаю почему>> выпустил свою книгу. Так, может, теперь узнает.Заодно не премину заметить, что если я прав, то самому мне помогла прямо-таки выводящая на точность Синусоида идеалов с ее вылетами, в том числе и с вылетами вообще вон с плоскости, символизирующей искусство, с вылетами в околоискусство, одним из представителей которого является шоу.
Написано в декабре 2001 г.
Зачитано в феврале 2002 г.
.
О художественном смысле
“Пиковой дамы” А. С. Пушкина
Называя мудростью ту славу, какую приобрел Крылов своими баснями, Выготский, в своей “Психологии искусства”, замечательно вскрыл ее природу - катарсис от взаимоуничтожения противочувствий, вызываемых противоположными элементами его басен (дидактикой и поэтичностью), отражавшими, с одной стороны, его когдатошнее бытование сатириком, а с другой - его еще более раннюю страсть к драматической поэзии [3, 113]. Фомичев это изменение от Крылова раннего к позднему назвал эволюцией от предромантизма непосредственно к реализму [9, 60, 292].
Выготский, если вдуматься, предложил два пути ко вскрытию художественного смысла произведения: изнутри (из противоречий элементов его структуры) и снаружи (через определение места произведения в творческой эволюции художника).
Вот так же, с двух сторон, я предлагаю подойти и к пушкинской “Пиковой даме”. Второй путь - это вскрыть логику изменения идеалов Пушкина в 30-е годы. С нее и начнем.
“Пиковая дама” написана в Болдине осенью 1833 года. За несколько месяцев до этого Пушкин набросал первый план “Капитанской дочки”. Последняя вчерне была готова осенью 1834 года. И это преимущественно на базе анализа ее, “Капитанской дочки”, Ю. М. Лотман писал: <<
...стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям... возвышаются до простых человеческих душевных движений... [есть] любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма - закономерный этап на пути к широчайшему течению русской мысли XIX в., включающему и утопических социалистов, и крестьянских утопистов-уравнителей...>> [6, 120] А осенью 1830 года в том же Болдине были созданы “Повести Белкина” и маленькие трагедии. И пушкинский идеал, под влиянием которого они создавались, (как это показано мною [1, 50; 2, 84] ) был мечта о консенсусе и осуждение экстрем - первый проблеск социального утопизма Пушкина 30-х годов.Так не логично ли следы этого же утопизма искать и в “Пиковой даме”, в противоречиях элементов ее текста? Это и будет вторым путем подхода к попытке открыть художественный смысл этого произведения.
Широко известно, как тщательно Пушкин просчитывал хронологию событий и действий героев в своих творениях, как в той же “Пиковой даме” он исчислял деньги Германна... И вот этот непогрешимый даже в мелочах и себе на уме Пушкин допустил явный прокол. Смотрите.
Старая графиня, одеваясь за ширмами, просит внука, князя Павла Александровича Томского, прислать ей какой-нибудь новый роман. Томский в ответ прощается, ссылаясь на спешку, и уходит из уборной своей бабушки. Та “одевалась так же долго, так же старательно, как шестьдесят лет тому назад”. Оделась, и “слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
- Хорошо! Благодарить,- сказала графиня...” И, передумав кататься
, как предполагалось, велит Лизе начать читать. Послушав две страницы зевнула.“- Брось эту книгу,- сказала она: - что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить...”
Спрашивается, не слишком ли быстро Томский прореагировал на бабушкину просьбу? Если он врал, что спешил, а просто ему неприятно было с бабушкой быть лишнюю секунду (он к ней заскакивал по делу), то почему он так сразу прислал книгу? Бабушка его не торопила и просила вообще. Да и не похоже, чтоб внук к бабке относился как-то особо: слишком плохо или слишком хорошо. Вот она “в сотый раз рассказала внуку свой анекдот”, как когда-то в молодости она с княгиней Дарьей Петровной была пожалована во фрейлины, и Пушкин лишь полусловом намекнул, что князю с ней скучно: “отвечал рассеянно Томский”. Неужели мыслимо, чтоб под благовидным предлогом уехав от нее поскорей домой он, молодой человек, ведущий рассеянный образ жизни, испытывал к бабкиной просьбе повышенную внимательность?
Еще более немыслимо предположить, что “графиня
***” и князь Томский жили в одном доме и поэтому можно было так оперативно передать книгу.Нельзя предположить и того, что графиня уж больно долго одевалась.
“Томский вышел из уборной.
Лизавета Ивановна осталась одна; она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре [обратите внимание - вскоре] на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки; она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
- Прикажи, Лизанька,- сказала она,- карету закладывать и поедем прогуляться”.
Не успела Лиза приказать, а уж принесли книгу. - Явная накладка. И, похоже, что Пушкин нарывается на то, чтоб это было замечено. - Зачем? - Не для того ли, чтоб выпятить в нашем внимании книгу и вообще разговор о ней и ее альтернативе?
“- Paul! - закричала графиня из-за ширмов: - пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.
- Как это, grand’maman?
- То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленников!
- Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?
- А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!”
Не русские - это явно французские новые вещи того времени, времени после французской революции 1830 года, вещи, где были указанные графиней страсти-мордасти. Это были произведения или романтиков, или первых реалистов.
Вот что о романтиках около тех лет писал Плеханов, оперируя временно`й, исторической изменчивостью искусства между двумя полюсами: утилитаризмом и незаинтересованностью общественным. (А я, кстати, эту пару-оппозицию вижу из века в век коррелирующей с другими парами-оппозициями: общественное - частное, коллективизм - эгоизм, ингуманизм - гуманизм, “небесное” - “земное” и т. д. И между этими полюсами колеблющуюся изменчивость идеалов, отраженных в искусстве, удобно представлять себе в виде синусоиды с подъемами к “небесному” и спусками к “земному” [1, 51; 2, 26, 27].) Теперь процитируем Плеханова, комментируя, где подъемы, а где спуски.
Подъем: <<
...все вообще французское искусство... делается простым орудием к политической пропаганде. В начале XIX века нарождающийся романтизм... преследует “социально-политические цели”>> [8, 363] (как в России- так называемый гражданский романтизм; только в России шло к революции, а во Франции была конрреволюция). <<Гюго, находивший поэтическими только те исторические события, которые знаменовали торжество монархии и католицизма, был в эту пору своей жизни представителем высших сословий, пытавшихся восстановить старый порядок>> [8, 364].Следующая фаза на синусоиде - спуск: <<
Около 1824 года, после войны с Испанией, замечается значительный поворот в отношении романтиков к социально-политическому элементу в поэзии. Этот элемент отходит на задний план, искусство становится “бескорыстным”... поэзия не должна не только “доказывать”, но даже и “рассказывать”>> [8, 363].Следом - новый подъем: <<
Но ряды приверженцев французского романтизма стали все более пополняться образованными детьми буржуазии>> [8, 364]. Назревала революция 1830 года, в которой мелкая буржуазия попыталась уравняться с крупной, примазавшейся к Реставрации. <<На сторону этой [мелкой] буржуазии перешли некоторые из тех его [романтизма] сторонников, которые прежде воспевали старый порядок. Так поступил, например, Гюго>> [8, 364].Революция 1830 года для мелкой буржуазии явилась новым поражением, и это, как удар о пирамиду бильярдных шаров, расшвыряло романтических ее сторонников по разным не то что полюсам, а еще дальше. Как я указывал в цитированных работах своих, мыслимо представлять себе вылеты вон с синусоиды изменчивости идеалов: “сверхвверх” (крайняя мечтательность) и “субвниз” (демонизм, сатанизм) [1, 51; 2, 27].
“Сверхвверх” (интерпретирую Плеханова): <<
После 1830 года некоторые романтики, не вдаваясь в рассуждения об общественной роли искусства, делаются выразителями довольно неопределенных идеалов мелкой буржуазии...>> [8, 364]“Субвниз”: <<
...а другие проповедуют теорию искусства для искусства...>> [8, 364]“
И все правы”,- подводит итог Плеханов. “Сверхвверху”: <<Мелкая буржуазия оставалась неудовлетворенной: ей естественно было выразить эту неудовлетворенность в литературе>> [8, 364]. “Субвнизу”: <<С другой стороны, правы были и сторонники чистого искусства. Их теории означали, во-первых, реакцию против социально-политических тенденций прежнего [“просто вверх”] романтизма, а во-вторых, несоответствие прозы торгашеского существования [“просто низ”] с бурными стремлениями буржуазной молодежи, взволнованной шумом еще не вполне закончившейся тогда борьбы буржуазии за свою эмансипацию>> [8, 364].А поскольку крайности - сходятся (если опять - в математических образах, то как сходится плюс и минус бесконечность на прямой, являющейся числовой осью, или как заполюсный меридиан, заворачивая за полюса, - сходится где-то там, на другой стороне Земли), так - и у разметанных ультраромантиков наблюдается схождение: <<
...преобладание в известном слое французской буржуазии духовных интересов над материальными>> [8, 365]. Причем интересы духовные здесь - совсем не нравственные: ингуманизм идеалистов так же жесток к другим, да и к себе, как и сверхэгоизм сверхчеловеков. Оба готовы на все и даже любят смерть, отвергая действительность. Оба любят красоту, не взирая на аморальность.Экстремизм был героем романтической, “
взволнованной шумом молодежи”. И он же был героем того реализма, представителем которого стал Стендаль [5, 105], начиная с 1830-го года, с романа “Красное и черное”. (У реализма бальзаковского типа интерес был к бытовому, обыденному, оцениваемому как прогресс.) Вот экстремистский новый роман (может, помня о собственной экстремистской молодости) и не хотела, чтоб ей принесли, графиня из “Пиковой дамы”. А Пушкин зачем-то заставил нас, читателей, обратить внимание на это - введенной несуразностью слишком быстрой доставки графине русской альтернативы французскому.Графине, впрочем, не понравился и русский роман. Но, зная о тогдашнем засилье булгаринской второсортности в области русского романа, можно предположить, что Пушкин рассчитывал, что мы поймем, почему от него отказалась графиня. Теперь, правда, из исторического далека видна и другая причина. <<
В 1833-1834 гг. Пушкин уже ясно осознал силу вторгшихся в русскую социальную действительность капиталистических элементов. О них уже говорили и писали вокруг него, их приветствовал ненавистный ему Булгарин, им радовался Полевой, ими восхищалась “Северная пчела”, их поощрял, хотя и умеренно, Николай I...>> [4, 169] То есть отвергнуты графиней могли быть восторги расчетливости капитализирующегося быта.Вообще, выпяченный эпизод с романами: русским, французским - принципиален в нескольких отношениях. Во-первых, что если Пушкин наталкивал на вопрос: а что же он, Пушкин, на месте Томского предложил бы графине, вернее, таким, как она? И что если ответ этот: а хотя бы мои нестихотворные последние произведения. Во-вторых, не солидаризируется ли автор с графиней в литературных вкусах, а может, и глубже?
Рассмотрим.
Вся “Пиковая дама” состоит из двух разнородных частей: 1) романтической истории экстремистских Германна и Лизы и 2) бледного, прозаического эпилога.
Экстремизм и романтизм Германна всем очевиден. Неочевидно, может, только приведенное выше и характерное для тогдашних французских романтиков “
преобладание духовных интересов над материальными”. Отвлечемся на разбор этого.Есть только четыре типа этики: этика долга, этика счастья, этика пользы и этика силы. Так какою, вы думаете, раз за разом руководствовался Германн, если о нем говорят : “отроду не брал он карты в руки... а до пяти часов [утра] сидит с нами и смотрит нашу игру
!” По-моему, карточная игра провоцирует его на мечты о победах. Не об успехе, а именно о победах. О чем он помышляет, когда думает, что уже овладел тайной трех карт? - “Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны”. - Зачем “путешествие”: чтоб доехать до Парижа и взять клад? - Но почему во множественном числе: “в ... игрецких домах”? Разве не достаточно - в одном доме? Вам не кажется, что он думал играть не раз и не три раза, а много, то есть - не ради успеха и последующего, так сказать, почивания на нем, а ради побед, и побед, и побед. Как Наполеон. Потому Пушкин и сделал его похожим на этого неутомимого искателя побед. И это явно “преобладание духовных интересов над материальными”. Это проявление этики силы.И ей же следует и Лиза. Да! По ницшеанской философии счастье мужчины - “я хочу”, счастье женщины - “он хочет”. И вряд ли единственное число здесь принципиально, скорее наоборот. И вряд ли - беспрепятственность желанна, скорее - тоже наоборот. Но Ницше лишь сформулировал свою философию. Бытовала же она века. И Пушкин хорошо знал, как женщине, исповедующей ее, пусть и не вполне осознанно, необходимо отдаться мужчине, несмотря ни на что. Этот человековед знал, конечно, и противоположный тип женщин. Например, графиня Эдлинг [7, 174]. (Мне пришлось в одном экзотическом клубе слышать выступление-исповедь женщины, рассказавшей, что у нее парализовало ноги от бездуховности ее интимных отношений с мужем; и она развелась, и паралич оставил ее; и лишь впоследствии, умея вступать как бы в астральную связь с будущим, она нашла своего суженого Богом). Может, по противоположности с такими святыми Пушкин и избрал местом жительства Лизе дом рискованного разврата, реальный петербургский дом с таким же, каким Германн воспользовался уходя, потайным ходом, дом, где у самого Пушкина, когда он был еще холост, была один раз (его рассказ Нащокину) связь, можно сказать, с бесовкой (если поверить упоительной логике Краваль [7, 227- 228]), с графиней Долли Фикельмон. Неимоверны препятствия и риск свидания с незнакомцем для Лизы. Но и страсть сделать вопреки графине - велика. Для того и показано, как графиня угнетала Лизу и как Лиза скрывала свое возмущение. А когда пружина слишком сжата, она может распрямиться от случайности и со страшной силой: “Не прошло трех недель с той поры, как она первый раз увидела в окошко молодого человека,- и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание!” Вряд ли тут любовь и этика счастья. И, может, не зря эпиграф к главе, из которой сделана последняя цитата, такой:
7 Mai 18**
Homme sans moeurs et sans religion!
Переписка
Перевод: “7 мая 18** . Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого!” Не определяют ли эти слова и Лизавету Ивановну хоть в какой-то миг ее жизни? И не есть ли это у нее тоже “преобладание духовных интересов над материальными”? Ибо материальные интересы требовали от нее иного поведения.
В общем, экстремистский это кусок в “Пиковой даме” - то, что до “Заключения”. И он соответствует отвергаемым графиней новым романам из нынешних, по-видимому, французским, возникшим после французской революции 1830 года.
А с “Заключения”, точнее, с одного предложения до “Заключения” начинается как бы российский застой, болото, противоположность порожденному “взволнованной шумом молодежи”:
“Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геманн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: - Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..
Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.
Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине”.
Вы чувствуете тонкую усмешку Пушкина, подыгрывающего публике, воспринимающей романы наивнореалистически и не восходящей до их художественного смысла? И это в такой публике, в российском болоте нет ни грана сочувствия несчастному чужаку - какая сухость и объективность в описании его местонахождения и его состояния!.. И какая теплота относительно своих: успокоившихся Лизаветы Ивановны, Томского. И какая усмешка сквозит в пушкинском удовлетворении пошлой любви публики к хорошим концам!
Пушкин против экстремизма (не зря он привел его к краху в первой части) и против болота застоя. И осознав это, в вас - совсем по Выготскому - взаимоуничтожатся впечатления от обоих этих противоположностей и вы вспомните о третьем, о его родившемся еще в “Повестях Белкина” социальном утопизме, о всероссийском консенсусе богатых и бедных, злых и добрых, знатных и ничтожных. Вот такое понимание и такое повествование предложил бы он графине, точнее, таким, как она.
Теперь можно перейти ко второму вопросу, порожденному выпяченной Пушкиным коллизией с книгами, к вопросу, не единомышленник ли Пушкин с графиней?
Титулом “старой ее благодетельницы” от имени Лизаньки “удостаивает” для нас Пушкин умершую. По закону Выготского о пути наибольшего сопротивления, по которому стихийно следуют все художники, Пушкин обязан был, если он согласен с Лизанькой насчет благодетельницы, сделать старуху тиранкой. И в свете своего утопизма о сословном консенсусе в России, он с Лизанькой насчет графини таки согласен. И - он сделал ее мелкой тиранкой, всю свою старую жизнь посвятившей... воспитаннице. Что: по инерции 87-милетняя графиня подолгу ежедневно наряжается, делает выезды, посещает балы и дает их сама? - Да конечно же, чтоб выдать замуж бедную Лизаньку за кого-то из высшего света. Соответственно, и литературные вкусы придал графине Пушкин - свои. Вернее они не могли быть иными, раз она отвергала и французские и русские новейшие романы.
Нет, при всех своих утопических идеалах 30-х годов Пушкин остается реалистом. Он видит (и отражает) этот после капиталистических революций на Западе повсеместно проникающий в Россию меркантилизм. Вот положение Лизы: “В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал... молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались”. Ей не суждено стать знаменем пушкинского идеала консенсуса. Она если и вышла замуж, то не так, как хотела графиня, а за сына бывшего графининого управителя. Вот - предприятие Чекалинского, сообразившего, что можно нажить “миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги”. Вот - инженер Германн, из разночинцев, накопительством ежедневно приумножающий свой капитал и не стремящийся к светскому блеску, а лишь к тому, чтобы “товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью”.
Но Германн не зря сделан немцем. “Русским барам Германн противостоит как немец” [4, 173]. И не зря инженер. “Инженер - для русского дворянского общества начала XIX века - это человек нового века техники, человек века, идущего “железным путем”...” [4, 173] Германн - редкость. Капитализм еще чужой в России, и хотелось бы, чтоб обошел он Россию стороной. Потому что на витрине его, в Северо-Американских Штатах, при всех ее плюсах “несколько глубоких умов в недавнее время... С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве” и т. д. Российское болото - тоже не сахар. Но, может, может, есть все же третий путь?!.
И Пушкин осторожно придает и Лизавете Ивановне, ставшей все же состоятельной в замужестве, воспитанницу, бедную родственницу... Это мизер, конечно, и мельче, чем с графиней. Но все же, все же... Идеал консенсуса упорно роет свой ход.
Литература
1.
Воложин С. И. Беспощадный Пушкин. Одесса, 1999.2.
Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса, 1998.3.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.4.
Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л., 1966.5.
Затонский Д. В. Европейский реализм XIX в. - Линии и лики. - Киев, 1984.6.
Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.7.
Краваль Л. А. Рисунки Пушкина как графический дневник. М., 1997.8.
Плеханов Г. В. Литература и эстетика. Т. 1. М., 1958.9.
Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.Написано в декабре 1999 г.
Зачитано в марте 2002 г.
Возражения
Мельникова В. П.:
1. Автограф “Пиковой дамы” отсутствует. И есть комментарии, относящие ее написание не к 33-му, а к 30-му году. А это, для вас, большой отрезок времени, коль скоро вы стремитесь следить за малейшим изменением идеалов столь динамичного, по-вашему, же Пушкина. У вас же - и в 30-м, и в 33-м один и тот же идеал консенсуса.
2. Томский пришел к графине с просьбой представить ей Нарумова еще до бала. Так если та активничала в жизни ради того, чтоб выдать Лизаньку замуж за кого-то из высшего света, почему ж она осталась безразлична к стремлению Нарумова попасть к ней в дом? - Потому что ей была безразлична судьба Лизы.
Нерян С. А.:
Не похоже, чтоб название “Пиковая дама” как-то относилось к консенсусу в сословном обществе. А мыслимо ли думать, что у Пушкина название не отражает замысла? Нет, если я правильно помню ваше отношение к гению Пушкина.
Баранова С. Ф.:
Томский не сам принес графине книгу. Значит, слугу подрядил. А те - люди скорые. И тогда отпадает временна`я, мол, накладка у Пушкина.
Еще о проникновении в подсознание Пушкина
Признаюсь, что свои столь дерзкие попытки проникать аж в подсознание Пушкина я осуществляю на основании уже хорошо известного отнесения его произведения имярек к такому-то стилю. Я не рискую опускаться в столь темные глубины, как подсознание, когда мне самому неясно, где я должен выплыть.
Наткнувшись у Лотмана на микроструктурный анализ,- опять, как всегда у него, без выхода к художественному смыслу целого произведения,- анализ четырех стихов из поэмы “Цыганы”, я - в полемическом раже - решил и этот кусок из Лотмана обратить во славу Выготского.
Только надо,- чтоб было понятно, о чем Лотман пишет,- предварительно вникнуть в термины. (Речь пойдет только о гласных буквах.)
1.
“Низкого уровня дифференциальные признаки фонем”. Лотман рассматривает гласные у-о-а одного очень короткого стиха А. Белого: “У окна” и видит, что <<по признаку “открытость - закрытость” они дадут последовательно градационное возрастание>> [2, 246]. В этих же фонемах этого же стиха он видит общность на шкалах “гласность - негласность” и “передний ряд - не передний ряд”. Видимо, ю-ё-я негласные, а у-о-а - гласные. “Э”, “ы” - фонемы заднего ряда, видимо. И тогда у-о-а, наверно, ближе к ряду переднему. В другом случае,- в ломоносовском стихе: “Он к Иову из тучи рек”,- “о” и “у” соотносятся с явно фонемами переднего ряда “и” и “е”. И в таком соседстве “о” и “у” называются Лотманом гласными заднего ряда [2, 246].Вот качества фонем, обнаруживающие свою изменчивость от близкого соседства с разными фонемами, и есть низкого уровня дифференциальные признаки фонем
.Это признаки малого, так сказать, радиуса действия: ощущаются они только на непосредственно соседствующих фонемах, когда те в подсознании выделены в ряд только гласных. Поэтому при фонологическом анализе - этом выведении подсознания в сознание - Лотман разбивает ряд гласных стиха на группы по три фонемы максимум.
2. А вообще-то в стихах есть более грубые вещи: повторяемость гласных, повторяемость групп гласных, нарушение ожидания уже наметившейся повторяемости. Они воспринимаются, сли можно так выразиться, едва-сознанием.
И вот Лотман рассматривает такую грубую фонологическую структуру следующего четверостишия:
Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
Не в фонологическом - в композиционном раккурсе это предварение трагедии.
Это первое утро Алеко в таборе. Вчера вечером Земфира привела его в табор, представила отцу как своего возлюбленного. Вчера вечером Алеко решил стать цыганом. Вчера он сделал радикальный поступок. И вот - наутро - смущен и боится разбираться почему. А Пушкин, уже отказывающийся от романтизма, а значит, и от радикализма, уже здесь подспудно внушает нам отрицание этих радикальных ценностей. Внушает и на не вполне осознаваемом (собственном, и нашем) уровне.
Лотман замечает в грубом фонологическом разборе, что в последнем стихе, к концу его, чередование разных гласных,- обычное явление, имевшее место и в первых трех стихах,- прекращается в пользу одной и той же четырежды повторенной “е”:
Истолковать себе не смел
и о о а е е е е
Теперь - его фонологическое наблюдение, так сказать, тонкое:
<<
Разбив гласные фонем в группы по три (это оправдывается еще и тем, что в данном тексте подобная граница почти везде будет совпадать со словоразделами), мы получим следующее:| у ы о | у о а | а е |
| [Уныло] | [юноша] | [глядел] |
| а о у | е у у | а и у |
| [На опу] | [стелую] | [равнину] |
| и у и | а у у | и и у |
| [И грусти] | [тайную] | [причину] |
Напомним, что в последнем - четвертом - стихе “у” не встречается вообще. Здесь же “у” встречается в самых различных сочетаниях (по качеству и порядку).
>> [2, 247].Перед нами,- как показывает и грубый и тонкий фонологический разбор,- едва осознаваемое столкновение двух качеств: разнообразия с однообразием. Качеств, перед этими стихами сталкивавшихся на уровне вполне сознательном: живописной картины проснувшегося и тронувшегося в путь табора - с воспоминанием о неживописной городской праздности. Смотрите:
...Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной
!Вот только то, что сознанием Алеко (ведь с его точки зрения описывалось утро в таборе как разноборазное) воспринималось оптимистически, будучи
обобщено до абстракции фонем разбираемого четверостишия едва-сознанием его оптимистически не оценивается. Что-то не так... Алеко еще не понимает, а автор уже наводит.В сознании героя главенствовала временна`я последовательность. От негативного однообразия в городе он пришел вследствие своего радикализма к позитивному разнообразию в таборе. В едва-сознании - обратная последовательность: за разнообразием сочетания разных гласных вокруг “у” пришло однообразие “е” и утрата главной фонемы (этой “у”). В смысле опасения: не окажется ли разнообразный, но все-таки быт, однообразным, когда новизна пройдет. И не покажется ли тончайшая и, казалось бы, однообразная духовная городская жизнь - разнообразной на грубом фоне.
Замечает же
Лотман еще и низкого уровня дифференциальные признаки фонем в первых трех разбираемых стихах, в том, что было (в городе), по сравнению с тем, что стало (в степи). Это уже, так сказать, тончайший фонологический разбор:<<
Если ... обратить внимание на то, что сочетание “о - у” активизирует признак открытости [“о” более открыто, чем “у”], “и - у” лабиализованности [округления губ], “е - у” - ряда [переднего - непереднего] и т. д., то станет очевидно, что в каждом из этих “у” актуализированы различные стороны...>> [2, 248].Так поскольку все это есть явно подсознательный - для автора - уровень, то именно на нем происходят и другие (увидите какие) перетасовки составляющих. Ведь <<
одновременное соединение... явлений в любой схеме... и приведение их в систему [иных] причинно-следственных отношений... составляют основу интуиции>> [1, 179].И вот во всей этой тонкости соотношений фонем: в столкновении неявно однообразной (а значит, позитивной) повторяемости “у” с явной однообразной (а значит, негативной) повторяемостью финальных “е”, в столкновении привычной (то есть негативной) повторяемости “у” с непривычным (т. е. позитивным) ее исчезновением, в столкновении тончайших (а значит, снова позитивных) переливов звучания гласных вокруг “у” с обрывом этих переливов (т. е. снова с негативом), - в общем, в чередующемся столкновении то позитивной, то негативной оценки одних и тех же звуков есть еще одна комбинаторная возможность, авторская - структурная, вневременная. Что если сталкиваются разнообразие с однообразием ради отрицания обоих,- как по Выготскому, ради третьего, катарсиса: ради отрицания самого радикализма перехода от одного к другому? - Тогда на подсознательном авторском уровне почувствуем идею целой поэмы: отрицание романтизма-радикализма.
Лотмана, конечно, не интересует художественный смысл столь тонкой фонологической структуры, вскрытой им самим (для него вскрывание структуры есть самоцель). Но меня-то - интересует. И, я думаю, этот интерес сто`ит проявить контрастно, что я и продемонстрировал.
Литература
1.
Абульханова-Славская К. А. Диалектика человеческой жизни. М., 1977.2.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.Написано в феврале 2002 г.
Зачитано в декабре 2002 г.
Возражения
Островская Н. К.:
Я не понимаю, зачем нужен такой доклад. Во-первых, что: получается, прочел несколько стихов, понял по звукам в них художественный смысл целой поэмы - и не надо читать
всю поэму!? Во-вторых, никто ж ничего на слух не воспринял. Да и вообще это какая-то лингвистика. Мы не специалисты в этой области. А ведь к нам приходят на комиссию и люди случайные. Надо не испугать их. Надо ориентироваться на их восприятие.
Реплика
Зная из предпоследних выступлений докладчицы об ее идее предопределенности, мол, для Пушкина случая в жизни и прямом отражении этой предопределенности случая в жизни в пушкинских творениях, в частности, - в “Повестях Белкина”, я собрал несколько наблюдений над текстом этих повестей, наблюдений, иллюстрирующих-таки предопределенность случая, но предопределенность не в жизни, а в этом пушкинском сочинении, жизнью не являющемся. Эти мои наблюдения иллюстрируют, в пику докладчице, не жизненную, а, так сказать, художественно-технологическую предопределенность случая. Всё, в том числе и случай, у Пушкина работает на художественный смысл цикла. И этот смысл состоит не в предопределенности случая.
*
Первая случайность, организованная Пушкиным в “Повестях Белкина”, есть то, что “ближайшей родственнице и наследнице” Белкина, Марье Алексеевне Трафилиной, “покойник вовсе не был... знаком”. Согласитесь, что такое не часто в жизни случается. Все-таки ближайшая родственница и наследница... Наверно, двоюродная сестра матери Белкина, Пелагеи Гавриловны, в девичестве тоже Трафилиной. Пусть Белкин 17-ти лет “вступил в службу в пехотный егерский полк”, а в таком полку, вечно меняющем место своей дислокации, двоюродной тете увидеть его было-таки невозможно. Однако и 17-ти предыдущих лет хватало, чтоб хоть однажды да познакомиться. Ан нет: “вовсе не был ей знаком”. Вовсе.
Зачем Пушкин организовал эту случайность?
Можно ответить в духе Бочарова, задавшегося вопросом, зачем - всего на две строчки - привлечен Пушкиным ямщик в “Станционном смотрителе”, увозивший Дуню с Минским. Ответ будет: чтоб увеличить количество лиц участвующих в повествовании.
Дух работы Бочарова заключается в обнаружении им (особенно хорошо это проиллюстрировано на “Станционном смотрителе”) двуединого принципа поэтики Пушкина. С одной стороны, Пушкин обеспечил рамочную,- так ее называет Бочаров,- систему повествования: рамка мальчика из финала, рамка Пушкина, перетянувшая бальзаковскую фразу для описания того, как видит смотритель Дуню, сидящую с Минским в ее комнате в Петербурге, рамка ямщика, увозившего их, рамка смотрителя, охватывающая и рамку Пушкина, и рамку ямщика, но отдельная от рамки мальчика, и т. д. С другой стороны, Пушкин обеспечил как бы размывание этих рамок: <<
один рассказ влился и смешался с другим>> [1, 167]. Бочаров тут ссылается на Виноградова, но выделяет курсивом виноградовские слова “слился” и “смешался”. Я бы применил слово “консонанс” - благозвучие в слиянии разных голосов.Это,- я бы назвал ее антислюсаревской (раз Слюсарь - фундатор психологической школы в изучении Пушкина) направленностью. Бочаров возражает на упреки об отсутствии психологической правды в том, например, что смотритель бальзаковскими глазами видит Дуню: <<
правда Пушкина, еще не психолога в более позднем смысле, обще`е и шире “психологической правды”... Поэтому так свободно, не нарушая единства рассказа, рядом со сверкающим авторским описанием помещена фраза, “закрытая” целиком кругозором и голосом персонажа: “Смотритель постоял, постоял - да и пошел”...>> [1, 169-170]. И так - всюду, во всех повестях. Слияние голосов нужно было Пушкину, слияние в консонанс. А для этого - как можно больше персонажей надо для каждого эпизода.Мог же издатель А. П. обратиться за сведениями о Белкине сразу к какому-нибудь соседу Белкина по имениям? Мог. Но тогда одним человеком стало бы в данных повестях меньше. А так - он полнее, этот <<
повествовательный МИР - в исконном русском значении живого людского сообщества, той коллективной субъективности, через которую в повествовании Пушкина проходят факты, предметы, события>> [1, 181-182 ].Марье Алексеевне Трафилиной, правда, далеко до того ямщика, которому одной строчки хватило и для проявления своеобразного (простонародного) голоса, и для определенной (объективной) точки зрения.
Однако и у Марьи Алексеевны имеется, пусть маленький, но позитивный вклад: она навела А. П. на такого соседа, который очень хорошо знал Белкина. Марья Алексеевна стала первой из того людского сообщества, в котором - по Пушкину - рождается правда, общая для всех. С нее начинается выражение консенсуса в сословном обществе, того художественного смысла цикла, ради которого он и был Пушкиным написан.
Можно сказать,- следуя за Бочаровым,- что даже Марья Алексеевна, имеет свой микроголос: “вовсе не был ей знаком”, а в то же время знает о дружбе Ивана Петровича с ненарадовцем. Резкая она и внимательная. Каким-то духом семейной вражды с Белкиными веет от нее. И это тем более явно, что от слов ненарадовца веет духом соседской дружбы. А то и другое, смешиваясь с духом занудности, какой веет от А. П., создает это парадоксальное слияние, о которой Бочаров сказал: <<
Но более всего замечательна та незаметность, с которой это происходит>> [1, 163].*
Следующая явная жизненная случайность - смерть родителей Белкина, “почти в одно время приключившаяся”
.Ну а это зачем Пушкину понадобилось?
Это понадобилось, чтоб создать сильный стимул Белкину уйти из армии (причем в 1823 году, за два года до выступления декабристов). Иначе Белкин с большой вероятностью (судя по проявившемуся далее по тексту народолюбию его), оставаясь в армии,- этой кузнице мятежных настроений,- оказался бы в числе декабристов, в числе наказанных. И ему бы в конце 20-х было не до собирания и записывания рассказов.
Пушкину же - для идеи консенсуса в сословном обществе - нужна была зародившаяся в армии продекабристская направленность Белкина. Чтоб и такая идейная позиция фигурировала в <<
коллективной субъективности>>. Вот он Белкина и изъял из армии вдруг и перед восстанием.Как естественнее всего было это сделать? - Умертвив обоих родителей “почти в одно время”
.*
Следующее, что “за нсслыханное чудо почесться может”: Белкин совсем не пил и был до какой-то чрезвычайности скромен с женщинами.
Так это в глазах старорежимного соседа является чудом. Для продекабриста же это правило. Лотман в своей работе “Декабрист в повседневной жизни” пишет о “спартанском” поведении в близких к декабристам кругах [2, 164], о “серьезном” ( в пику “игровому”, допускающему замену “правильного” поведения противоположным) отношении к жизни [2, 165]. Говорится даже о требовании <<
отказа от любви в жизни>> [2, 168]. Или: <<Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество>> [2, 171] заговорщиков.И бочаровский <<
повествовательный МИР>> в повестях как раз и требует контрастности голосов для приведения их к мечтаемому консонансному совместному звучанию: продекабрист из Горюхина со старорежимщиком из Ненарадова стали друзьями. Крайности - сходятся.*
Следующая случайность - смерть Белкина от простуды и горячки “на 30-м году от рождения”, достаточно ранняя все же, чтоб быть закономерной, а не случайной. Хоть она и объясняется неквалифицированностью уездного лекаря, “человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей...” Мог же быть в уезде лекарь и поискусней?
Но что было Пушкину делать, как не умертвить “автора” за 3 года до опубликования “его” повестей! Пушкин же вознамерился создать новую прозу: ввести в повествовательную норму разговорный язык (что, кстати, соответствовало его тогдашнему идеалу консенсуса в сословном обществе). И ему нужно было вывести эту новую прозу из-под критики своего личного врага, Булгарина, т. е. выпустить повести анонимно.
Вот он повести и выдал не своими, а белкинскими, себя - издателем, а автора - умертвил.
*
Следующий “нечаянный случай” в “Повестях Белкина” это ссора вспыльчивого недавно переведенного в полк офицера, еще не знающего привычек Сильвио за карточным столом, с самим Сильвио, не пожелавшим считаться с его неведением. Вернее, “нечаянный случай” есть даже не случайная, нелепая ссора, а отказ Сильвио вызвать обидчика на дуэль. Неожиданный для офицеров отказ, ибо на их взгляд Сильвио относился к тому типу людей, о котором молодым, недалеким повесам “и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость”. Тем более, что Сильвио был невероятно меткий стрелок.
Эта новая случайность такого же рода, как и “чудо” трезвенника и скромника продекабриста Белкина в глазах его консервативного соседа. Новая случайность так же закономерна (а не случайна) для Сильвио, как и трезвенничество для Белкина. Оба - люди прогрессивной породы, которые совсем непонятны тем, кто не дорос до них. Только если ненарадовский помещик и не подавал никаких надежд на рост, на изменение в прогрессивном направлении, то молодой человек, ставший впоследствии подполковником И. Л. П., в глазах Сильвио был не безнадежен - за “романическое воображение”, т. е. за неординарность, вообще-то закономерно приводившую в те годы самых больших удальцов в ряды продекабристов, каким Сильвио и стал сам, сначала бессознательно: возмутившись против бездумности прожигания жизни соперником-графом.
Для продекабриста Белкина была принципиально важна первоначальная ошибка насчет Сильвио со стороны еще недоразвитого И. Л. П., так и не развившегося впоследствии и в конце опять не понявшего Сильвио-повстанца.
Для продекабриста Белкина было важно оценить достаточно низко духовное развитие и молодого И. Л. П. и немолодого. В первом случае Белкин присоединяется к позднейшей иронической самооценке постаревшего И. Л. П.: “Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств...” В финальном для повести случае низость И. Л. П. для продекабриста Белкина проявилась в непонимающей холодности И. Л. П. к поступку Сильвио, ушедшему бороться за чужую свободу и погибшему зря, мол.
Для продекабриста Белкина была важна квалификация недоразвитыми И. Л. П., молодым и немолодым, поступков Сильвио в качестве необъяснимых случайностей.
А Пушкину,- в 1830 году самих продекабристов считавшему все-таки по-своему недоразвитыми,- Пушкину необходимо было отмежеваться от продекабриста Белкина (для чего оставить на его, Белкина, совести оттенок негативизма к И. Л. П., негативизма за то, что этот последний так ни разу и не понял Сильвио).
Так, без объявления, я разобрал еще одну случайность с Сильвио - его уход к повстанцам Ипсиланти.
А это именно случайность для И. Л. П. Так уж построено его повествование: подполковник представляет слушателю, Белкину, вдруг и совершенно не связанный со всем рассказанным им прежде факт, такой же неожиданный и необъяснимый, как когда-то неожидан и необъясним для храбрецов был отказ храброго Сильвио драться на дуэли.
Да и военный чин, с тех пор достигнутый И. Л. П., косвенно доказывает, что благонадежному офицеру, верно служащему своему царю и отечеству, странным должно показаться наемничество к восставшим против законного правительства Турции, с которой у России состояние мира и дипломатические отношения.
Так что поступок Сильвио для И. Л. П. - случайность. А в двойном изложении Белкина и Пушкина она модулируется опять в мечту о консенсусе. Во всяком случае трагический конец, вопреки холодности И. Л. П. и иронии над этой холодностью Белкина, не ощущается ни холодным, ни ироничным. И, конечно,- я не устаю это напоминать,- такой результат, результат модуляции холодности и иронии, нельзя процитировать.
Между рассмотренными двумя случайностями в “Выстреле” есть еще две, касающиеся жребия, кому стрелять первым в дуэлях между Сильвио и графом. Оба раза право первого выстрела было за Сильвио, оба раза он от него отказывался ради жребия, оба раза жребий выпадал графу. И в этом можно опять усмотреть авторскую волю Пушкина. Действительно, все, кроме него в воле жребия пассивны: Сильвио и граф просто рассказали то, что случилось, И. Л. П. и Белкин - пересказали то, что случилось. И лишь Пушкин был властен творить выбор жребия таким или иным.
И что ж Пушкин сотворил?
Сам рок как бы стоит словно на классовой позиции: привилегированному графу - все, безродному Сильвио - ничего. Так это затем, чтоб тем эффектнее была моральная победа безродного над знатным. Граф нравственно побежден и признает поражение. В этом есть залог какой-то осуществимости мечты о консенсусе в сословном обществе.
*
Следующая повесть, “Метель”, вся напичкана случайностями. Зато написана она не от первого лица, а от имени Белкина, и настолько вся пронизана его иронией, что это его отношение иррадиирует и на сами случайности. И так как их сумма складывается в очень благоприятный для героини повествования результат (она вышла замуж и за красивого, и за богатого, и за знатного,- гусарский полковник это немало,- и за модного, так сказать, за героя только что окончившейся победоносной Отечественной войны, и по любви, как ей кажется, - за Бурмина; и прежний возлюбленный-бедняк не мешает и не в накладе: Владимир погиб героем в этой войне),- так все немыслимо хорошо случилось для героини, что возникает подозрение, что к этим счастливым случайностям приложила руку мечтательная рассказчица, ровесница героини, девица К. И. Т.
А ирония Пушкина над ироничным Белкиным дает статус девичьим мечтам более авторитетный, чем если бы они звучали для нас просто из уст какой-то девицы К. И. Т. И этот статус - мечта о консенсусе в сословном обществе.
*
И так можно следовать от одной якобы жизненной случайности к другой по всему тексту “Повестей Белкина” и всюду находить объяснение этим якобы жизненным случайностям потребностями Пушкина-автора, потребностями, восходящими в конце концов к необходимости Пушкину выразить свой тогдашний идеал.
Должен признать, что мысль докладчицы о, мол, пушкинской предопределенности случая в чем-то схожа с общественным консенсусом.
Действительно, какого рода предопределение случая могло б быть в принципе? В драмах абсурда Ионеско - очень невеселое для обыденного сознания предопределение. В комедиях Тика,- для рассмотрения нашего вопроса более приемлемых хронологически, - тоже предопределение выглядит для обыденного сознания неважно [3, 53]. Но у кого они на памяти: Ионеско, Тик?! - Ни у кого.
Действительно, с предопределением привыкли связывать Божий промысел. У христиан он ведет - через все перипетии - к покаянию, прощению, воскресению мертвых и к Божьему царству всяческой гармонии. Чем не перекличка с безбожным общественным консенсусом?
Но согласитесь, что и разница - велика.
Пушкин в “Повестях Белкина” от иррационализма, мистики и религии далек. И я не принимаю мысли докладчицы о высшей справедливости случая у Пушкина, во всяком случае - в “Повестях Белкина”. Всё у него, повторяю, от идеи, от консенсуса. А так как мои мысли в данной аудитории обычно не воспринимаются, я закончу цитатой из Бочарова, словами “единство”, “барельефность” (в пику “горельефности”) называющего консенсус и консонанс:
<<
Преобладает чувство единства (и не просто “объективного”, безличного, внешнего единства совершенно разных лиц и субъектов, но объективно-субъективного, личного единства) всего этого внутреннего многообразия. Многообразие между тем поразительное, универсальное, многокрасочное, многоликое, разноречивое и противоречивое,- такое, которое мы, читая Пушкина, воспринимаем, не ощущая раздельности составляющих...>> [1, 205-206]Литература
1.
Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.2.
Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.3
. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.Написано в апреле 2002 г.
Зачитано в январе 2003 г.
Возражения
Мельникова В. П.:
А не противоречит ли продекабрист-удалец продекабристу-спартанцу (только не отвечайте словами “идейная эволюция”, “синусоида идеалов”)?
О художественном смысле первых
пушкинских сказок
Обычно замечают лишь то, что соответствует их ранее сложившемуся взгляду.
С. Э. Шноль
“Сказку о попе и о работнике его Балде” Пушкин писал летом и осенью 1830-го года. Он тогда исповедовал идеал консенсуса в сословном обществе, как я это доказал на “Повестях Белкина” [4, 84] и маленьких трагедиях [2, 50], написанных тогда же, болдинской осенью. И сказку эту, получается, Пушкин должен был сочинять, движимый тем же идеалом. А какой же он тот же, когда поп в итоге сходит с ума (от третьего щелчка Балды ему в лоб)? И не похоже, чтоб Балда что-то такое совсем уж не предвидел и хотел бы избежать. И через две строфы сказка кончается. И вообще, казалось бы, антагонистические противоречия тут между двумя сословиями: крестьян и духовенства,- если подходить к этому произведению серьезно, а к образам главных героев - расширительно. Балда, мол, олицетворяет стремление крестьян к свободе, поп - стремление духовенства к эксплуатации.
И все-таки есть возможность осуществить некоторые попытки доказать, казалось бы, недоказуемое.
Во-первых, выбор типа сказки. <<
То, что из всех сказок няни Пушкин остановился именно на этой, само по себе весьма знаменательно. Остальные шесть записанных поэтом сказок относятся к разряду так называемых волшебных. Сказка о Балде, по существу, бытовая и, главное, резко сатирическая (от волшебного в обработке ее Пушкиным остался лишь комический эпизод со сбором Балдой оброка с чертей). Поп - один из исконных объектов народной сатиры>> [1, 535],- пишет Благой и, похоже, очень верно пишет.Так по принципу Выготского поэту, избирающему путь наибольшего сопротивления для выражения рвущегося из него,- полуосознаваемого, наверно,- пафоса консенсуса в сословном обществе как раз народная сатира на некрестьян и нужна. А волшебные сказки из числа остальных няниных пяти, далеких от социальной проблематики, как раз и не нужны.
Точно по той же логике <<
в своей обработке [записи няниной сказки] Пушкин совершенно отбрасывает вторую ее часть (после расплаты с попом Балда появляется у царя и изгоняет беса из царской дочери), уводящую в сторону от главного сюжета и ослабляющую острую социальную направленность сказки>> [1, 535].Теперь порассуждаем.
Перед нами сказка. Какие в ней необычности (за исключением эпизода с чертями) по отношению к социальной действительности?
Мне вспоминаются,- когда дело в СССР пошло к реставрации капитализма,- сатирические выпады передовых, так называемых демократов из Прибалтики, против отсталых, так называемых совков из России: “Русские ж не любят работать. Посмотрите на их сказки. Кто в них главный герой? - Иван-дурак. Что он делает? - Лежит на печи. О чем он мечтает? - О скатерти самобранке. О топоре, самом рубящем дрова. Даже передвигаться русский любит без труда - чтоб печь его везла сама”. Это связывалось с многовековой крепостной зависимостью, в мечтах отлучавшей от работы на барина да и от работы вообще, как не приводящей к достатку в своем доме. Это же виделось и в том социализме, что не выдержал соревнования с капитализмом по производительности труда. Преимущество прибалтов перед остальными жителями СССР виделось в том, что в Прибалтике советская власть была на 30 лет моложе и не успела еще вытравить появившееся при капитализме трудолюбие, характерное для общества свободной конкуренции.
А пушкинский Балда за полтора века до того уже оказался предельно трудолюбивым, как будто его предки веками жили в атмосфере конкуренции. Это, конечно, невероятность, вполне годящаяся для сказки. К тому ж он еще и не крепостной, вправе распоряжаться собою. Вон - нанялся к попу в услужение не менее, чем на год. И - все одно к одному - абсолютно неприкаянный этот Балда:
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
Поп представляется более реалистичным. Особенно, если вспомнить пушкинские же слова восьмилетней давности,- еще в бытность его продекабристом,- слова настолько взвешенные и государственно мудрые, что он бы от них не отказался и в 30-м году: <<Е
катерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но, лишив его независимого состояния... она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии...>> [5, 709]Это как теперь с учителями-бюджетниками и с отношением к культуре и народному образованию в деревнях. Разве только до народного презрения еще не успело дойти. Но дойдет. Учительство станет там прибежищем неудачников и - фанатиков культуры, что будет считаться одним и тем же. И только природными дураками нельзя будет их считать.
А Пушкин своего попа - выводит именно дураком. И тем и его делает исключительным и пригодным для сказки.
Так вот, когда до очень нехорошего доходит в отношениях столь сказочно невероятных представителей сословий: неприкаянного Балды и идиотического попа, - тогда ясно становится, что у несказочных вполне мыслимо, что может дойти до противоположного - до общественного консенсуса.
А это - мечта, схожая с верой в царство Божие. И тем она глубоко созвучна народным мечтаниям, отражавшимся и в сказках тоже. И в том-то и состоит в данной сказке вся глубина народности, достигнутая здесь Пушкиным. А не - в народности слога и слов.
Слог и слова внешне народны были еще у пятнадцатилетнего поэта в его сказочном “Бове”. Но там он насмехался надо всем [3, 74], в том числе и над народом, отказавшимся от шанса освободиться от крепостничества, воспользовавшись обещанием Наполеона. И то его сочинение народно-сказочным быть названо не может.
Слог и слова во многих местах внешне народны были еще в сказочной поэме “Руслан и Людмила”. Но там они нужны были как контраст постоянному вмешательству рассказчка-современника с его комментарием сказочных событий [6, 55], контраст ради отражения вольнодумных взглядов автора. И в результате там тоже еще нет народной сказочности.
“Простонародными сказками” назвал сам Пушкин при публикации “Жениха” (1825 года) и “Утопленника” (1828). И Благой даже обижался, что не была учтена воля Пушкина в подготовке собраний его сочинений и не помещены они в раздел сказок, что <<
скрывает от наших глаз всю сложную и длительную историю постепенного становления в пушкинской поэзии народно-сказочного жанра>> [1, 562]. Но что делать, если все-таки это не сказки: “Жених” и “Утопленник”. Ничего сверхъестественного в них нет. Страшное - есть, таинственное - есть. Но все это разъяснено очень просто. Даже в “Утопленнике”, где днем непохороненный крестьянином труп явился к нему ночью под окно. Якобы явился. А на самом деле, авторски не пряча этого, выведена галлюцинация мучимого совестью человека. И - рождение в народе суеверной молвы (о якобы повторяющихся посещениях обиженного к обидевшему в каждую годовщину обиды), а также - народной приметы (о ежегодном же ухудшении погоды в тот день). Так что - при всей народности там слога, слов и даже духа - нельзя и их признать достижением в области народно-сказочного жанра.Даже вступление 1828-го года к “Руслану и Людмиле”, знаменитое “У лукоморья дуб зеленый”, и то не может быть названо сказкой во вполне народном духе, ибо это не сказка, а экстракт сказок, которые,- по словам Горького,- “чудесно сжаты в одну”.
И даже “Сказка о медведихе”, видимо, той же болдинской осенью писанная (кстати, со знаменательной попыткой найти общее представителям всех сословий - общее в сочувствии в горе) не удалась, хоть и народность слога и слов тут была, и нечто подобное народной мечте о соборности. Пушкин - видно, подсознательно - поймал себя на том, что “в лоб” иллюстрирует свое сокровенное и - прекратил работу.
То ли дело в “Сказке о попе...”Тут-таки и сказка, и народная, и обиняком выражено сокровенное.
И - как результат - Пушкину незачем тут улучшать строение своих стихов по сравнению с истинно народными произведениями. <<
Не упорядоченный ни в количественном, ни в метрическом отношении стих раешника, неуклюжих топорных виршей “забавных листов” с его однообразной рифмовкой (одни парные рифмы, обилие “бедных” глагольных рифм) является одной из самых примитивных форм стихотворной речи>> [1, 540], а Пушкин ее применяет. Применяет, чтоб истинно народная форма соответствовала глубоко народной идее, а не носила бы столь распространившийся книжно-литературный характер.<<
Однако именно вследствие своего исключительно смелого новаторского характера пушкинская сказка не встретила понимания и должной оценки>> [1, 543],- пишет Благой. Не оценил ее ни Полевой, ни Кольцов,- сам выходец из простого народа,- ни даже Белинский. Благой это объясняет тогдашним этапом развития общественного сознания, еще не перешедшим в этап революционно-демократический [1, 544] в 1840 году, когда сказка была впервые опубликована.А в 1840-м сказку не могли понять и оценить хотя бы потому, что в ней тогда поп был Жуковским заменен купцом Остолопом. И правда: разве касались тогда глубинного содержания народной жизни отношения крестьянства и купечества? - Нет.
Да и после возвращения попа в текст, после 1881 года, не было, как и сейчас, впрочем, принято видеть художественный смысл вещи как бы между ее строк, в не поддающейся цитированию субстанции.
Литература
1.
Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826 - 1830). М., 1967.2.
Воложин С. И. Беспощадный Пушкин. Одесса, 1999.3.
Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы... Одесса, 1999.4.
Воложин С. И. Понимаете ли вы Пушкина? Одесса, 1998.5.
Пушкин А. С. Сочинения. М., 1949.6.
Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.Написано в мае 2002 г.
Недозачитано в январе 2003 г.
Конец первой интернет-части книги “О сколько нам открытий чудных…”
| Ко второй интернет- части книги |
К третьей интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |