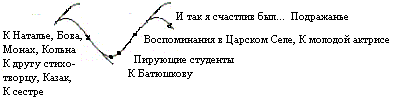
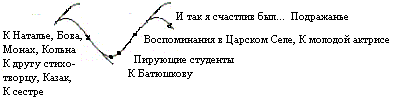
С. Воложин
Пушкин. Измененяющийся
художественный смысл (катарсис от противочувствия) в первых стихотворениях
| Синусоида идеалов – образ изменяющегося художественного смысла в первых стихотворениях Пушкина, если осознать катарсис от противочувствия из-за противоречивых элементов стихов. |
Вторая интернет-часть книги
“Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы…”
ПЕРВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПУШКИНА
Сначала я шалил,
Шутя стихи кроил...
“К Дельвигу” 1815г.
ПЕРВОЕ
“Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии...”-
Писал о Пушкине в 1816 году Е. А. Энгельгардт, очередной директор лицея. И, конечно, ошибался. Но если б отнести это мнение к Пушкину более раннему...1813-м годом датируют первые дошедшие до нас пушкинские сочинения: стихотворение “К Наталье” и поэму “Монах”. В “Монахе” Пушкин кое о чем пишет так, что если понимать стихи в лоб, буквально, то можно подумать, что он уже не мальчик, и что замешана в этом некая Наталья. Судите сами:
Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.
Иль, как Филон, за Хлоей побежав,
. . . . . . . . . . . . . . . .
С ней на траву душистую валится,
И пламенна, дрожащая рука
Счастливого любовью пастуха
Тебя за край тихонько поднимает...
Она ему взор томный осклабляет.
И он... но нет; не смею продолжать.
Я трепещу, и сердце сильно бьется,
И, может быть, читатели, как знать?
И ваша кровь с стремленьем страсти льется.
Но наш монах о юбке рассуждал
Не так, как я (я молод, не пострижен
И счастием нимало не обижен).
Что это за Наталья, которая не обидела автора счастьем? Смотрим самое первое известное пушкинское стихотворение - “К Наталье”:
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце - Купидон!
Естественно связать одну Наталью с другою.
Комментаторы считают стихотворение “К Наталье” обращенным к крепостной актрисе театра графа Толстого в Царском Селе. И если они правы, а также если правильно датирование и “Монаха” и “К Наталье” (1813 годом), то возникает предположение, что отрок Пушкин просто вообразил себя мужчиной и с такой точки зрения написал и стихотворение и поэму. Вообразил, ибо в 1813 году он не то что прелести, а и саму Наталью мог видеть только очень и очень издали, в парке и из строя лицеистов.
Действительно, читаем Томашевского:
“Годы 1816-1817 принадлежат уже к новому периоду в лицейском творчестве Пушкина. Ряд существенных обстоятельств дал новое направление его лирике. В эти годы Пушкин уже не мальчик... Он уже смотрел на мир другими глазами. Изменился самый быт Лицея особенно после того, как директором, в феврале 1816 г., был назначен Энгельгардт. Вот что мы читаем в записках Корфа: “И в самом Царском Селе, в первые три или четыре года, нас не выпускали порознь даже из стен лицея, так что когда приезжали родители или родственники, то их заставили сидеть с нами в общей зале или, при прогулках, бегать по саду за нашими рядами. Инспектор и гувернеры считались лучшею, нежели родители, стражею для наших нравов... После все переменилось, и в свободное время мы ходили не только к Тепперу и в другие почтенные дома, но и в кондитерскую Амбиеля, а также по гусарам, сперва в одни праздники и по билетам, а потом и в будни, без всякого уже спроса, даже без ведома наших приставников, возвращались иногда в глубокую ночь. Думаю, что иные пропадали и на целую ночь... Маленький тринкгельд швейцару мирил все дело, потому что гувернеры и дядьки все давно уже спали”.”
Причем дядек было столько, сколько лицеистов, и каждый спал в той же персональной каморке, что выделялась каждому лицеисту! Но дядьки все поголовно спали в одиночестве. Значит, им стало это разрешено. Каково ж было до 1816-го года, до энгельгардтовых послаблений? - Что-то вроде монастыря.
Так что все кудрявое в 1813 году Пушкин выдумал. Да вот у поэта выдумки поважнее яви.
Большинством признано, что Пушкин начинал свое поприще в стиле рококо. Но забывается, что рококо это не только поэзия минуты, не только культ наслаждений, не только сцены наивности и невинности, легко уживающиеся с фривольностью, но что рококо это еще и скептицизм, что это время расцвета эпиграмм и карикатур. А для скептицизма, нужно иметь не только острый глаз и перо, но и холодное сердце, не увлекающееся ничем в особенности, чтоб замечать все и позволять себе - тоже все.
Для отрока, только еще вступающего в жизнь в искусстве, это и вовсе естественная позиция: глаза и уши, широко открыты “всем впечатленьям”, только не “бытия”, а у
`же - разговорам о жизни и чтению книг (потому что от бытия тринадцатилетний Пушкин был огражден изрядно суровым режимом лицея). А еще в его распоряжении было собственное воображение. Инструментом же исследования этой псевдодействительности была его собственная душа. И результатом - собственное произведение.Сочиняя, Пушкин осуществлял как бы незаинтересованное, непредвзятое исследование чужих и своих вымыслов и рассказов. Потому, может, он создавал - путем бесчисленных поправок. Он искал
правду. Это был уже некий реализм, в чем-то сохранившийся на всю жизнь. Бестенденциозный и беспощадный реализм. В чем-то прав был Белинский, написавший про Пушкина вообще такие слова: “Он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине”. В чем-то прав. Потому - в чем-то, что Пушкин много раз изменялся. И когда отходил от широко понимаемого реализма - приведенные слова характеризовали его неправильно. Но он опять и опять возвращался к реализму, понимаемому широко (ведь свой реализм есть и у классицизма, и у предшествующих, и у последующих больших стилей). И обобщающие слова великого критика опять и опять оказывались приложимыми к великому поэту. Вот и такие: “Он... на все смотрит с любовью и благословением”, - как бы развивающие слова, приведенные выше,- если их превратить, оставив бестенденциозными, в свою противоположность, то и тогда они охарактеризуют отрока Пушкина: он на все смотрит со скептицизмом и насмешкою, столь свойственной рококо.Давайте посмотрим, как это проявляется.
Первое дошедшее до нас произведение - “К Наталье” - поначалу кажется банально эротическим:
...Вижу, в легком одеянье
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи -
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...
Так и кажется, что хулиганистый мальчишка назло воспитателям выбирает материалом поэзии ультранедозволенное. К тому ж это удовлетворяет естественным и низменным пробуждающимся интересам его самого и товарищей-одногодков. И, кажется, он пошел путем соискания дешевой и низкопробной славы. Однако...
Он оборвал описание:
И проснулся...
Давайте задумаемся: зачем он оборвал? Ведь сверстникам было чрезвычайно любопытно, что дальше.
А он не только оборвал, но и поиздевался над сексуальной озабоченностью своего героя-подростка, хотя бы уже в силу возраста (не говоря уж об обстоятельствах) не способного - и не его вина - решить проблему нормальным порядком. Свой над своим не поиздевался бы. Перед нами не шалун, а “автор”, “новоявленный мужчина”, который уже “счастием нимало не обижен”. И он почти беспощаден к герою и дальше делает по отношению к тому кое-что и похуже: почти описывает, как тот самоудовлетворяется:
И проснулся... вижу мрак
Вкруг постели одинокой!
Испускаю вздох глубокий,
Сон ленивый, томноокий
Отлетает на крылах.
Страсть сильнее становится,
И, любовью утомясь,
Я слабею всякий час.
Это ж намеки на детский грех. Такой язвительностью товарищей скорей испугаешь, чем приобретешь у них славу умельца ублажить сверстников эротическими сценами.
Так что уже по этим строкам видим, что перед нами совсем не мальчишеское стихотворение. “Автор”, каким его выводит в стихотворении Пушкин, хоть и очень смел, но не до последней крайности. И амортизирует еще большие крайности, притягивающие его героя хотя бы вследствие все той же неудовлетворяемой сексуальной озабоченности. Вот почему “автор” оборвал рассказ героя о своем видении, вот почему сделал эротическую сцену прервавшимся сном.
Все и психологически обосновано. Когда ж соблазнительным картинам и попадать-то в сны? - Когда любовное томление не изжито в реальности. Или вот: можно ли пережить во сне то, что абсолютно неведомо было наяву? - Нельзя. Вот сон и оборвался.
Это, если хотите, уже некое завоевание некого реализма как исследования действительности, пусть и воображаемой.
Но кроме того здесь присутствует замаскированная под психологизм воля, воля более, чем герой, уравновешенного “автора”: оголтелого подростка надо останавливать!
И не зря “автор” дал герою пощечину (намек на детский грех). Это холодный душ зарвавшемуся птенчику.
Да птенчик и вообще непригляден. И ничего-то святого нет - так уж “автор” беспощаден - в описании переживаний этого птенчика. Смотрите, как начались они?
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце - Купидон!
Весомо, грубо, зримо... Через три года, в 1816-м, лицеистам будет разрешено ходить в театр, а графом Толстым будет позволено в театре ходить за кулисы, в уборные к актрисам. Те там переодеваются... А еще в 1813-м Пушкин это уже предвидит. И не удивительно. Он еще раньше - еще дома, где на него не обращали внимания и потому ничего не скрывали - знал, что такое актрисы. Ничего духовного, связанного со словом “театр”. Наоборот. Актрисы считались доступными женщинами, провоцирующими на разнузданность. И вот теперь, разгоряченный актрисою, но вынужденный воздерживаться, герой его стихотворения хочет хотя бы словами облегчиться:
Все к чему-то ум стремится...
А к чему? - никто из нас
Дамам вслух того не скажет,
А уж так и сяк размажет.
Я - по-свойски объяснюсь.
Можно тихо испугаться: что ж предстоит прочесть далее? Не дошел бы раззадоренный герой до табуированной речи.
Но не тут-то было. Дальше мы читаем слова как бы другого человека. Приведенный “автором” в чувство герой стихотворения начинает воображать себя и милую героями представлений, даваемых со сцены: персонажем из оперы Аблесимова, из комедии Бомарше,- то есть представлять себя не в такой уж крайности, как ранее:
Завернувшись балахоном,
С хватской шапкой набекрень
[маскируясь, подвергаясь опасности]
Я хотел бы Филимоном...
В следующей воображаемой сцене препятствия любви еще более осложняются: “он” - старик. Как он может расчитывать на взаимность!?.
Иль седым Опекуном
Легкой, миленькой Розины,
Старым пасынком судьбины,
В епанче и с париком,
Дерзкой пламенной рукою
Белоснежну, полну грудь...
Фантазия отрока Пушкина блестяще проникла в самую суть рококо. Ведь это скучно, когда все - достижимо. Идеал рококо: счастье - сегодня и беспрепятственно. Но рококо и боится собственного идеала: за удовлетворением ведь следует охлаждение. Рококо как бы нервно озирается: как бы это - чтоб и речку перейти и сухим остаться. Чтоб и беспрепятственно в принципе, но и с какими-то препятствиями...
Все любовники желают
И того, чего не знают...
“Автор”, только-только еще ставши мужчиною, уже летит воображением дальше: как отодвинуть охлаждение? И,- как требует глубоко познанное рококо, - егозит, нервничает... И, как требует само искусство, - кидается в противоположности, вызывая в нас,- совсем по Выготскому, открывшему психологический принцип художественности,- сочувствие и противочувствие.
Смотрите. Это идет с самого начала стихотворения и до самого конца.
Вот - проблема:
Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь - и я влюблен!
Следом - беспроблемность:
Пролетело счастья время,
Как любви не зная бремя,
Я живал да попевал... и т. д.
Следом - опять проблема:
Но напрасно я смеялся,
Наконец и сам попался,
Сам, увы! с ума сошел...
Проблема разрешается:
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею...
И все рушится:
И проснулся...
А потом опять решается: детским грехом, намерением сказать такое!..
Но... вместо такого - пошли ассоциации с театральными сценами, все более проблемными относительно решения любовной коллизии.
Да и там: только лишь воображение доходит слишком далеко - до удовлетворения,- как оно обрывается чем-то сверхпроблемным:
Белоснежну, полну грудь...
Я желал бы... да ногою
Моря не перешагнуть,
И, хоть по уши влюбленный,
Но с тобою разлученный,
Всей надежды я лишен.
В чем дело? - Ответ начинается - хоть и через “не” - с очень беспроблемных перечислений:
Не владелец я Сераля,
Не арап, не турок я,
[те гаремы имеют]
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя...
[лаской или силою те себе женщину достанут].
И так далее - беспроблемность.
А оканчивается стихотворение колоссальной проблемой: признанием героя, что он монах.
Это опять прорвался голос экстремистского птенчика. И вообще-то: поминать церковь всуе - почти как и Бога - неприлично. А тут - еще и с издевательством:
Взглянь на стены возвышенны,
Где безмолвья вечный мрак;
Взглянь на окна загражденны,
На лампады там зажженны...
Знай, Наталья! - я... монах!
Мол, не внутренняя цельность, не крепость духа удерживает монахов от мирских соблазнов, а тюремное устройство монастырских построек.
Такой уклон, в первый миг, принимают наши ассоциации еще и из-за полнейшей фривольности героя и из-за уже привычности нападок на духовенство, длившихся в течение всего века Просвещения. Мелькает мысль: не едкая ли сатира тут на лицемерие общества и на институт монастырей, как на яркое проявление лживости?
Но тут вас озадачивает другая мысль - что “автор” и здесь устроил подвох своему герою. Тот же не может быть монахом, ведя вполне мирской образ жизни (вернитесь к началу стихотворения):
...Как любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль воксалах
Легким зефиром летал...
И что-то не видно, чтоб в обстоятельствах места и действия у птенчика случались перемены:
Как, смеясь во зло Амуру,
Я писал карикатуру
На любезный женский пол;
Но напрасно я смеялся,
Наконец, и сам попался,
Сам, увы! сума сошел [увидев прелести Натальи]
.Неуклюже получилось.
У кого: у героя, или у “автора”?
У обоих.
Но в биографии того, кто породил и образ автора, и образ героя, изменение места жительства и образа жизни таки случилось...
Смехи, вольность - все под лавку...
Родительский дом, где кроме няни его никто не любил, но зато и не обращал внимания, обеспечивая вольность,- сменился полутюрьмой лицея.
И тогда вас озаряет, что “монах” это литературное сравнение. Очень емкое. Вместе со своей неуклюжестью выводящее из тупика изящества стиля рококо.
Речь идет об уже упоминавшемся тайном изъяне идеала рококо - о скуке и пошлости, когда все достижимо. А именно вседостижимым становится любой, доселе недозволенный, неприличный, эротический мотив, будучи облагорожен изяществом, проявлением чувства меры, этого родового признака классицизма, распространяющегося и на такой вид классицизма, как рококо.
Рококо в неуемном “ерзаньи” этого пушкинского стихотворения от удовлетворенности к неудовлетворению и наоборот проявило все три свои исторические тенденции: выхолоститься в эпигонском изяществе и недейственноственности (позиция “автора”), превратиться в нечто раскованно-демоническое (позиция героя), как, например, в оссиановской традиции, и, наконец, преобразиться в противоположную крайность, можно сказать, в нечто истошно-нравоучительное, как в философских повестях Вольтера, писанных после его второго спуска в рококо.
Это при первом своем появлении в рококо Вольтер абсолютизировал сладострастие:
“Истинная мудрость в том, чтобы избегать грусти в объятиях наслаждения” (1715 г.); “Удовольствие есть предмет, долг и цель всех разумных существ” (1716 г.). Но после того, как он залетал в просветительский классицизм “Генриады” с ее идеалом просвещенной монархии (1728 г.), - в, так сказать, вторичном рококо его “Орлеанской девственницы” (после 1730 г.),- Вольтер уже с подвохом сочувствует, например, сладострастному французскому королю:...Сраженных горы каждый миг растут,
Британцы делают из них редут;
К нему бросаются герои наши.
В кровавой и ужасной этой каше
Король сказал: “Мой милый Дюнуа,
Скажите мне, скажите, где она?”
“Кто?”- Дюнуа спросил. “Она ушла,-
Твердил король,- увы, что с нею стало?”
“С кем?” - ”Нет ее! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Бог мой...
Ее сегодня не было со мной...”
“Ее найдем мы”,- молвила Иоанна.
“О боже, сохрани,- король просил,-
Агнесу верной мне!” - и наносил
Удары англичанам неустанно.
Это о чем говорят в пылу боя! И слышат друг друга! И кто: французский король и Жанна д`Арк, взявшиеся спасти Францию от английского нашествия!.. - Издевательская нелепость? - Ими переполнена “Орлеанская девственница”. Таков жанр: сатирическая поэма. Вольтер в ней издевается над лицемерным аскетизмом духовенства и официальной идеологией всего общества, этим духовенством пестуемого (впрочем, как видим, достается и естественному, как трава, королю Франции). А сарказму - все позволено.
Позже, когда Вольтер вернулся к высокому просветительскому классицизму, его сарказм уже не считался с жанрами и внедрялся повсеместно.
Вот и Пушкин,- глядя на Вольтера, еще психологически точного во фривольности, но уже не стесняющего себя правдоподобием в остальном, - вот и Пушкин решился на неуклюжесть внезапного сравнения лицеиста с монахом. Сарказму все позволено.
И сарказм направлен не только и не столько на вдруг явившегося монаха, а на все время тут извивавшееся рококо: вот, мол, выход - лицемерный монах. Он никогда не совершит грешный поступок, зато навсегда останется неудовлетворенным и вожделеющим Натальи. Всегда! Это издевательство над рококо.
И это катарсис. Это то (может, и не вполне осознаваемое), что вдохновило Пушкина на сочинение данного стихотворения - его художественный смысл. И его нельзя процитировать. Если б художественный смысл можно было процитировать - зачем бы тогда существовать всему остальному произведению? Пушкин (да и любой художник) не был бы поэтом, если б мог выражаться в лоб. В поэте творит весь организм, включая и подсознание, а не только сознание. Даже когда творит - уж куда больший апологет рационализма - классицист. А иначе поэт был бы рифмоплет, иллюстратор уже готовой мысли, и тут не было бы искусства. В произведении же искусства художественный смысл его не дан заранее ни творцу, ни читателю. Поэту он задан неопределенным вдохновением, которое побуждает себя определить, выразить путем сотворения целого произведения, не меньше. Читателю же художественный смысл нужно сотворить, опираясь тоже на целое произведение, а не на цитату. В цитате художественный смысл есть лишь постольку, поскольку его можно вывести из почти любого элемента произведения. Вывести - из противоречивых подэлементов, но не прочесть напрямую.
Не потерявший еще невинности герой тянет в экстрему эротического удовлетворения, умудренный “автор” - его подсекает и высмеивает. Третьего, вроде, нет. Процитировать нельзя. А воспаряя, сверху - озаряет и видно это третье.
Правда, в эпиграфах обычно дается суть произведения или намек на нее, какой ее автор осознает. Стихотворение “К Наталье” имеет следующий эпиграф (в переводе с французского):
К чему мне скрывать это?
Марго мне приглянулась.
В смысле - обычное дело: пришел - увидел - победил, и никаких проблем. Я - одна точка, приглянувшаяся Марго - другая; проводим через две точки кратчайшую линию - прямую. И все. Скука. А нижеследующее, стихотворение, дает “рецепт”, как ее преодолеть раз и навсегда.
Итак, стихотворение “К Наталье” только по видимости эротическое, представитель “легкой поэзии”, рококо. А по сути - едва ли не наоборот: насмешка над рококо.
Раз осмеяв его, Пушкин вполне был способен написать сколько угодно по-настоящему эротических, гедонистических стихов. Они, эти - по выражению Томашевского -
“холодные имитации мифологических эпизодов”, его больше не трогают. “Он не принадлежит исключительно ни к какому учению...” “Его сердце холодно...” В 1813-м, -14-м годах, а может, где-то и в 15-м.ВТОРОЕ
Точка зрения насмешки над рококо с его легкодостижимым идеалом, видимо, подала отроку Пушкину мысль в другой раз посмеяться над, вроде бы, противоположного толка литературой - аскетической.
Там же разные есть произведения. Есть ригористические, фундаменталистские, сочиненные страстными и красноречивыми авторами-фанатиками. Но есть и проникнутые народным здравым смыслом, “очеловеченные”. Последние для такого насмешника, как Пушкин, были что ослабевшая зебра для льва. И он взялся за расправу.
Для нее он выбрал вторую часть жития Иоанна Новгородского. Все оно состоит как бы из двух частей: возвышенной и сниженной.
В первой части Иоанн иконой творит чудо спасения Новгорода от осады войсками коалиции семидесяти двух князей с суздальским князем Андреем во главе. А во второй он покоряет черта, беспокоившего Иоанна шумом в рукомойнике. Черт откупился тем, что в одну ночь доставил Иоанна в престижный, как теперь говорят, Иерусалим и обратно. Впрочем, черт из этого факта сделал ловушку. Сможет разве даже праведник не соблазниться и не похвастать такой своей победой? - Нет,- рассчитал черт и пообещал Иоанну, что опозорит его, если тот похвастается. Иоанн похвастал, не назвав, правда, имени победителя. Тогда черт приступил к мести: приходящие к Иоанну в келью люди стали видеть там женскую обувь, одежду, украшения, а раз увидели выбегавшую оттуда девицу. Новгородцы сочли Иоанна за блудника и посадили его на плот, чтобы сплавить его от себя. Но случилось чудо. Плот поплыл вверх по течению. И все поняли, что ошиблись и покаялись.
Вторая часть явно снижена, и поведение праведника, мягко говоря, сомнительно. Все же он вступил в соглашение с чертом - эта поездка. Все же он проявил тщеславие - болтал. И почему-то сошло ему все...
Тут и про первую часть, впрочем, вспоминаешь, что нет там подвигов победы над плотью, какие есть в аскетических житиях. Например, Феодосий Печерский, и до пострижения и после занимался непрекращающимися изобретениями казней для своего тела. Пояс железный одел, чтоб тот его тело царапал до крови; ночью летом выходил из пещеры и, обнажив до пояса тело,- чтоб его жалили тучи оводов и комаров,- прял и пел стихи из псалтыря; в иное время года все ночи проводил в молитвах и поклонах с ударами головой о землю. И не напоказ все это. Просто монахи подсмотрели и подслушали. В житии Иоанна Новгородского ничего такого нет, тот даже считал (и не зря, может) себя недостойным избрания архиепископом. Постился и молился. И все. Ну, церковь за свои деньги построил... - Не впечатляет!
Зато Пушкина вдохновило.
И родилось второе дошедшее до нас пушкинское произведение - поэма “Монах”.
Считается, что ее Пушкин не кончил.
Сомнительно, судя по вступительному четверостишию:
Хочу воспеть, как дух нечистый ада
Оседлан был брадатым стариком,
Как овладел он черным клобуком,
Как он втолкнул монаха грешных в стадо.
Это - в сжатом виде - все, что сочинено (и дошло до нас).
И замечательна двойственность финала этой поэмы:
Лети, старик, сев на плеча Молока,
Толкай его и в зад и под бока,
Лети, спеши в священный град востока,
Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка.
Здесь победа и поражение слиты воедино. О поражении поговорим потом. А сейчас займемся победой.
Она заключена в торжестве достижимости идеала. Только такой идеал и понимает “я”, “автор”-рассказчик, приверженец сниженного и легкодостижимого идеала рококо. И этот “автор” по ходу повествования то и дело похваливает своего героя, монаха, за умение достигать цели (самодостаточной, праведной жизни) путем создания себе препятствий, но небольших - как поступает и сам “автор” в своей жизни.
Каков поклонник рококо? Ему хочется и чтоб удовольствие - немедленно, и чтоб какое-то минимальное препятствие удовольствию тоже было. Например, уже цитировавшийся гимн юбке. Он начинается знаменательными словами:
Огню любви единственна преграда...
Выделено - мною. Видите: и преграда есть, и ее почти нет.
Знаменательно и вступление к поэме - призыв “автора” к тени Вольтера:
Певец любви, фернейский старичок,
К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь.
Куда, скажи, девался твой смычок,
Которым я в Жан д`Арке восхищаюсь... и т. д.
Речь идет об “Орлеанской девственнице”, где на каждом шагу происходят эротические сцены, хоть речь, вроде бы, об освободительной войне Франции против оккупировавшей ее Англии.
Причем одно к другому у Вольтера? В огороде бузина, а в Киеве дядька?.. Нет! Воюя против поповской полуволшебной версии этой освободительной войны, вдохновленной совсем не личными мотивами, а возмущением народа и его предводительницы, Жанны д`Арк, Вольтер полемически и ехидно дает свою шутливо-волшебную версию, наполненную сексуальными домогательствами своих героев, главных и второстепенных. И в ходе этой мелкой возни, мол, вершится история. И надо всем у Вольтера царствуют препятствия эротике, но такие, которые немедленно удовлетворяются. Следом, также немедленно (и разнообразно) возникают новые домогательства и - новые удовлетворения, самым невероятным и остроумным путем. Тем более изящные в невероятности, что ради сарказма же все - допустимо. Вот Вольтер и вытворяет чудеса. А мы приемлем и смеемся.
Казалось бы, кому как не новому приверженцу рококо - пушкинскому “автору” - вручить тени Вольтера свой смычок?
Но мы помним по предыдущему экскурсу в “Орлеанскую девственницу” Вольтера, что его вторичное рококо не такое простое. Тень Вольтера чует, что “автор” здесь ему не чета. И как реагирует тень?
...Но дай лишь мне твою златую лиру,
Я буду с ней всему известен миру.
Ты хмуришься и говоришь: не дам.
Тень Вольтера предчувствует, что пустоватый “автор” хочет здесь хвалить церковь. И отказывает в содействии: он гордый.
Вольтер! Султан французского Парнаса...
Он слишком почитаемый, чтоб позволять себя использовать так плоско.
Иное дело - тень презираемого поэта-порнографа Баркова. Та не чует разницу между глубоким и плоским и надеется соблазнить “автора”, мечтающего о соединении препятствий с достижениями:
А ты поэт, проклятый Аполлоном,
Испачкавший простенки кабаков...
...Не можешь ли ты мне помочь, Барков?
С усмешкою даешь ты мне скрыпицу,
Сулишь вино и музу пол-девицу:
“Последуй лишь примеру моему”.-
Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму.
Почему? - Потому что у того уж вовсе нет препятствий. Об этом можно догадаться и не читая Баркова - из общего принципа выхода индивидуалистически ориентированного искусства через богему - к упадничеству и околоискусству из-за утраты идеала.
Объяснимся. По мере осознания пошлости того, что все низкое достижимо, бывшему творцу искусства становится ясно, что люди есть безнадежные скоты, и иного не дано, и прийдется жить с этой новостью. А как? - Просто: считать всю мерзость нормой. Например, если только и еды в мире - что блевотина; ну так есть блевотину и описывать это соответствующе - искореженной речью, но спокойно. Если только и любви на свете - что скотство; ну так воспеть бордели и - матом. Такое в вечно в чем-то повторяющейся истории искусства не раз встречалось: издевательски-кошмарные завороты фраз и сюжета в “Тристраме Шенди” у разочаровавшегося в идеалах Просвещения Стерна, еще худшие выверты - даже до уровня звукосочетаний в словах и до табуированной речи - в “Улиссе” у разочаровавшегося в прогрессе Джойса времен первой мировой войны. Вот то же, видно, и с матерщинником Барковым.
Конечно, пушкинскому “автору” в “Монахе”, приверженцу изящного рококо, скрыпица Баркова была не к месту.
“Автор” кокетничает, когда завидует, мол, отсутствию препятствий эротике для художников как таковых:
Ах, отчего мне дивная природа
Корреджио искусства не дала?
Тогда б в число парнасского народа
Лихая страсть меня не занесла.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я кисти б взял бестрепетной рукою
И, выпив вмиг шампанского стакан,
Трудиться б стал я жаркой головою,
Как Цициан иль пламенный Албан.
Представил бы все прелести Натальи,
На полну грудь спустил бы прядь волос,
Вкруг головы венок душистых роз,
Вкруг милых ног одежду резвой Тальи,
Стан обхватил Киприды б пояс злат.
И кистью б был счастливей я стократ!
Корреджио, Тициан, Альбани - список получился совершенно эклектическим. (Здесь все художники, выражавшие очень и очень разные идеалы.) И становится ясно, что этот род искусства - живопись - игриво воспевается тут “автором” за бо`льшую, мол,- по сравнению с литературой,- чувственность. В литературе,- притворяется “автор”,- препятствия для чувственности слишком велики для него.
Это как много лет спустя - Баратынский:
Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.
Только тут - ультраразочарованный Баратынский, якобы хваля, горько посмеивается над розовым оптимизмом, к которому тяготеет живопись. А в “Монахе” - розовый оптимист “я”, якобы хваля ту же живопись, тихо-тихо посмеивается над нею демонстрируя тут же, что мастер слова тоже может живописать и выражать чувственность.
Он же словами все-таки “представил... все прелести Натальи”, а в то же время словами же прикрыл: “На полну грудь спустил... прядь волос”. То же - с “меж милых ног”, так и видимых нами сквозь “одежду резвой Тальи”
.Далее он еще явственней демонстрирует способности литературы, умеющей едва ли не превосходить живопись в чувственности:
Иль краски б взял Вернета иль Пуссина;
Волной реки струилась бы холстина;
На небосклон палящих, южных стран
Возведши ночь с задумчивой луною,
Представил бы над серою скалою,
Вкруг коей бьет шумящий океан,
Высокие, покрыты мохом стены;
И там в волнах, где дышит ветерок,
На серебре, вкруг скал блестящей пены,
Зефирами колеблемый челнок.
Нарисовал бы в нем я Кантемиру,
Ее красы...
Мы видим, слышим, чувствуем - теплоту южной ночи, шум волн, серебряный лунный блеск в пене! Мало того: препятствие - почти не препятствие. Как ни крута скала, как ни неприступен замок на ней, а красавица все же выкрадена. И вот тут же, в челноке, не мешкая, не боясь погони, уже и красы Кантемиры налицо.
Таков - “автор”.
И все это он перемежает стихами о парадоксально таком же герое - монахе. Только у героя цель противоположная,- если не считать отдаленной (рая),- цель: ежедневное душевное спокойствие почти безгрешного человека:
Панкратий жил счастлив в уединенье,
Надеялся увидеть скоро рай...
В рай попадают за самоотречение в земной жизни. Но самоотречься до самоубийства нельзя. Есть рамка на самоотречение. А раз есть большее и меньшее, то герой выбирает меньшее самоотречение, как и “автор” - меньше препятствий. И оба живут себе в удовольствие чуть не каждую минуту.
Человеку живущему нужно иногда сидеть. Как тут самоотречься, но минимально? - Пусть стул будет без одной ножки. Надо есть, чтобы жить. Как самоотречься? - Есть скоромное. - А как минимально самоотречься? - Наедаться этим скоромным. Нельзя пьянствовать - таково самоотречение. - Ну, так один штоф водки - не пьянство. Опять достигнуто минимальное самооречение. Женщину погладить нельзя - самоотречение. Ну, так кота можно. И т. д.:
За пышность он не мог попасться в ад.
Имел кота, имел псалтирь и четки,
Клобук, стихать да штоф зеленой водки.
Вошедши в дом, где мирно жил монах,
Не золота увидели б вы горы,
Не мрамор там прельстил бы ваши взоры,
Там не висел Рафаэль на стенах.
[Это было бы не самоотречением, а наоборот.]
Увидели б вы стул об трех ногах,
Да в уголку скамейку в пол-аршина,
Ну и тому подобное.
Точно таким же путем, путем минимального самоотречения (не изнуряющими молитвами) сумел монах отделаться от досаждающего ему видением юбки дьявола:
...И ум его в минуту просветился.
Из бедного седого простяка
Панкратий вдруг в Невтоны претворился.
Он решил окатить видение-юбку-черта заговоренной водой.
И ведь он не лицемер - этот монах. Рассказчик (“я”) его непритворно уважает. Рассказчик, как и в стихотворении “К Наталье”, дал эротический сон монаху и тоже оборвал этот сон. И смешно-таки нам увидеть монаха в таком неестественном положении. Но смешно именно за неестественность (в стихотворении “К Наталье”, когда мы “видим” тот сон - мы думаем, что его видит простой мальчик. А здесь - старик и монах с колоссальным стажем. Разница. И реакция проснувшегося совсем другая. Монах просто в отчаянии:
...
он плакать сильно стал,Сел под окно и горько горевал.
“Ах! - думал он, - почто ты прогневился?
Чем виноват, Владыко, пред тобой?
Как грешником, вертит нечистый мной...”
Ему и в голову не приходит, что он, пока живет, такой же грешник, как и все.
И рассказчику это в голову не приходит, и он видит принципиальную разницу между своим героем и лицемерами:
...мятежный иезуит!
Красней теперь,
[услышав об искреннем и праведном Панкратии]
коль ты краснеть умеешь,
Коль совести хоть капельку имеешь;
Красней и ты, богатый кармелит,
И ты стыдись, Печерской Лавры житель...
Впрочем... До рассказчика-“автора” доходит все же неисключительность его героя.
И тогда “я” превращается на минуту в автора без кавычек, в ту литературную маску религиозного фундаменталиста, которая породила и “автора” и героя. И суд этой маски предельно жесток, над своими - церковниками - особенно:
Но ни один земли безвестный край
Защитить нас от дьявола не может.
И в тех местах, где черный сатана
Под стражею о злости когти гложет,
Узнали вдруг, что разгорожена
К монастырям свободная дорога.
И вдруг толпой все черти поднялись,
По воздуху на крыльях понеслись -
Иной в Париж к плешивым картезьянцам
С копейками, с червонцами полез,
[речь не идет о сумме; и копейки считаются злом; потому они и плешивы - картезьянцы; они мерзки, потому что выглядят принципиально продажными]
Тот в Ватикан к брюхатым итальянцам
Бургонского и макарони нес;
[эти рисуются повальными пьяницами и обжорами, не меньше; для литературной авторской маски здесь нет полутеней: все - крайне плохо]
Тот девкою с прелатом повалился,
Тот молодцом к монашенкам пустился.
И так далее.
Однако, самое замечательное, что этим ядом религиозного экстремизма, оказывается, пропитаны были и симпатичные описания монаха легкомысленным “я”.
...в глухих его стенах
Под старость лет один седой монах
Святым житьем, молитвами спасался
И к дней концу спокойно приближался.
Почему “спокойно”? Разве можно успокаиваться, пока живешь? Разве не дана сама жизнь для испытания на соблазн? Разве не должно праведнику изобретать и изобретать себе казни, а не успокаиваться?
За пышность он не мог попасться в ад.
Имел кота... штоф зеленой водки.
А надо было не иметь кота, штофа...
Уже сам факт перетасованности предметов религиозного и мирского быта: кот и псалтирь, стихарь и штоф - говорит, что все здесь с подначкой.
Даже то, что умиротворенно пересказывать житие праведника фундаменталистская авторская маска поручила самодовольному сладострастнику, любителю искусства рококо, означает издевательство над людской слабостью. Оно звучит в тех же словах, какими воспевает “автор” монашеское счастье. И каждый шаг на этом пути счастья оказывается поражением.
Двойственность - во всем. А лучше всего она в финале:
Лети, старик, сев на плеча Молока,
Толкай его и в зад и под бока,
Лети, спеши в священный град востока,
Но помни то, что не на лошака
Ты возложил свои почтенны ноги.
Держись, держись всегда прямой дороги,
Ведь в мрачный ад дорога широка.
“Прямая дорога” это и кратчайшее расстояние (с оптимальными препятствиями) от желания - к достижению чувственного удовольствия сладострастника, это и минимальное (в рамках требуемого) самоотречение на пути спокойствия и счастья праведной жизни, это и магистраль в ад.
Противочувствия сталкиваются и нам становится ясно, что Пушкин здесь не “автор” и не литературная маска фанатика от религии, не сладострастник и не аскет. А - колкий насмешник над тем и другим. Его
сердце холодно и пусто. Это сердце бестенденциозного исследователя.ДЕВЯТОЕ
Есть у Пушкина еще одно стихотворение (девятое по счету в Полном собрании сочинений), где используется мотив монаха - “К сестре”. Но здесь - в отличие от разобранных - он вводится уже с пятого стиха:
Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт младой,
Беседовал с тобой
И с лирою забвенной,
Мечтами окриленный,
Оставил монастырь...
И кончается стихотворение не как в предыдущих - монастырем как незыблемой данностью, а наоборот - уходом оттуда:
Но время протечет,
И с каменных ворот
Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат;
Спеша на новоселье,
Оставлю темну келью,
Поля, сады свои;
Под стол клобук с веригой -
И прилечу расстригой
В объятия твои.
В монастыре, мол, плохо, а вне его хорошо. Но все это - если в лоб и если не замечать торчащего из мешка шила, и не одного...
В монахи-то идут по доброй воле и не вдруг, а не наоборот:
Знакомый с суетою,
Приятной для меня,
Увлечен в даль судьбою,
Я вдруг в глухих стенах,
Как Леты на брегах,
Явился заключенным,
Навеки погребенным...
И если расстригой монах становится тоже вдруг: ради сестры и по поводу ее новоселья,- то здесь прорезается голос не монаха, а “автора”, опять лицеиста. И тогда подозрительно напористо этот “автор” расписывает печали заточения:
...И скрыпнули врата,
Сомкнувшися за мною,
И мира красота
Оделась черной мглою!.. и так далее.
В Царском Селе были роскошные виды, а лицеисты не унывали. Их могли удручать порядки. Но о порядках как раз и нет речи в стихотворении. Только - об угнетающих результатах режима - пейзажах души:
Иль позднею порою,
Как луч на небесах,
Покрытых чернотою,
Темнеет в облаках,-
С унынием встречаю
Я сумрачную тень...
Настроение, конечно, передано. Но о настоящих причинах ни слова. И потом это “луч темнеет”... Автор настоящий “автора” в кавычках, поэта, как тот заявил, не подсекает ли даже и на литературном переборе? Это ж романтический прием игры ореолами слов вопреки их логической связи.
Да подозрительны и радости общения с сестрою о которых герой размечтался:
Но вот уж я с тобою,
И в радости немой
Твой друг расцвел душою,
Как ясный вешний день.
Забыты дни разлуки,
Дни горести и скуки,
Исчезла грусти тень.
Что-то очень общо и немногословно. Гораздо подробнее воображение героя рисует сестру вне общения с ним:
Тайком вошед в диванну,
Хоть с помощью пера,
О, как тебя застану,
Любезная сестра?
Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Далее идет перечисление предполагаемых читаемыми сестрою авторов, их характеристики, характерные для них мотивы. Далее - об общении сестры с моськой (вот кто по-настоящему любим сестрой). И финальная воображаемая картина рождает совсем подозрительную ассоциацию:
Иль звучным фортепьяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?
Ведь биографические ассоциации Пушкин ввел сам - назвав стихотворение “К сестре”. А сестра Пушкина, Ольга, была очень слаба в музыке, если верить роману Тынянова “Пушкин”. Там, правда, художественное произведение. Зато автор-то его - исследователь и стремился к фактической точности. Ему не было никакого расчета преуменьшать музыкальные достижения сестры гения:
“Ходил к ней одно время какой-то вечно пьяный немец-танцмейстер и учил стучать на клавикордах; играл он плохо, да был дешев. Олинька сбивалась с такта, он пребольно бил Олиньку за это по руке линейкой, она хныкала, музыка эта надоела Надежде Осиповне, и музыкальное образование Олиньки было закончено. На клавикордах в будни стояли тарелки с объедками, а когда ждали гостей, тарелки и все другое убирали и стирали пыль; но клавикордов никто не касался; как гроб, стояли они в гостиной”.
И по Тынянову - не дружили они, Саша и Оля. И одинокий он был в семье - Саша. И только в лицее приобрел друзей. А домой даже писем не писал.
Так что в стихотворении “К сестре” воображение воистину свирепствует. И что, если окруженный в лицее друзьями Пушкин решил чуть-чуть посмеяться над неадекватной мечтательностью “автора”?
Я знал одинокого маленького мальчика. С ним никто не хотел дружить. И он привык гулять сам: ходил вокруг домов, чтоб быть чем-то занятым и не слишком привлекать к себе внимание. Только собака с балкона соседнего дома, когда он проходил близко, облаивала его. Вот и все его общение было во дворе. Летом его увозили к бабушке. И там он тоже ни с кем из сверстников не общался. И скучая по дому говорил: “Там меня ждет моя собака”. Он не умел врать и притворяться. Это была не поза, а жизненный психологический мотив. И для поэта он мог бы дать образ лирического героя, возблагодарившего освобождение от бабушки, и образ “автора”, улыбающегося над ложностью переживания.
Вот подобное и сотворил Пушкин. Изобразил и усмехнулся: пустые мечты! Его герой зря унывает от заточения, зря мечтает о свободе, а “автор” зря сливается с ним в восхвалении воображения как спасителя в унынии:
Фантазия, тобою
Одной я награжден,
Тобою пренесенный
К волшебной Иппокрене,
И в келье я блажен.
Герой и “автор” слились, а стих получился корявый: Иппокрене ни с чем не рифмуется! А ведь Иппокрена это источник вдохновения! Уж с этим-то словом никак не должно было б у поэта случиться такой оплошности!
Посмотрите любое стихотворение Пушкина: где вы найдете погрешность рифмы? - Нигде!
За что ж он тут поиздевался над “младым поэтом”? - За мечтательность, за романтизм.
Характерен перечень авторов, которыми якобы увлекается сестра “автора”: “Жан-Жак”
, “Жанлиса”, “Гамильтон”, “Грей”, “Томсон”. А “певца Людмилы” и “Светланы” - Жуковского - он упоминает в отношении и сестры, и себя:...И, как певец Людмилы,
Мечты невольник милый,
Взошед под отчий кров,
Несу тебе не злато
. . . . . . . . . . . . . . . . .
В подарок пук стихов.
Последний стих выделен Пушкиным и представляет собой цитату (как следует из комментариев) из послания Жуковского.
“Автора” с сестрою, видно сближает любовь к меланхолической мечтательности:
Иль смотришь в темну даль
Задумчивой Светланой
Над шумною Невой?
А для самого Пушкина, видно, вся перечисленная плеяда авторов представала единой в своей минорности. И правда: Грей, Томсон, Жанлис - сентименталисты, певцы меланхолической мечтательности; Руссо - сентименталист, певец чувствительности и слез; все вместе - предромантики (как это теперь называется обобщенно), а Жуковский - романтик, но какой? - Романтик-меланхолик.
Лишь Гамильтон, вроде, выпадает из ряда:
Иль с резвым Гамильтоном
Смеешься всей душой?
Однако об Антуане Гамильтоне, англо-французском писателе конца XVII - начала XVIII века, литературная энциклопедия пишет как о выразителе пессимизма эмигрантской английской аристократии, бежавшей от английской революции. Так что его знаменитую скандальную хронику французского королевского двора - “Мемуары графа Грамона” (ознакомиться с ними я не могу) - вполне можно счесть смехом сквозь слезы. И тогда и Гамильтон войдет в минорный ряд пушкинского “автора” и его сестры.
А автор без кавычек тогда предстанет последовательным насмешником над пустой мечтательностью.
Раз ее осмеяв, Пушкин вполне готов был писать другие вещи в мечтательном духе, не принимая их близко к сердцу, которое в 14-м году оставалось
“холодно и пусто”.Вообще, создается впечатление, что видя, как его дядя, Василий Львович Пушкин, не просто сочиняет стихи, а участвует ими в главной литературной войне своего времени (между карамзинистами и шишковистами), племянник решил не только следовать его примеру, но и переплюнуть дядю. Тот выступал за карамзинистов (мечтательных сентименталистов, врагов устаревшего классицизма, новаторов, западников) против шишковистов ( классицистов-архаиков, славянофилов). А Пушкин,- получается, - взялся первыми же своими произведениями скрыто высмеивать всех и не принимать пока ничью сторону.
Вот и мечтательным карамзинистам досталось...
ЧЕТВЕРТОЕ
Четвертое произведение Пушкина - послание “К другу стихотворцу” - и им самим названо “сатирическим”. Но... как и подобает реалисту, и тут он насмешку скрыл, а о том, кого здесь Пушкин потрошит, пушкинисты до сих пор спорят.
“Автор” здесь опять выступает против сентименталиста:
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай...
Будет ли карамзинист, каким чаще всего оказывался сентименталист в те годы, бояться критики из враждебного литературного лагеря шишковистов? - Нет. Он будет бояться критики своих. Своим у карамзинистов был Макаров. Он и выведен в стихотворении как грозный судия для Ариста:
Его с пером Рамаков не страшит;
Спокоен, весел он. Арист, он - не пиит.
Явно, критикуемый стихотворец Арист является карамзинистом.
Томашевскому, когда он взялся разбирать (в 1926 году) это стихотворение, довод с Макаровым в голову даже не пришел. Для него нет разницы между Пушкиным и образом автора данного стихотворения. Он в плену своей мысли, что карамзинистом является Пушкин, автор послания Аристу, а не Арист. Поэтому даже явное упоминание меланхолии Ариста Томашевский нейтрализует:
“Это просто повторение Буало:Ie hais ces vains auteurs dont la muse forcee
M’entretient de ses feux, toujours froide et glacee,
Qui s’affligent par art, et, fous de sens rasis,
S’erigent, pour rimer, en amoureux transis.”
Приблизительный перевод таков: я ненавижу этих бездарных авторов, муза которых, насилуема, держит меня своими огнями, всегда холодная и ледяная,- авторов, которые пекутся об искусстве и хладнокровно сходят с ума, представляясь, когда рифмуют, робкими вздыхателями.
Похоже на натяжку, что Пушкин
просто повторил Буало. При Буало не было сентиментализма. Не вернее ли, что пушкинский “автор” повторил шишковиста Шаховского?Здесь надо объясниться.
Исторически, в XVIII веке, меланхолический, спокойный сентиментализм был реакцией разочарования в идеалах первичного просветительского классицизма, тихим бунтом чувства против несостоятельного разума и смирением в абсолютизации этого чувства. В начале XIX века, у Карамзина и его последователей, опять меланхолический и спокойный сентиментализм снова стал реакцией разочарования, но уже - в идеалах вторичного просветительского классицизма и слезного сентиментализма униженных и оскорбленных, предвестников великой французской революции. Смирение, компромисс представлялось спасением высоких идеалов в этой страшной жизни.
Была и другая, более бурная реакция на ужасы революционного и послереволюционного времени, реакция ярко индивидуалистическая, романтическая - солипсизм Жуковского, например: внутренний мир МОЕЙ души - вот ВСЕ на фоне ужасного мира внешнего, который есть НИЧТО.
Сентименталисты с романтиками в России объединялись в один литературный лагерь. Их идеалы были вновинку, и родом они были с Запада. А на западе угрозой над Россией нависал (а потом и обрушился) Наполеон, этот конечный продукт французской революции.
И против Наполеона и революции на культурном фронте выступали отнюдь не индивидуалисты, а наоборот, общественники славянофилы-патриоты - шишковисты. На какой стиль они опирались? На старый добрый классицизм, культурный оплот абсолютной монархии, монархии, будь она французская или российская.
Однако, была и еще одна, третья реакция разочарования на события на Западе и на их отзвуки в России - реалистическая, как у Крылова и Грибоедова. Мы думаем, обычно, что Пушкин нам открыл реализм. А это не совсем так.
“Термин “предромантизм”... нельзя истолковывать только как художественный метод, который порождает в будущем единственно романтизм. Предромантическое течение в литературе таит в себе реалистические откровения, и можно в принципе представить себе движение художника от предромантизма к реализму...” (Фомичев). К реализму Крылова и Грибоедова. Просто известный нам всем пушкинский реализм (не тот, который выявляется вот тут сейчас в ранних произведениях, а более поздний) с исторической дистанции затмевает своих предшественников. Тем более - предшественников тех предшественников: Грибоедову почву расчистил Шаховской, шишковист.Шаховской яро выступал против манерности сентименталистов: вычурного стиля, нарочито изысканных оборотов, обилия галлицизмов, готовности растрогаться по любому поводу. И в худших образцах это было не только плохо по форме, но и фальшиво по содержанию. Сентименталисты ратовали вроде за либерализм по отношению к низам, но их достойные сочувствия героини-крестьянки раз за разом оказывались... выше по происхождению, и на них, получалось, можно было жениться героям-дворянам. То же - с героми простолюдинами. Шаховской в своих пародиях это выводил на чистую воду, выставляя как слепое прозападное демократическое модничанье, и ему трудно было возражать по сути. Правда, он был халатен в отделке собственных вещей. Поэтому отрок Пушкин (в 1815 году) отдавал ему должное, имея в виду и содержание и форму:
“...не глупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах, пришед домой, все записывает и потом как ни попало вклеивает в свои комедии”.Понятие реализма тогда еще не существовало и казалось, что война с “чужебесием” и какой-то нерусской изысканностью, которую поддерживал Шаховской, это чуть ли не классицизм.
Классицизм тоже в один период своего развития (во Франции XVII века) воевал против галантности, изнеженности, неестественности чувств, в общем, против прециозных романов, воспевавших изнеженных французских аристократов, которые выступали тогда против короля, но утратили и подлинный героизм и подлинную страсть. И Людовик XIV, опираясь на верхушку буржуазии в своей борьбе со своевольными феодалами, нашел среди буржуазных деятелей культуры блестящих проводников идеала единовластия в стране, идеала абсолютной монархии. Классицизм как эстетическое требование нормы расцвел в таких условиях.
А через полтора века в России, когда старый классицизм казался уже наднациональным, а не французским, французской же была недавняя революция, выросшая, похоже, из слез сентиментализма и сама столько пролившая новых слез и крови по всей Европе,- теперь в России к кому, вроде, как не к старому классицизму надо было прибегнуть в войне с сентиментализмом?
“Шаховской выступал как сторонник классицизма. Однако в этом выражалась не столько приверженность к определенным эстетическим нормам, сколько неприятие новых художественных тенденций и боязнь идей, которые появились вместе с сентиментализмом” (А. Гозенпуд).
А точнее было бы все же акцентировать неприверженность Шаховского
к определенным эстетическим нормам. Как член репертуарного комитета он допускал же к постановке пьесы самых разных художественных направлений. Не сказывалась ли в том бестенденциозность прореалиста?И если отрок Пушкин вздумал подкусывать не просто литераторов, а целые направления, то не вывел ли он в послании “К другу стихотворцу” тихую сатиру на бестенденциозную объективность того явления, которое в далеком - относительно Пушкина - будущем назвали допушкинским реализмом?
А объективность “автора” налицо. Посмотрите на этот набор имен:
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь и слава россов,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать...
Державин - вместе с Шишковым в 1811 году основал литературное общество “Беседы любителей российского слова”, состоящее из 24-х действительных членов (по 6 членов в каждом из четырех разрядов), с целью развивать и поддерживать вкус к русскому слову, опираясь на ломоносовскую традицию.
Ломоносов - классицист, знамя “Беседы”.
Дмитриев - мало, что в прошлом сентименталист; главное - министр и попечитель одного из разрядов “Беседы”.
Рифматов - это Шихматов, действительный член в первом разряде.
Графо`в - это Хвостов, председатель третьего разряда.
Бибрус - это Бобров, продолжатель ломоносовской традиции.
Глазунов - издатель и книгопродавец.
Три последние писателя - бездари, которых “автор” не постеснялся заклеймить, хоть они из одного с ним литертурного лагеря (если, конечно, я сумею убедить, что “автор” это ипостась реалиста типа Шаховского).
Сам же Шаховской подобных бездарей вывел в собственной сатире a la Буало, а именно, во второй сатире. Себя он там представил цензором. И с ним обошелся тоже довольно сурово: ничего-то у цензора там не получается с искоренением ничтожеств.
У Шаховского всего две классицистские сатиры. В первой он себя выводит уже прямо как драматурга. И тоже жалуется на собственную бесталанность, не позволяющую ему быть - как Мольер - нравственным бичом для современников.
Вот этот якобы дурной объективизм якобы - как мы теперь понимаем - классицизма, призванного учить, да уже не умеющего учить, и пропесочил отрок Пушкин.
Послание “К другу стихотворцу” сделано его “автором” в чем-то похожим на манифест классицизма - на “Поэтическое искусство” Буало. Та же гладкость стихов, тот же александрийский стих, то же кругом совпадение цезуры (звуковой паузы) с логической остановкой, та же общедоступная здравость суждений, тот же поучительный пафос. Начинается - с того же порицания честолюбия, как побудительной причины сочинения стихов:
Есть сочинители - их много среди нас,-
Что тешатся мечтой взобраться на Парнас;
Но, знайте, лишь тому, кто призван быть поэтом,
Чей гений озарен незримым горним светом,
Покорствует Пегас и внемлет Аполлон:
Ему дано взойти на неприступный склон.
О вы, кого манит успеха путь кремнистый,
В ком честолюбие зажгло огонь нечистый,
Вы не достигнете поэзии высот:
Не станет никогда поэтом стихоплет.
Не внемля голосу тщеславия пустого,
Проверьте ваш талант и трезво и сурово.
У “автора”:
Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей...
Перед концом - те же упреки в крыстолюбии, другой побудительной причине сочинительства:
Воспитанники муз! Пусть вас к себе влечет
Не золотой телец, а слава и почет.
Когда вы пишете и долго и упорно,
Доходы получать потом вам не зазорно,
Но как противен мне и ненавистен тот,
Кто, к славе охладев, одной наживы ждет!
У “автора”:
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
За то, что ты поэт, несметные богатства... [и т. д.]
Не так, любезный друг, писатели богаты... [и т. п
.]...Ты, кажется теперь задумался немного
.И завершается - похожим извинением за то, что порицающий и поучающий сам не без греха.
В отличие от сатир, где Буало бичует своих героев (вспомните хоть это “я ненавижу” из цитировавшейся выше IX сатиры), в стихотворном трактате “Поэтическое искусство” он доброжелателен, как учитель к внимательному ученику.
“О вы,”- в процитированном самом начале трактата - это обращение Буало не к тем, кто останется в его аудитории, а к тем, кого он изгоняет. А процитированное “противен мне и ненавистен”, что перед концом трактата - это “тот”, кто сам станет отщепенцем. Вообще же Буало движим добрыми чувствами к своей аудитории.Пушкинский “автор” - тоже : он же обращается “к другу”
.Итак - большая аналогия!
Пушкин, наверно, расчитывал, что она будет замечена. А будучи замечена, она проявила бы и вопиющие отличия. Но... второго шага в постижении художественного смысла этой вещи, похоже, сделано публикой так и не было.
Буало-то свою вещь насытил конкретными рецептами, что такое хорошо и что такое плохо в сочинении произведения любого поэтического жанра. Пушкинский же “автор” дал лишь один критерий - суд потомков:
Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет...
а
...Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь и слава россов...
Впрочем, еще дан похожий критерий - поздний суд современников:
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова...
Как же воспользоваться такими советами, когда никому не дано заглянуть в будущее? Так учительный классицизм не поступает!
У Буало - тысячестрочное конкретно поучающее “Поэтическое искусство” изящно заканчивается всего одной строкой сомнения в себе:
Придира и брюзга, люблю бранить, не скрою,
Хотя в своих стихах и сам грешу порою!
“К другу стихотворцу” - на треть состоит из отказа поучать.
Перед нами - подножка “автору” послания!
Томашевский в упомянутом разборе, находя многочисленные словесные совпадения у Пушкина с разными произведениями Буало, делает вывод об ученичестве в 1814 году Пушкина у Буало. Я же, сличая выхолощенное учительство пушкинского послания с истинным учительством одной только вещи - стихотворным трактатом Буало, делаю вывод о гениальности, начавшей сказываться в Пушкине с первых его шагов в поэзии. Томашевский сравнивает “К другу стихотворцу” с “буквой” Буало, я - с духом Буало.
Томашевский логичен, что Буало, полтора века до того боровшийся с ненатуральностью прециозной литературы, годился теперь карамзинистам для борьбы с несуразностями славянщины шишковистов. Но разве не логичен и я, что прав и шишковист Шаховской, классицизмом борющийся с ненатуральностью сентименталистской галломании?
Для Томашевского Пушкин следовал за дядей, курсом - к карамзинистам, раз те уважали Дмитриева, Державина и Ломоносова, а презирали Шихматова, Хвостова и Боброва. Для меня же уважение к таланту и насмешка над бездарью не есть признак принадлежности к карамзинистам: насмехался же Крылов, действительный член “Беседы”, в своем “Квартете” над само`й четырехразрядной “Беседой”, кишащей посредственностями.
Мне представляется, что во всем у меня со сторонниками Томашевского складывается паритет доводов. Даже - в вопросе, зачем в послание вставлен всеми подкалываемый лицейский соученик Пушкина Кюхельбекер и вчистую проигравший Ломоносову соревнование в деле создания русского литературного языка и русского классицизма Тредиаковский, ставший объектом издевательств для всех знакомых с историей русской литературы.
“Автор” пишет, насмехаясь:
Быть может, и теперь, от шума удалясь
И с глупой музою навек соединясь,
Под сенью мирною Минервиной эгиды*
Сокрыт другой отец второй “Тилемахиды”.
Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!
Сторонник Томашевского скажет, что пушкинская сноска: “*- Т. е. в школе” - для лицейских товарищей указывала, что речь идет о Кюхельбекере, недавно (в 1813 году) пропесоченном:
Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет...
Тредиаковский же написал гекзаметром “Тилемахиду” в период, когда его от галлицизмов и германизмов кинуло в “славянщизну”. Да плюс: Кюхельбекер был известен как почитатель Шапелена, создателя национально-героических эпопей, написанных в прециозном стиле, который изничтожил Буало. И Шапелен, мол, хорошая аналогия шишковистам (как и Тредиаковский и Кюхельбекер).
Так что, мол, направленность послания “К другу стихотворцу” является прокарамзинистской.
А я скажу, что Кюхельбекер был известен товарищам и как последователь чувствительной германской поэзии (в пику легкомысленной французской) и мог бы вполне - как якобы сентименталист и романтик - быть объектом нападений Шаховского, опиравшегося на классицистский здравый смысл. Это тем более логично, что из соединения патриотизма с романтизмом в России произошел совершенно самобытный так называемый гражданский романтизм, переживавший общественное (борьбу за свободу) как глубоко личное, и Кюхельбекер стал ярким представителем этого прореволюционного течения в литературе. А Шаховской себя считал призванным бороться в первую очередь против революции. И, значит, пушкинский “автор”, в чем-то схожий с Шаховским, должен был агрессивно относиться к этому революционеру в зародыше - Кюхельбекеру. Да и Тредиаковский же не зря бывал и галломаном и вообще бросающимся в крайности, и не зря все, именно все, его презирали, в том числе и шишковисты.
Так что, получается по-моему, “автор” у Пушкина похож на шишковиста Шаховского. А послание - если и пробирает шишковиста, то совсем не в лоб, как утверждает Томашевский.
Итак, полный паритет доводов...
И только в одном у меня перевес: проигнорировал же Томашевский антисентименталистскую строчку
:Забудь ручьи, леса, унылые могилы...
А раз так, то надо признать, что, верный своей насмешнической установке в первые годы вхождения в литературу, отрок Пушкин, по крайней мере, сам для себя тайно высмеял ту составляющую литературного направления шишковистов, которую впоследствии назвали допушкинским реализмом.
Его сердце холодно и пусто;
и этот эмбрион реализма - отрок Пушкин - готов кусать и саму холодность:“Он
[Шаховской] написал Нового Стерна; холодный пасквиль на Карамзина” (1815 г.)ПЯТОЕ
Посмеялся он и над страстной разнузданностью того направления, в котором (в свое время, после Макферсона) исторически-естественно нашло свое пристанище рококо, смущавшееся своей успокоенностью и достижимостью идеала. Речь - об оссианизме.
Первая из таких насмешек - пятое по счету в Полном собрании сочинений, “Кольна (подражание Оссиану)” (1814 года) - на самом деле есть некое вышучивание макферсоновского Оссиана.
Что у Макферсона? - Разнузданность чувств оссиановских героев, в том числе и женщин. Разозлилась Девгала на несправедливый, по ее мнению, раздел судьей имущества при разводе ее с мужем; ну так - убить судью; она угрозой самоубийства заставляет возлюбленного, Ферда, выйти на поединок с судьей, и... Ферд погибает; ну так хоть эта смерть ее умиротворяет. Морна любит Каитбата; тот погиб в бою от руки Дюкомара; ну так Морна предательски убивает Дюкомара. Агандека с одного взгляда влюбляется в гостя, Фингала, и выдает ему - хоть опасно - план отца, Страна, убить того; и Стран ее убивает. Комала настолько сильно любит Фингала, что удостоверившись, что он не убит,- как ей соврал влюбленный в нее Гидаллан,- она умирает от радости. Лорма умерла от печали, что ее любовника, Альда, убил в сражении Эррагон, ее муж. Кютона в три дня умерла от печали из-за гибели ее любимого Комлата в бою с домогавшимся ее Тоскаром. И так далее, в легенде за легендой: страсть, доводящая до смерти. Иного сочетания нет. И, кажется, только в одной легенде (называемой “Кольна-Дона”) нет этой пары.
Ну так Пушкин именно ее и положил на стихи.
Макферсон именно смертью увеличивает ценность минуты страстной жизни. А Оссиан, всему свидетель и бард, ему нужен, чтоб еще большую цену придать разнузданности: та будет увековечена в веках песнею барда, и все герои это знают и потому водят за собою бардов повсюду.
А у Пушкина Оссиан наличествует лишь в подзаголовке. Свидетеля разнузданности Кольны нет:
Ты зрел, когда, в любви невольна,
Здесь другу Кольна отдалась.
“Ты” это “источник быстрый”. Правда, обращается к этому источнику “Я”. Но у Макферсона если не из текста, то из контекста ясно, что Оссиан все видел или слышал сам. А у Пушкина ж отдельное стихотворение. И об этом “я” вполне можно думать, как об условно вездесущем авторе.
У Макферсона “источник”
“зрел” лишь встречу удравшей из дому Кольны с группой Тоскара, возвращавшейся в ее и ее отца дворец с охоты. А у Пушкина Тоскар из-за бессонницы, напавшей на влюбленного, один пошел бродить вокруг, и Кольна встретила его одного, и потому, собственно и смогла ему отдаться.У Макферсона часто говорится о белой груди героинь Оссиана. Не то, чтоб они раздевались,- это раздевающий взгляд барда, воспевающего их красоту. То же и в “Кольне-Донне” у Макферсона при встрече героини с группой охотящихся, где был и Оссиан:
“Пылая мщением приемлет щит, но под сим оружием воздымалась грудь младой девицы, бела как пух лебедя, плавно и тихо”.
У Пушкина:
“...Подай мне щит твой!” И Тоскар
Приемлет щит, пылая мщеньем.
Но вдруг исчез геройства жар;
Что зрит он с сладким восхищеньем?
Не в силах в страсти воздохнуть,
Пылая вдруг восторгом новым...
Лилейна обнажилась грудь,
Под грозным дышуща покровом...
У Макферсона, во всяком случае, в переводе Кострова, которое читал Пушкин, “Кольна-Донна” последняя поэма. И она действительно странна отсутствием смертей. Макферсон сплоховал, что ли? Не выдержал тона. Там только тень смерти - кладбище героев, погибших давно. Это им и в честь давней победы прислан Тоскар ставить памятник. И вся суровость и мрак иррадиируют на поэму от всего предыдущего, от всех предшествующих поэм. Это Макферсона как бы оправдывает.
А Пушкин подловил Макферсона на слабости, и нагроможденный в стихотворении у юного поэта мрак выглядит неуместным. Пушкин даже решается на прямой сбой в отношении мрака. У него Кольна отдалась Тоскару утром, при свете:
Редеет ночь - заря багряна
Лучами солнца возжена;
Пред ней златится твердь румяна:
Тоскар покинул ложе сна...
Когда облаченная в доспехи Кольна его нашла на берегу источника - ее видно издали:
...Выходит ратник молодой.
Меч острый на бедре сияет...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зарею латы серебрятся
Сквозь утренний в долине пар.
А начальный куплет произведения создает впечатление, будто в характерной оссиановской темноте было дело:
Источник быстрый Каломоны,
Бегущий к дальным берегам,
Я зрю, твои взмущенны волны
Потоком мутным по скалам
При блеске звезд ночных сверкают
Сквозь дремлющий, пустынный лес,
Шумят и корни орошают
Сплетенных в темный кров древес.
Твой мшистый брег любила Кольна,
Когда по небу тень лилась;
Ты зрел, когда, в любви невольна,
Здесь другу Кольна отдалась.
Можно, правда, сказать, что Кольна вообще любила именно ночную Каломону. Но это спорно: вольна ли была царская дочь гулять ночью по дебрям, чтоб полюбить их такими? Да и вообще: вернее - общее впечатление.
В общем, Пушкин как бы тайно посмеивается, теперь - над оссианизмом.
И опять: раз посмеявшись, он мог дальше сочинять в по-настоящему оссиановском духе, но... не отдавая этому духу язвительной своей отроческой души волченка.
ДВЕНАДЦАТОЕ
Если принять мысль, что отрок Пушкин высмеивал одно за другим разные направления в литературе, натягивая на себя разные литературные маски, то “автор” двенадцатого пушкинского стихотворения - “Казак” - предстанет скрытым насмешником над фольклором, а если не побояться и сказать точнее, то - над украинским.
Фомичев о первоисточнике этого опуса пишет:
“...стихотворение “Казак” (1814)... в автографе помечено “С малороссийского”, а в копии лицейского товарища Пушкина Горчакова содержит указание на источник - “Ехал козаче и пр.”. Здесь имеется в виду песня Маруси из оперы-водевиля А. А. Шаховского “Казак-стихотворец” (1812)... Однако эта песня дает Пушкину только тему, но не сюжет:Ехав казак за Дунай,
Сказав дивчине: прощай,
Вы, коники вороненьки,
Несите на гуляй...
Еще Н. Ф. Сумцов показал, что фактически больше точек текстовых совпадений пушкинское стихотворение имеет с народными малороссийскими песнями об уводе девицы казаком. Современный исследователь
[это Охрименко] считает, что наиболее близка по “общему плану” к стихотворению песня “В славнiм городi Переяславлi”, которую Пушкин мог найти в популярном “Собрании народных русских песен с голосами” Львова-Прача”.Если почитать Охрименко - действительно создастся впечатление, что он прав. Он сделал такую выборку:
Ой прийшовши пiд оконечко:
...Вот уж под окном...“Дай подай, Галю, пити”
. “Напои коня”.“Дурна, дурна, нерозумна,
“Ах, небось, девица красна,Дурный розум маеш,
С милым подружись!”Що ты мене, козаченька,
- Ночь красавицам опасна.-На нiч не пускаеш”.
“Радость! не страшись!”“...Мандруй, мандруй, дiвчинонько!
“Сядь на борзого, с тобоюМандруй ты за мною!”
В дальний еду край...”“...Ох! тепер нам, дiвчинонько,
...Был ей верен две недели,З тобою розлука”.
В третью изменил.Однако, достаточно прочитать всю песню, как станет подозрительно: да соблазнил ли Галю казак? да не разлучается ли он с нею ранним вечером, возможно, даже побитый:
В славном городе Переяславе
Да покопали шанцы,
Ишов козак от девчины
Да наввечеру, вранци.
Да казав сей козаченьку
Гали не любиты,
Ой прийшовши под оконечко
Да подай Галю пити;
Дурна, дурна нерозумна,
Дурной розум маешь,
Що ты мене, козаченька,
На ночь не пускаешь;
Ой рада б я козаченьку
Тебе на ночь пустити,
Кругом ходят компанейцы,
[казаки легкоконного войска]
Хотят нас вловити;
Еще Гали не поймали,
Еще не вловили,
Да вжеж ее худобоньку
[имущество]Всю распределили:
Атаману дали коня,
А сотнику зброю;
Мандруй, мандруй девчинонько!
[странствуй]Мандруй ты со мною!
Ой рада б я, козаченьку,
С тобой мандровати,
Есть у мене стара маты,
Буде проклинати.
Да шла щука с Крименчука
Да пробита з лука,
Ох! теперь нам девчинонько,
С тобою разлука.
Довод Охрименко, что Сумцов пользовался сборником, напечатанным через десятки лет после смерти Пушкина, и потому близкие к “Казаку” по содержанию малороссийские песни оттуда не могли быть известны Пушкину, вряд ли серьезен. Это ж фольклор. То, что мог напевать Илличевский, лицейский соученик Пушкина, чей отец - уроженец Полтавской губернии,- вполне могло быть впервые записано и напечатано лишь десятки лет спустя.
А в песнях, указанных Сумцовым, хоть действительно есть сюжет увода девицы, в отличие от указанной Охрименко, где увода нет.
Вот что записано Чубинским и приведено Сумцовым:
З-за горы, горы
Идут мазуры;
[северо-восточные поляки]А мiй мазурочек
Привезе мiй виночок
З чистого злота.
Вин иде, иде
Прямо на мiй двир.
Стук, брязь в виконечко,
“Выйди, выйди, коханочко,
Дай коню воды”.
Не велила маты
Коню воды даты;
Мни матуся заказала,
Щоб я пана не кохала,
Матуси боюсь.
Матуси не бiйсь,
Сидай на мiй виз.
Сим пар сивых коней,
Сама седыть як пани,
Та буде моя.
Туды ихалы
Люды пыталы:
Ой що то за дивчина,
Ой що то за кохана
Иде с панамы.
Ой иду ж я иду
Та на свою биду:
Есть у его жинка, диты,
А на мене молодую
Любо поглядиты.
А вот - из Омельченко:
Ой видтиль гора,
А видтиль крута -
Промыжь тыми крутымы горамы
Сходыла зоря.
Ой то ж не зоря,
Ой то ж не ясна,
Ой то ж тая молода дивчина
По воду пошла.
А я за нею
Як за зорею
Сирым конем по-над морем
По-над водою.
Да дивчино же моя,
Да напiй же коня,
С тии, с тии крыныченьки,
Що холодна вода.
Да дивчино ж моя
Сидай на коня,
Да поидем у чистее поле
До мого двора.
А в мого двора
Да нема ни кола -
Тилько и родыны, що кущик калыны,
Та и та не цвила.
Да калыно ж моя,
Чому ты не цвила?
“Да булы ж тии лютыи морозы -
Цвиту не дала”.
И так как перед вами решительно все, что предполагали о прототипе пушкинского “Казака”, то, наверно, чего-то более близкого и не было, хоть Сумцов и писал вскользь о бродячем сюжете об уводе казаком девицы и хоть среди песен, ближайших по сюжету, в героях оказались вообще не казаки.
Мыслимо и такое возражение: герой назван донцом, а не, скажем, запорожцем. Но, с другой стороны, применены же в этом стихотворении украинские слова (“жупан”
, “коханочка”) и написано ж о его малороссийском происхождении впрямую.Зачем? Не для того ли, чтоб обозначить, что “автора” не устраивало в источнике? Лицейским соученикам, знакомым и с песней и со стихотворением, это могло быть очевидным.
Так если верно, что стихия смеха у отрока Пушкина в первые годы творчества превалировала, то что могло быть предметом усмешки здесь? - Чрезмерная, непоэтичная связь малороссийской народной песни-прототипа с прозой жизни.
Действительно, смотрите. В первом сюжете дивчину останавливает, в частности, опасность лишиться имущества за свой грех. Во втором - ее соблазняет, в частности, то соображение, что у ее мазурочка семь пар сивых коней, а беда, по ее мнению, наступает тогда, когда она узнает, что ей не светит стать хозяйкой в его доме. В третьем сюжете она уже будет хозяйкой, да вот в хозяйстве-то кроме бесплодной калины нет ничего, и это прискорбно по ее мнению.
У Плеханова - и не в одном месте и похожими словами - сказано: “...не всякая идея может быть выражена в художественном произведении. Рескин превосходно говорит: девушка может петь о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах. И он же справедливо замечает, что достоинство произведений искусства определяется высотой выражаемого им настроения. “Спросите себя относительно любого чувства, сильно овладевшего вами,- говорит он,- может ли оно быть воспето поэтом, вдохновить его в положительном, истинном свете? Если да, то чувство это хорошо. Если же оно воспето быть не может или может вдохновить только в сторону смешного, значит это низкое чувство”.”
Может, Плеханов с Рескиным и не вполне правы. Но, согласитесь, что-то вневременное и истинное в этом есть. И литературную маску Пушкина в “Казаке” это “что-то” могло толкнуть на тончайшую усмешку по поводу украинских песен, модных тогда, после постановки упомянутой оперы-водевился ненавистного карамзинистам А. Шаховского.
Впрочем, та трансформация, какой “автор” подверг предполагаемый малороссийский источник, настолько у него огрублена (у “автора” уже не любовь, пусть с первого взгляда, а непреодолимое взаимное притяжение полов, как у животных во время течки), что ясно - Пушкин и над образом автора, занимающегося такой трансформацией, - тоже насмехается: казак и девушка не знакомы, увидевшись, поговорили друг с другом лишь парой фраз, привлечь ее своим пыльным жупаном и перспективой кочевой жизни он не мог, “в облаках луна” вряд ли давала достаточно света, чтоб они могли убедиться и в привлекательности лиц друг друга...
За всеми этими усмешками: и “автора” над первоисточником, и Пушкина над трансформирующим первоисточник “автором” - кроется холодное сердце исследователя циников, мужчин и женщин.
ВОСЕМНАДЦАТОЕ
Этот мальчик - Пушкин в 1813-14 годах - был в некотором смысле страшный человек. И на это инстинктивно пытаются закрывать глаза. Почти никто не задавался вопросом, почему, начав свои поэтические опыты в годы наполеоновского нашествия и всеобщего патриотического всплеска в России, он не поддался общему настроению и ни-че-го об этом не писал.
Читая Томашевского о Пушкине тех лет, так и кажется, что исследователь задумался об этом, но не позволил себе внятно ответить.
Вот что он пишет о четырехстопном хорее дактилического окончания без рифм, традиционном в русских сказках и сказочных поэмах, которым написан, в частности, “Бова”, опус восемнадцатый по счету в Полном собрании сочинений Пушкина, написанный в 1814 году:
“В 1812 г. подъем патриотического чувства и национального самосознания вызвал довольно частое применение этого размера в патриотических песнях, появлявшихся на страницах журналов”
(1956).Как в Одессе ни мало таких журналов, но если искать вплоть до 1814 года - этот факт подтверждается.
Солдатская песня (1812 г.)
Ночь темна была и не месячна,
Рать скучна была и не радостна;
Все солдатушки призадумались,
Призадумавшись, горько всплакали.
Велико чудо совершилося:
У солдат слезы градом сыпались.
Не люта змея, кровожадная
Грудь сосала их богатырскую,
Что тоска грызла ретиво сердце,
Ретивы сердца молодецкия.
Не отцов родных оплакивали
И не жен младых и не девушек,
Как оплакивали родимую
Мать родимую, мать кормилицу
Златоглавую Москву милую,
Разоренную Бонапартием...
Николай Ильин
Песня Петербургских жителей на отъезд Царицы-Матушки к Царю-Батюшке (1813 г.)
Понесися по поднебесью
Птица милая, Голубушка!
Что лети, лети сизо-крылая
На сторонушку, на далекую,
На далекую, иноземную,
Ко быстрой реке - прямо к Реину...
Народная песня,
посвященная храброй Русской гвардии (1814 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не летать-было черну ворону
В леса мирные возмущать покой;
Не ходить-было гаду Корсики
На святую Русь с злобным помыслом:
Орел Севера соколов пустил,
И без крыльев стал Корсиканский вран.
Песня ратников Санктпетербургского ополчения (1814 г.)
Не труба трубит звонка золота,
Как возговорит православный Царь:
Ох вы Русские добры молодцы,
Вы седлайте все ретивых коней...
М. Шуленников
Пушкин тоже отдал свою дань этой моде, только... Томашевский в 1956 году не посмел бы, додумайся он тогда (а может, он и додумался), написать, что отрок Пушкин и тут посмеялся - на этот раз - не то чтоб над шишковистами - шире: вообще над патриотами. А я, в 1999-м, имею возможность это написать.
Датирование “Бовы” опирается на следующие строки:
Вы слыхали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого,
Всюду пролетал с победою,
Мир крещеный потопил в крови,
Не щадил и некрещеного,
И, в ничтожество низверженный
Александром, грозным ангелом,
Жизнь проводит в унижении
И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы императором:
Вот таков-то был и царь Дадон.
Наполеон был побежден. Пока шли битвы этот насмешник Пушкин все-таки не позволял себе смеяться над самым святым - освободительной войной.
Только раз, в том же 1814-м году, в послании “К другу стихотворцу” промелькнуло облегченное отношение к битве двухгодичной давности. Наполеон тогда, вторгшись в Россию, сделал было движение в сторону Петербурга. И лицей из Царского Села чуть было не перебазировали севернее. Но русские войска под командованием Витгенштейна провели на этом направлении успешную операцию. И Наполеон больше не помышлял о Петербурге. Лицей не перевели. А лицеисту можно было б и не шутить с именем Витгенштейна. Но...
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштеину французов побеждать...-
подначивает он сомнительного поэта Ариста, без пиетета используя имя героя Отечественной войны.
Теперь, после заточения Наполеона на Эльбу, можно было себе позволить уже поиздеваться над искусством, обслуживавшим патриотический подъем русского народа, подъем, продливший - между прочим - ему крепостничество еще на полвека.
Больно стало доброй девушке.
“Чем могу, скажи, помочь тебе,
Я во всем тебе покорствую”.
- “Вот что хочется мне, Зоинька!
Из темницы сына выручи,
И сама в жилище мрачное
Сядь на место королевича,
Пострадай ты за невинного.
Поклонюсь тебе низехонько
И скажу: спасибо, Зоинька!”
Зоинька тут призадумалась:
За спасибо в темну яму сесть!
Это жестко ей казалося.
Но, имея чувства нежные,
Зоя втайне согласилася
На такое предложение.
Русский народ не откликнулся на обещание Наполеона отменить крепостное право. Абсурд с какой-то точки зрения. И тут “автору” “Бовы”, конечно же, очень и очень годился пример Вольтера, в нагромождении абсурдов - в “Орлеанской девственнице” - поиздевавшегося над национальной гордостью Франции, Жанной д`Арк и освободительной войной французского народа в их извращенном попами описании.
Но вчера, в архивах рояся,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизис остроумия,
Словом: Жанну Орлеанскую.
Прочитал,- и в восхищении
Про Бову пою царевича.
Наверно, в “Бове” Зоя, царицына служанка, была призвана освободить - только не от внешних тиранов, как Жанна д`Арк - от англичан - и не страну, а царевича Бову и от тирана внутреннего, царя Дадона, столь похожего на жестокого Наполеона; и, опять наверно, хотела она, как лучше, получилось же - как всегда (популярная у нас поговорка, теперь - особенно). Впрочем, мы не узнаем, что в поэме должно было быть. Пушкин ее не кончил. Видно, слишком уж остро все повернуть был он должен, если б кончил.
Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою,
Но убив царя законного,
Бендокира Слабоумного.
Александр I способствовал же убийству Павла I, своего отца... И не схлопотал ли б Пушкин наказание от Александра I на восемь лет раньше, доведи он “Бову” до конца в том же издевательском роде, как он это позволил себе в отношении Государственного совета?
То-то, право, золотой совет!
Не болтали здесь, а думали:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Громобурь, известный силою,
Но умом непроницательный,
Думал, думал и нечаянно
Задремал... и захрапел в углу.
Что примера лучше действует?
Что людьми сильней ворочает?
Вот зевнули под перчаткою
Храбрый Мировзор с Ивашкою,
И Полкан, и Арзамор седой...
И ко груди преклонилися
Тихо головами буйными...
Глядь, с Дадоном задремал совет...
Захрапели многомыслящи!
Впрочем, это “автор” так у него изгаляется. А что думал автор без кавычек, нам, повторяю, не узнать. Может, он организовывал там осмеивание других - не шишковистов, а поэтов-радищевцев, тоже радетелей стилистической архаичности в составе русской литературной речи. Свобода народа - двусмысленное понятие. А мы уже видели, как Пушкин мастерски играл на двусмысленностях. Может, он зубки точил и на этих радетелей свободы народа. Взял же он название для поэмы такое же, какое взял когда-то и сам Радищев. Балуется же он иносказательно, как Радищев в “Бове”, с чем? - “
с проблемами современной государственной власти” (В. А. Западов). А чтоб мы обратили на это внимание, прибег же к прямой подсказке:О Вольтер!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею музою!
Петь я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли с Радищевым?
Это как сам Радищев в своем “Бове”, опубликованном радищевцами на несколько лет раньше, чем Пушкин приступил к своему:
...Но с ним может ли сравниться!!
О Вольтер, о муж преславный!
Если б можно Бове было
Быть похожу и кое-как
На Жанету, девку храбру,
Что воспел ты, хоть мизинца
Ее стоить, если б можно,
Чтоб сказали: Бова только
Тоща тень ее,- довольно,-
То бы тень была Вольтера,
И мой образ изваянный
Возгнездился б в Пантеоне.
Но боюся...
“И не зря!”- можно подумать, сравнивая архаически тяжеловесного Радищева с порхающим Пушкиным.
И над народным легкомыслием тоже Пушкин мог потешаться. Что делает Зоя, согласившись на подвижничество?
- “Я клянусь!” - сказала девица.
Вмиг исчезло привидение,
Из окошка быстро вылетев.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила тут окошечко
И, в постели успокоившись,
Скоро, скоро сном забылася.
От этого шутника, волченка отрока Пушкина, всего можно ждать в 1814-м году.
СЕМНАДЦАТОЕ
Впрочем, тот факт, что он попал в компанию одинаково вырванных из семей соучеников, лицеистов, и что завязалась дружба с некоторыми из них, - все это влияло. И когда, однажды, он заболел, попал в лазарет надолго и оказался от товарищей изолированным - его потянуло не насмехаться надо всем и вся, а - к единению. И он сочинил “Пирующих студентов” (1814 г.).
А в чем тогда состоял фон настроений единения? - В единении защитников отечества, в единении граждан с армией. И Пушкин взял для своего стихотворения размер “Певца во стане русских воинов” Жуковского. Жуковский в том своем произведении изменил себе, романтику. А Пушкин - себе, насмешнику.
Нет, “автор” и тут продолжает смеяться и заставляет пьяного от одного предощущения попойки “я”- рассказчика язвить. Над всеми любимым преподавателем эстетики, Галичем:
Душа твоя в бокале.
Над своим лучшим другом, Дельвигом:
...ленивец сонный!
Над неразборчивостью Илличевского:
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.
Над общей серостью Броглио:
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее - завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
Но скромность почитаю...
Над вспыльчивостью Пущина:
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся...
Над бесталанностю Яковлева:
Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь...
И так далее. И - над собой, пыжащимся веселить собрание каким-то бесконечным стихотворным тостом:
Где вы, товарищи? где я?
Скажите, Вакха ради...
Вы дремлете, мои друзья...
Но “я” всех (и себя заодно) по-пьяному любит. И от сшибки противочувствий переживаешь, по Выготскому, катарсис - чувство непьяной, истинной любви к своим: любят-то - не за достоинства, а... потому что любят и все. И нет здесь большого отличия между автором и его рупором - это уже не реализм.
Так одинокий волченок стал превращаться в одержимого общим интересом. Лично одержимого.
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ
И вскоре это прорвалось вовсю.
Достойный внук Екатерины!
Почто небесных аонид,
Как наших дней певец, славянской бард дружины,
Мой дух восторгом не горит!
О, если б Аполлон пиитов дар чудесный
Влиял мне ныне в грудь! тобою восхищен,
На лире б возгремел гармонией небесной
И воссиял во тьме времен
!О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй,
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,
Взгреми на арфе золотой!
Да снова стройный глас герою в честь прольется,
И струны трепетны посыплют огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.
Надо ввести в курс контекста этих стихов (ими кончаются “Воспоминания в Царском Селе” (1814 года), чтоб стало ясно мое предуведомление о личной одержимости общим.
Из комментариев:
“...Жуковский сочинил хвалебное послание к Александру I и переслал его А. И. Тургеневу. Вероятно, от Тургенева Пушкин получил рукописный текст этого послания и, побуждаемый Тургеневым, добавил две хвалебные строфы об Александре I и Жуковском.”
Пушкин и раньше, мы видели, сравнивал себя со знаменитыми поэтами, художниками. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это игра той или иной его литературной маски. А тут иное - тут ото всей души. Он всерьез замахивается на бессмертие своего творчества. И я приведу пока биографический довод его искренности.
Есть и такой комментарий к процитированным двум строфам:
“Стихотворение было написано... для переводных экзаменов с младшего курса (первого трехлетия) на старший... Когда выяснилось, что на экзамене будет присутствовать Державин, Пушкин... приписал две последние строфы...”То есть заявку на вечность юноша сделал как бы обращенной к высшему тогдашнему поэтическому авторитету. И соотношение между военным триумфом России настоящего момента, описываемого поэтом в надежде на собственный триумф, и прошловековым военным триумфом России с ее бардом, Державиным, уже добившимся бессмертия,- это соотношение представлялось прямой аналогией. Сравните c соответствующей строфой:
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Гром там и там - слава поэтическая равна военной...
Так вот что написал Пушкин много времени спустя о декламации именно этой и последующих строф:
“Я прочел мои Воспоминания в Царском Селе, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел
я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...-Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...”
Не только между лицеистом-декламатором и лирическим героем, но и между поэтом и его рупором-героем расстояние минимально. Такая огромность, как слава России, воспринимается и описывается, как собственная, и перекликается с предчувствуемой собственной.
Это - о биографической стороне дела. Она легче всего воспринимается неподготовленным читателем, но имеет лишь подсобное значение для людей, задумывающихся глубоко.
И лишь неподготовленный читатель (мнением которого, тем не менее, любой художник всегда дорожит едва ли не больше всего) может подумать, что Пушкин здесь, став искренним в своем тщеславии, решил пойти по стопам старших- Державина, Жуковского - и снискать славу на злободневности: колоссальных военных победах России.
Казалось бы, действительно:
“Василий Петров... писал оды А. Г. Орлову (1771), П. А. Румянцеву (1775) и на отдельные победы Суворова (1790, 1795); о подвигах Румянцева и Суворова неоднократно писал Державин” (Примечания к полному собранию сочинений Пушкина). Действительно: “ “Певцу во стане русских воинов” Жуковский обязан своею славою: только через эту пьесу узнала вся Россия своего великого поэта” (Белинский). Толпа была патриотической, поэты ей потрафляли, она в ответ их славила.Но Державин - новатор. Он едва ли не первым (если не первым) в России освоил оссиановский стиль - в славословиях указанным полководцам-современникам. Высшего же художественного совершенства он достиг в оде “Водопад”. И Пушкин, в цитировавшемся только что воспоминании о Державине, не зря написал: “Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг выскочил на улицу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую “Водопад” ”. Лицеисты - не толпа и знают, за что на самом деле надо ценить Державина.
А тот “Водопад” написан об умершем в Румынии Потемкине, главнокомандующем армией, которой была поставлена стратегическая задача завоевать не только земли, названные потом Новороссией, но и Балканский полуостров. И Потемкин у Державина стал не только персонификацией военной разнузданности России, но и, как оссиановские гиганты, образом принципиальной разнузданности личности, ценящей превыше всего себя, и ценящей - тем выше, чем она способна острее переживать, а острее получается - в виду смертельной опасности, на грани жизни и смерти.
Так за что в своем стихотворении, в первой половине, где речь о XVIII веке, почитал юный Пушкин Державина: за содержание или форму, - когда о Потемкине умолчал, а оссиановский колорит ввел? - Он применил оссианизм не для воспевания индивидуализма, а наоборот - соборности, похвалы “родине драгой”. И применил - именно оссианизм, а не классицизм Петрова и того же Державина (когда тот писал о Екатерине II). В оссианизме Пушкина манила аура ценности личного переживания, классицизм же отталкивал за безличность.
Вот вам разница между славой поэта у толпы и у сведущего.
Жуковский - по свидетельству Белинского - тоже громкой славы достиг не за художественные открытия. Его новаторским вкладом в русскую литературу - по Гуковскому - было открытие стиховых связей поверх синтаксических. Слово ведь помимо основного значения имеет ауру второстепенных значений. Они были закрыты для классицизма, идеализирующего разум, а следовательно, напирающего на логику и главное значение слова. И когда эпоха Просвещения катастрофически кончилась ввиду ужасов ею порожденной революции - что осталось у человека среди поверженного мира разума? - Собственное “я”, душа, не столь ясная субстанция, какой казался мир разума. Для ее-то, души, выражения как раз лучше годились неосновные значения слов, лучше - ассоциации, чем силлогизмы.
Еще Макферсон, при первых потрясениях идеалов Просвещения, своими “Поэмами Оссиана” делал ранние движения в том же направлении: своими туманами, ночным мраком и т. п., - а Державин в России ему вторил. Следующее, послереволюционное поколение, - Жуковский - довел эту тенденцию до максимума.
В России общественные катаклизмы на Западе сперва отдавались лишь слабым эхом. Где уж было толпе понять пессимистический солипсизм Жуковского? (Солипсизм - воззрение, что достоверны лишь собственные ощущения.) Толпа Жуковского услышала лишь когда он забыл про свое “я” и откликнулся на войну. И там уже ему было не до размытости души и иных значений слов, кроме главного.
А Пушкин был уже из следующего поколения. У него не было веры и разочарования. Он еще озирался и только начал приобщаться к вере. И военный патриотизм,- по малости лет,- еще не мог им переживаться лично и вполне, коль скоро он не удрал на войну с проходящими мимо лицея войсками.
Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..
Зато теперь, после победоносной войны, было кое-что, выраставшее из патриотизма, и обещавшее стать не менее захватывающим, чем народная освободительная война с иноземным захватчиком. Это было освобождение народа от крепостничества и общества - от самодержавия. И этому, общему, стоило отдаться лично!
И было к кому примкнуть.
Еще с первых наполеоновских войн в Европе возникли национально освободительные движения. И это отражалось в искусстве. Предательство Наполеоном идеалов французской революции питало гневом тех наследников этой революции, которые не умели смиряться. Революции шли и в Америке. И самые
политически передовые и радикальные россияне отражали эти настроения еще задолго до рокового 1812-го года. Например, “Перуанец к испанцу” Гнедича (1807 г.):Но что? и кровью ты свирепств не утолил;
Ты ад на свете сем для нас соорудил,
И адскими меня трудами изнуряя,
Желаешь, чтобы я страдал не умирая;
Коль хочет бог сего, немилосерд твой бог!
Свиреп он, как и ты, когда желать возмог
Окровавленною, насильственной рукою
Отечества, детей, свободы и покою -
Всего на свете сем за то меня лишить...
...Так, в правом мщении тебя я превзойду;
До самой подлости, коль нужно, низойду;
Яд в помощь призову, и хитрость, и коварство,
Пройду все мрачное смертей ужасных царство
И жесточайшую из оных изберу,
Да ею грудь твою злодейску раздеру!
Курсивом здесь выделено то, что выделил Гуковский, для доказательства принадлежности этого стихотворения к романтизму:
“романтический принцип семантики (отношения к ореолу смыслов слова) в таких стихах вырастает на одной основе с романтическим принципом стиля Жуковского... Подбор слов определенной тональности: свирепств, ад, адскими, изнуряя... и т. д. и т. д. - этот подбор строит определенную картину психологического состояния - правого социального гнева... Великая страсть героя стихов - их тема”.“Декабристское стихотворение, появившееся до самого декабризма!”- Так можно сказать о “Перуанце к испанцу”, и именно так говорит Гуковский о пушкинском “К Лицинию” (1815), да и, собственно, о Бородинском сражении из “Воспоминаний в Царском Селе”. Огромное переживается как свое. И не понадобился крах просветительского идеала в и после Французской революции, чтоб, как у Жуковского, я перевесило мир и потребовало привлечь полисемантизм слова.
Так кто ж его открыл - полисемантизм слова - для русской поэзии? - Чтоб разрешить некоторую путаницу у Гуковского, я предложу такую мысль: для неосознаваемой практики открыли его сентиментализм и оссианизм - предромантизм, одним словом, а в осознаваемом и колоссальном масштабе - Жуковский, суперэгоистический романтизм.
Поэтому вторая половина “Воспоминаний в Царском Селе”, о XIX веке, увенчана Жуковским.
Первая половина, о XVIII веке, давала Пушкину возможность изобразить дело как личное переживание потому, что описывался парк Царского Села, где был и лицей и многочисленные памятники, воздвигнутые в честь военных побед эпохи Екатерины II. Они в юном поэте вызывали исторические воспоминания, и естественно было его лирическому герою тоже петь “Воспоминания”: ведь лирический герой и автор теперь у юного Пушкина не расходились далеко.
А чтоб исторические воспоминания о коротком еще XIX веке (кроме воспоминаний о еще несгоревшей Москве его детства) связать с собой, лицеистом, надо было иметь в виду те волнующие идеи о свободе и равенстве, которые он узнавал от Куницына, преподавателя нравственных и политических наук в лицее. Тот говорил, что помощь царю в отпоре Наполеону это молчаливый аванс русского крестьянства и всего народа в надежде на отмену крепостничества и на конституцию.
Для Жуковского воображаемое посещение театра военных действий против Наполеона было поводом для хоть и необычного, но все же индивидуально-психологического этюда. Пушкин тоже мог вообразить, что угодно. Но теперь одно воображение его уже не удовлетворяло. А свободолюбивые ассоциации от освободительной войны и бе`з посещения воюющей армии могли его волновать. И об этом можно было свободно писать, если ввести эти ассоциации в подтекст, во второстепенные значения слов, в чем неподражаем был Жуковский.
Волновали ль Пушкина в 1814 году свободолюбивые социальные идеи?
“В выпускном дипломе Пушкина только два литературные предмета (да еще фехтование) оценены высшей отметкой. Третий литературный предмет и политическая экономия оценены средней отметкой. Прочие предметы, в том числе почти все, преподававшиеся Куницыным, получили низшую отметку (в вежливых выражениях выпускного свидетельства эта оценка формулирована как “хорошие успехи”, но из годовых и экзаменационных отметок мы знаем смысл данной формулы). Наконец, все предметы, преподававшиеся Карцевым, Кайдановым и Гауеншильдом, просто не удостоились отметки”. (Томашевский).
Не похоже, чтоб будущий общепризнанный гений обещал быть глубоким человеком. Видно, нельзя ориентироваться по его диплому. А если сколько-то и можно,- относительно лекций Куницына, имеющих отношение к интересующим нас свободолюбивым социальным идеям,- то на все же
“хорошие успехи” по ним. Во всяком случае, он эти идеи явно взял в свой писательский оборот.“Воспоминания в Царском Селе” написаны в конце 1814 года. А к тому же году относится написание им несохранившегося романа “Цыган”. Вот что пишет о нем Томашевский, отправляясь от Гаевского, который ссылался на слова Яковлева, соученика Пушкина по лицею:
“Что касается романа, то, принимая во внимание моду времени, а также литературу, которой напитан был с детства Пушкин, можно предполагать, что так названа была философская повесть небольшого размера в духе просветительской литературы XVIII в. Вряд ли это был большой роман: на то не хватило бы ни сил, ни терпения у начинающего автора. Вероятно, цыган - герой романа - попадал в чуждую ему среду европейской цивилизации, и в его простодушных суждениях вскрывались противоречия, свойственные “цивилизованному” обществу. Таков был канон сатирического философского романа просветительского периода (ср. “Простодушный” Вольтера)”.
“Простодушный” - трагическая вещь, вызывающая чувство горечи от бессилия перед несправедливостью власть имущих. Именно такие произведения и подхлестнули к свершению Французской революции. Это вам не иносказательный радищевский “Бова”, которого автор почти всего сжег.
Есть свидетельство Пушкина, что через год после “Воспоминаний в Царском Селе” он писал третью главу - “Право естественное” - философского романа “Фатам” (он не сохранился).
“Естественное право являлось своеобразной философией права, трактовавшей о неотъемлемых правах человека, о происхождении гражданского общества, об отношении государственной власти и народа... Естественное право, наука по преимуществу политическая, преподавалась Куницыным в 1815/16 г... Повидимому, Пушкин был увлечен лекциями по естественному праву...” (Томашевский).“Цыган” и “Фатам” могут быть намеками на движение идеала Пушкина по пути от непринадлежности “ни к какой доктрине” к явной принадлежности к одной, прореволюционной. Намеки могут быть, могут и не быть - романы не сохранились.
Но то, что увидел Гуковский в “точке” между “Цыганом” и “Фатамом” - в изображении Бородинской битвы в “Воспоминаниях в Царском Селе”,- впечатляет. Впечатляет тем более, что, оказывается, сам Александр I, хоть и частично, был тоже тогда прогрессивен:
“...необходимо подчеркнуть общеисторическое положение вещей: в начале XIX века национально-освободительная борьба во всей Европе была прогрессивным фактором истории, независимо от субъективных намерений... Александра I... Характерно, что даже правительства крепостников
[Пруссии, Австрии], в частности правительство Александра I, очень хорошо видели это. Ведь не случайно манифесты Александра и официальные документы 1812 года вообще широко использовали не только идеи и символы национальной независимости, но и символику, в данной связи революционную. Отсюда Наполеон - это тиран... И когда Александр в 1812 году не столько боялся армии Наполеона, сколько своего народа, и ставил глубоко в тылу войска для усмирения этого народа,- он боялся не только пропаганды идей буржуазной революции, исходившей от армии генерала Бонапарта, но, может быть, еще больше пропаганды свободы, шедшей от него самого, от Александра, боялся подлинного народного подъема в борьбе за независимость, за свободу страны, ибо от этой борьбы до борьбы за свободу народа не было даже шага, а тираном был не только Наполеон, но и сам Александр....Насколько Пушкин усваивал традицию патриотической поэзии, сыгравшей для него роль преддекабристской поэзии, видно из центрального эпизода “Воспоминаний в Царском Селе”, включенного в эту традицию...
Cтрашись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны
;Восстал и стар и млад: летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены.-
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя...
Ретивы кони бранью пышат,
Усеян ратниками дол,
За строем строй течет, все местью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.
Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
И се - пылает брань; на холмах гром гремит,
В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,
И брызжет кровь на щит.
Вера и царь встречаются и позднее в стихах декабристского круга. Вера навсегда осталась близка многим из декабристов, и даже царь, конечно, не всякий, не всегда пугал их. Но борьба с тираном у юноши Пушкина сочетается со всей грозной и громкой патетикой битв, с пафосом мести, не боящейся крови,- и поэтическая терминология Пушкина - рать, сыны, мщенье, тиран, ратник, победить или пасть, месть, слава, восторг, меч... - это терминология специфически суггестивная
[внушающая, как и полагается романтику, в пику убеждающей нацеленности классициста]; за ней стоят образы битв за свободу... и в перспективе те образы, которые овевали величием будущий подвиг декабристов...” (Гуковский).Я потому так подробно-последовательно подводил к мнению Гуковского, что оно давнее (еще советских времен - 1946 года), и его теперь подвергают ревизии. Гуковский такие произведения, как цитировавшиеся здесь - Гнедича и Бородинский бой в “Воспоминаниях в Царском Селе” - называл представителями гражданского романтизма. А этому термину теперь отказывают в существовании. Подсознательно удовлетворяется социальный заказ реформаторов эпохи перестройки и реставрации капитализма в бывших странах социализма: пусть термин романтизм с его возвышенной аурой остается закрепленным только за индивидуализмом, как простейшей идеологической формулой капитализма. Консерваторы тоже согласны: пусть воинствующе-низкое, эгоистическое - романтизм - остается исключительно за реакцией искусства на Великую Французскую революцию. Я же,- смею думать, не конъюнктурщик,- хотел бы, чтоб понятие гражданский романтизм сохранилось. С его помощью, вот, “Воспоминание в Царском Селе” обрело более глубокий смысл, чем прочтение в лоб: мол, оно о патриотизме и не больше.
Это первое произведение Пушкина, которое при публикации было подписано его именем. Многозначительное совпадение: начался новый период творчества.
Пушкин продолжал еще по инерции шалить и шутить своей поэзией. Но одно за другим среди этой несерьезности и бестенденциозности появляться стали искренние и заангажированные произведения, относящиеся к гражданскому романтизму: “Лицинию” (1815 г.), “Наполеон на Эльбе” (1815 г.), “Александру” (1815 г.), “Принцу Оранскому” (1816г.).
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ
Рядом с такими вещами должны бы, - по той логике, что наступило в его мироощущении гармоническое сочетание личного с социальным,- должны бы появиться стихи о серьезной глубокой любви лирического героя к достойной всяческого уважения женщине. И естественнее всего - в соответствии с оптимистическим пафосом российского гражданского романтизма (Россия же шла к своей революции - декабристской) - должны бы появиться стихи о любви разделенной.
Но... пришел же период искренности. А такой любви не было. Пушкин был некрасив (
“vrai singe par sa mine” - сущая обезьяна лицом, как сам о себе он писал). И - вы не найдете таких стихотворений у поэта.Косвенным доказательством его тогдашней настроенности именно на одухотворенную любовь является стихотворение “К молодой актрисе” (1815 г.). Оно все наполнено сшибками картинок бездарности героини и ее привлекательности. Например:
Когда в неловкости своей
Ты сложишь руки у грудей,
Или подымешь их и снова
На грудь положишь, застыдясь;
Когда Милона молодого,
Лепеча что-то не для нас,
В любви без чувства уверяешь;
Или без памяти в слезах,
Холодный испускаешь ах!,
Спокойно в кресла упадаешь,
Краснея и чуть-чуть дыша,-
Все шепчут: “Ах! как хороша!”
Увы! другую б освистали:
Велико дело красота.
О Хлоя, мудрые солгали:
Не все на свете суета.
Что: “все” не могут ошибаться? Что: лирический герой прав, всецело перейдя на их сторону?
Но смотрите до какой крайности автор довел своего лирического героя:
Пленяй же, Хлоя, красотою!
Стократ блажен любовник тот,
Который нежно пред тобою,
Осмелясь, о любви поет,
В стихах и прозою на сцене
Тебя клянется обожать,
Кому ты можешь отвечать,
Не смея молвить об измене;
Блажен, кто может роль забыть
На сцене с миленькой актрисой,
Жать руку ей, надеясь быть
Еще блаженней за кулисой!
Ведь искусство есть не принуждающая жизнь, а непринужденное испытание сокровенного мироотношения (Натев). И если перед нами живописуется перетекание театра в жизнь и сопереживание лирического героя этому, то, получается же, что автор довел того до роли кобеля, предвкушающего свою очередь на собачьей свадьбе. И от такой крайности вдруг понимаешь, какая страсть породила это стихотворение, эти ежестрочные перепады от язвительной трезвости к ослепляющему упоению: жажда одухотворенной любви.
И здесь уже нет литературной маски на авторе.
Романтическая искренность прорывается по всему фронту: от темы политики до темы любви.
СОРОК СЕДЬМОЕ
Юноша Пушкин, повидимому, полюбил-таки в этот новый период своей жизни, и, наверно, - фрейлину Катерину Бакунину, сестру одного из лицеистов, часто навещавшую брата. Да вот любовь эта была, очевидно, несчастная. И стихи, вызванные непосредственно ею, Пушкин никогда не печатал. Они вылились у него в дневнике 1815 года:
“29 <ноября>
И так я счастлив был, и так я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!...
Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волненьем стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу - ее не видно было! - наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею [дописано: на лестнице
], сладкая минута!...Он пел любовь - но был печален глас,
Увы! он знал любви одну лишь муку
Жуковский
Как она мила была! как черное платье пристало к милой Б!
Но я не видел ее 16
[исправлено на 18] часов - ах! какое положение, какая мука.- - -Но я был счастлив 5 минут - - ”
Здесь предельно сближены автор и лирический герой. В собраниях сочинений стихотворение печатают иначе: не “И так”, а “Итак”. Получается как-то сухо, по бухгалтерски, общо. А в дневнике эти “И так” - не без иронии и конкретны. Безусловно счастье еще раз увидеть любимую на лестнице. Но оно и относительно: всего лишь - увидеть.
Это романтизм... Как у Парни, впервые в мире свои письма включившего в собрание своих сочинений: “я” - всепоглощающе.
Однако, это ж уже совсем другой романтизм! Не гражданский, коллективистский, а индивидуалистический, психологический. Мог ли уже искренний Пушкин так легко перепорхнуть с одного на другое, как это было, когда он надо всем смеялся?
Нет.
С. А. Фомичев заметил, что временами “Пушкин ощущал угасание поэтического дара. См., например, стихотворение “Любовь одна - веселье жизни хладной” (1816):
К чему мне петь? под кленом полевым
Оставил я пустынному зефиру
Уж навсегда покинутую лиру,
И слабый дар как легкий скрылся дым.
Эпилог поэмы “Руслан и Людмила” (1820):
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов яркий день протек -
И скрылась от меня навек
Богиня тихих вдохновений.
Стихотворение “Рифма, звучная подруга” (1828):
Рифма, звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда,
Ты умолкла, онемела;
Ах, ужель ты улетела,
Изменила навсегда?
На самом же деле эти признания - лишь предвестие коренных преобразований в творчестве Пушкина.
Таким образом, хронологически совершенно отчетливо намечаются шесть периодов творческого развития Пушкина в следующих временных границах: 1813-1816 гг.; 1816-1820 гг....”
А что если у периодов есть полупериоды? Как в синусоиде. Что если унылые элегии ( а было время,- 1816 год и около,- когда он ничего, кроме них не писал), что если они - романтический спуск после гражданско-романтического подъема конца 1814- середины 1815 годов?
И что если признания об угасании поэтического дара являются не
предвестиями коренных преобразований в творчестве, а отчетами, сделанными уже после очередного преобразования?Тогда перелом от так называемого гражданского романтизма к так называемому психологическому романтизму, можно предположить, был у Пушкина мучительным и сопровождался творческой паузой. Иное дело, что при общей стремительности его, Пушкина, творческого развития и пауза была короткой и из нашего далека неразличимой.
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ
Выбор для себя литературного направления, стиля порождается мироотношением художника, его идеалами. А последние не остаются неизменными в меняющейся жизни. Но поменять жизненные ценности и любому человеку трудно. Художнику - особенно: их же надо еще и выражать, и - как-то иначе. Будет ли удаваться?. . Не сломаться бы...
Юный гений Пушкина о такой возможности, наверное, смутно догадывался. Догадывался еще тогда, когда от бестенденциозности и насмешек надо всем его потянуло (первый перелом) - к искренности, к товариществу, к социальным ценностям. Не боялся ли он уже тогда утратить поэтический дар? Не случайно ли он именно тогда написал послание “К Батюшкову” (в 1814 году, вскоре после “Пирующих студентов”)?
Перелом тогда переживал и Батюшков. Он участвовал в изгнании Наполеона из России, в освобождении Европы, во вступлении русских в Париж. Но эта война его добила. Он и раньше бежал от мерзкой жизни - в мечту, в асоциальную страну наслаждений. Однако теперь!..
“Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством”,-
писал Батюшков еще перед уходом на войну. И участие в ней не убавило его удрученности: “Какое благородное сердце захочет искать грубых земных наслаждений посреди ужасных развалин столиц, посреди развалин, еще ужаснейших, всеобщего порядка и посреди страданий всего человечества, во всем просвещенном мире?”Пушкин что-то почувствовал. В “Пантеоне русской поэзии” 1814 года Батюшкова публиковали, но все - стихи прежних лет...
Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?
И юноша Пушкин, “безвестный в мире сем поэт”, начинает учить маститого, но умолкнувшего собрата по перу. Это красиво?
А это не Пушкин, это проявляет себя образ автора. Тот перечисляет темы, которых касался Батюшков, жанры, в каких он выступал: чувственные наслаждения, военную героику, эстетические битвы - легкую поэзию, оды, сатиры. И кончает:
Доколе, музами любимый,
Ты пиэрид горишь огнем,
Доколь, сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,
Мирские забывай печали,
Играй: тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.
Назон это древнеримский поэт Овидий, который - хватает одного такого замечания - воспевал желание перелюбить всех женщин, сколько их ни есть. Эрот, грации (три богини красоты у древних римлян: Аглая, Евфрозина и Талия) - того же поля ягоды...
Первое впечатление такое, что “безвестный в мире сем поэт” тихо-тихо намекает, мол, вернись, Батюшков, к своему настоящему призванию - к легкой поэзии, и все образуется.
Поэт! в твоей предметы воле!
-восклицает лирический герой по поводу военной героики Батюшкова и в сноске пишет:
Кому не известны Воспоминания на 1807 год
?Та вещь у Батюшкова автобиографична; он был тяжело ранен в сражении под Гейльсбергом, и его случайно спасли. Так вот он, выживший и вышедший, вместе с армией и - победителем в том сражении, не волен был стать победителем в проигранной войне. Поражение в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов все помнили. В чем же поэтическая воля? В воспевании воли к смерти?
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.
Сомнительный совет творчески умолкнувшему Батюшкову... Как сомнительно, что и Жуковскому пристало быть певцом славы.
Сомнительно, что “автор” вообще понял Батюшкова. Там, в “Воспоминаниях 1807 года”, воспевается совсем не военная героика, а действительно всевластные мечты поэта, цветами устилающие мрачный путь его жизни: и на поле завтрашней брани, которое завтра устелят трупы, и в разлуке с вы`ходившей его после ранения девушкой, подарившей ему и его жизнь и свою любовь.
Ладно, пусть “автор”-советчик не понял Батюшкова. Так, может автор без кавычек другое не понимает: что ж теперь Батюшкову помешало по-прежнему находить выход из жизненных невзгод в поэтических мечтах и воспоминаниях?
Все, все позволено поэту
-продолжает советчик по поводу литературно-критических сатир Батюшкова, но здесь же мелькает, что не “все, все”
:И, если можно, нас исправь...
Зато в следовании за Назоном действительно можно “все, все”. И не потому, что это естественно и общепринято. Наоборот: не принято и многих возмущает. Так тем лучше. Ибо “все, все” в этой области позволяет Батюшков себе лично и тем бесит безнадежно пошлое и скучное окружение, бесит в отместку за “мирские печали”, которые неминуемы человеку, невписывающемуся в это окружение.
Батюшков был давним знакомым семьи Пушкиных. И Александр мог что-то слышать о жизненной неприспособленности и неустроенности Батюшкова.
Так если и “все, все” уже не помогло тому, и он творчески умолк, то какое же новое потрясение произвела в его душе жизнь?! Неужели мыслимо, чтоб юнец давал советы в такой ситуации и не сознавал всю их неуместность? - Противоречие. А порождено оно не написанными словами и мыслями “автора”, а тем, что вдохновило автора без кавычек.
Не советы Пушкина Батюшкову в этом послании, как это читается в лоб, а скрыто-тревожный вопрос: неужели и идейно-эстетический экстремизм не уведет от жизни? или он-то из нее и уводит - в безумие? как оголтелого какого-то шишковиста, сменившего убеждения на еще более крайние?..
Все, все позволено поэту:
Скажи всему, коль хочешь, свету...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что неуклюжий славянин,
Изменник ревностных дружин,
Варяжски песни затевает
Теперь на дудочке простой
И слогом древности седой
В деревню братьев приглашает.
Сошел с ума - и в пастухи!
Вот каково писать стихи!
Вернее, вот признаком чего является прекращение писать стихи.
Это несколько из тридцати строк из рукописи, не попавших в печать. Их не в любом собрании сочинений можно прочесть. И невольная ассоциация возникает: Батюшков сошел же с ума в конце концов... Не чуял ли его будущее... юный Пушкин, не “спрашивал” ли своим посланием “адресата”, а еще вернее - самого себя?
И коль скоро таким видится художественный смысл послания “К Батюшкову”, то понятно, почему после, во всяком случае, первого творческого кризиса Пушкин на экстремизм не пошел и в выкрике о Б<акуниной> тут же указал себе на тихого Жуковского.
СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ
Невозможно проигнорировать доказательства С. А. Фомичева, что настоящего романтизма у Пушкина не было до 1820 года:
“К стихотворениям Пушкина конца 1816 г. вполне применима характеристика, данная им поэзии Ленского: “Так он писал темно и вяло, Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут нимало Не вижу я”. В полном соответствии с пушкинским определением мы и сейчас должны признать со значительными оговорками
[выделено мною] романтическое качество подобной поэзии: в ней лишь присутствуют романтические тенденции, не получающие - в раннем творчестве Пушкина - принципиального воплощения.Проиллюстрируем этот тезис сравнением трех редакций лицейского стихотворения “Я видел смерть; она в молчанье села...” (1816), сохранившихся в Лицейской тетради (1817), в Тетради Всеволожского (1819) и в цензурной рукописи собрания стихотворений (1825). Окончательная редакция (1825) такова:
Подражанье
Я видел смерть; она сидела
У тихого порога моего.
Я видел гроб; открылась дверь его:
Туда, туда моя надежда полетела...
Умру - и младости моей
Никто следов пустынных не заметит,
И взора милого не встретит
Последний взор моих очей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала,
Где жизнь меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Небес лазурная завеса,
Любимые холмы, ручья веселый глас,
Ты утро - вдохновенья час,
Вы, тени мирные таинственного леса,
И все - прости в последний раз.
Эта позднейшая редакция ныне помещается не в основном корпусе сочинений Пушкина, а в разделе вариантов, что вполне правильно, ибо она является по существу автостилизацией.
В редакции 1825 г. мы обнаруживаем обычные общие места (стихотворение потому и озаглавлено просто “Подражанье”) романтической музы, для пушкинской лирики этого времени нехарактерные: мотивы одиночества, упоенности красотой вечной природы, порыв к “тайнам гроба роковым”.
Казалось бы, все это было и в двух ранних редакциях стихотворения, которые лишь сокращены, избавлены от многословия. Однако на самом деле из стихотворения не только вычеркнуты отдельные строки, но исключена ведущая тема (см. редакцию 1817 г.), объяснявшая причину разочарованности героя:
А вы, друзья, когда лишенный сил,
Едва дыша, в болезненном боренье,
Скажу я вам: “О други! я любил...”
И тихий дух умрет в изнеможенье,
Друзья мои,- тогда подите к ней;
Скажите: взят он вечной тьмою...
И может быть, об участи моей
Она вздохнет над урной гробовою.
Мелодраматический мотив вздоха над урной гробовой был исключен уже в редакции 1819 г., которая оканчивалась так:
А ты, которая была мне в мире богом,
Предметом вечных слез и горестей залогом,
- Прости.....все кончилось! безумный пламень мой
Теряет наконец мучительную силу -
Я быстро нисхожу в готовую могилу
С последней радостью, с последнею тоской.
Однако и здесь, как видим, разочарованность в жизни объясняется, главным образом, мучительной (вероятно, неразделенной) любовью. Казалось бы, окончательная редакция стихотворения проигрывает двум предшествующим, так как в ней влечение к смерти не мотивировано. Однако и здесь, как видим, разочарованность в жизни объясняется, главным образом, мучительной (вероятно, неразделенной) любовью. Казалось бы, окончательная редакция стихотворения проигрывает двум предшествующим, так как в ней влечение к смерти не мотивировано. На самом же деле снимается частная (непринципиальная, случайная) мотивировка. Стихотворение насыщается мотивами мировой скорби, не поддающимися логическому объяснению, и это-то придает ему окончательно романтическое качество, снимая налет мелодраматизма и сентиментальности”.
А раз в 1816-м не было романтизма мировой скорби, следовательно, в 1815-м не было гражданского романтизма и Гуковский не прав, получается по Фомичеву:
“Проблема художественного метода декабристской поэзии вообще является камнем преткновения в современной теории романтизма. Никто не пытается отрицать очевидного просветительского качества этого метода
[нормативности, должного] и рационалистичности стиля декабристской поэзии. Но и то и другое или объявляется “привесом” (любопытно было бы представить, что осталось бы от подобного художественного метода и стиля без этого “привеса”), или же определяется как национальная особенность русского романтизма [Россия шла к своей революции после мировой скорби, возникшей от разочарования во французской революции]. Думается, что мы еще никак не можем остыть от тех жарких споров, в процессе которых в советском литературоведении был реабилитирован романтизм в качестве эстетической ценности. Можно представить, что по тактическим соображениям в ту пору невольно были преувеличены предромантические тенденции декабристской поэзии (вот они-то, в сущности, и были тем самым “привесом”, нарушающим абсолютную, невозможную в переходные эпохи чистоту метода и стиля)”.Специалистам странным покажется такое обильное цитирование. А неспециалистам - скучным. Но мне необходимо было согласовать правоту Гуковского с правотой Фомичева. Из этого согласования получились все предыдущие главы. И если для кого-нибудь они представят ценность - мне всё простят, ибо увидят, что я просто хотел быть объективным и пишу для неспециалистов, которые не станут следовать за ссылками, принятыми в ученых статьях для экономии места.
Согласование же состоит вот в чем.
Еще Белинский, разбираясь с этой же переходной эпохой, написал:
“Стороны духа человеческого неисчислимы в их разнообразии; но главных сторон только две: сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца, словом романтика,- и сторона сознающего себя разума, сторона общего, разумея под этим словом сочетание интересов, выходящих из сферы индивидуальности и личности”.
Короче: индивидуализм и коллективизм как идеалы.
А идеалы вдохновляют искусство.
Так если вся история искусства (да и творческая эволюция художника) двигается - от полупериода к полупериоду - между этими двумя главными идеалами временами, условно говоря, вверх, временами - вниз (как синусоида), то мыслимо представить, что, например, у Пушкина на каком-то спаде “синусоида” не слишком низко спускается (как в элегиях 1816 года) и скоро заворачивает вверх, а на следующем спаде спускается гораздо ниже (в романтизм мировой скорби). Мыслимо представить, что у Жуковского его “синусоида” с первого же раза спускается в эту мировую скорбь, но и та не ниже, чем спуск у Батюшкова.
И тогда понятен меньший экстремизм Жуковского по сравнению с Батюшковым и тревога Пушкина за второго (в послании “К Батюшкову”) в 1814 году и тяга к первому (в записи О Бакуниной) в 1815 году. Тогда понятна пушкинская вялость на манер Ленского в 76-й элегии редакции 1816 года и мировая скорбь ее же в стилизации от 1825 года.
Так же по-разному взлетают вверх “синусоиды” классицистов второй волны во Франции времен Великой революции, поэтов-преддекабристов и собственно декабристов в России.
И тогда понятен
камень преткновения, о котором заочно спорят Фомичев и Гуковский. Понятно, почему они по-разному его называют и почему так правы каждый.Много становится понятным с помощью этого инструмента - Синусоиды идеалов. Собственно, без нее не получилась бы и книга.
Осень 1998 - весна 1999гг.
Литература
1 - Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985.
2 - Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX веков. М., 1982.
3 - Воложин С. И. Тютчев и... модернисты, мнимые и настоящие. Одесса, 1995.
4 - Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.
5 - Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
6 - Гозенпуд А. А. А.Шаховской. В кн.: А. А. Шаховской. Комедии. Стихотворения. Л., 1961.
7 - Западов В. А. Александр Радищев - человек и писатель. В кн.: А. Н. Радищев. Сочинения. М., 1988.
8 - Натев Атанас. Искусство и общество. М., 1986.
9 - Охрименко П. П. А. С. Пушкин и украинское народно-песенное творчество. - Филол. науки, 1976, N2 (92).
10 - Прокофьев В. Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения. В кн.: Советское искусствознание ‘77. Второй выпуск. М., 1978.
11 - Прокофьев В. Н.
Федор Иванович Шмит (1877-1941) и его теория прогрессивного циклического развития искусства. В кн.: Советское искусствознание ‘80. Второй выпуск. М., 1981.12 - Сумцов Н. Ф. А. С. Пушкин. Харьков, 1900.
13 - Томашевский Б. В. Пушкин. Книга первая (1813-1824). М., 1956.
14 - Томашевский Б. В. Пушкин и Буало. В кн.: Пушкин в мировой литературе. Сборник статей. Л., 1926.
15 - Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.
ББК 83.3 (2РОС=РУС)1
В 68
УДК 882 (092) Пушкин
Воложин Соломон Исаакович
Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы... - Одесса: ООО Студия “Негоциант”, 1999, - 99 с.
ISBN 996-7423-27-1
Применяя обычно другими неиспользуемый теоретический иструментарий к разбору стихотворений А. С. Пушкина, автор, член Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых, приходит к довольно неожиданным и любопытным выводам об их художественном смысле.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
| В 4603020101 без объяв. | ББК 83.3 (2РОС=РУС)1 |
| 1999 | УДК 882 (092) Пушкин, |
| ISBN 996-7423-27-1 | O Воложин С. И., 1999 |
| O Студия “Негоциант”, 1999 |
Научно-популярное издание
Соломон Исаакович Воложин
ИЗВИНИТЕ, ПУШКИНОВЕДЫ И ПУШКИНОЛЮБЫ...
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
Ведущий редактор
Паевский А. С.
Н/К
Сдано в набор 01.06.99 г. Подписано к печати 08.07.99 г.,
формат 148х210
. Бумага офсетная. Тираж 40 экз.Издательский центр ООО “Студия “Негоциант”
270014, Украина, г. Одесса-14, а/я 90
Конец второй и последней интернет-части книги “Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы…”
| К первой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |
Отклики в интернете |