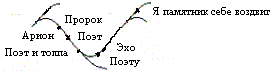
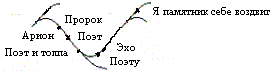
С. Воложин
Пушкин. Измененяющийся
художественный смысл (катарсис от противочувствия) в стихотворениях о поэте
|
Синусоида идеалов – образ изменяющегося художественного смысла в стихотворениях Пушкина о поэте, если осознать катарсис от противочувствия из-за противоречивых элементов стихов. |
Первая интернет-часть книги “Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы…”
С. Воложин
Извините, пушкиноведы
и пушкинолюбы..
Одесса 1999
Предисловие
В интерпретационной критике давно застой.
Уже больше тридцати лет прошло, как стали известны теории Натева и Выготского. Первая - об испытательной (на моральный излом) функции искусства, единственной только ему присущей функции. Из-за нее отношения искусства и нравственности очень не просты (кого-то оно может и сломать), и в научном мире эта теория замалчивается.
На автора второй теории ссылаются очень часто, но практически никогда ее не применяют. Она - о психологической основе художественности: сочувствии, противочувствии и рождающемся от их столкновения открытии художественного смысла произведения. Это как в физике параллелограмм сил: две разнонаправленные силы и их равнодействующая, направленная ни вдоль первой, ни вдоль второй. В искусстве первая и вторая “силы” это противоречащие элементы “текста”, равнодействующая это катарсис: вдохновение, заставляюшее автора применять именно такие элементы, а у нас (читателей, зрителей и т. д.) - озарение, зачем автор их применил.
Чтоб нам открылась душа автора, нужен труд души. И застойщики на него не идут, объявляя наш результат этого труда субъективизмом, ибо художественный смысл оказывается невозможным процитировать (по-ихнему бы и в физике по двум силам равнодействующую не определить). Это как в том классическом примере у Выготского о крыловской басне “Стрекоза и муравей”. Спросите у детей: кто больше им нравится - стрекоза или муравей? Дети, в большинстве, ответят: “Стрекоза”. Тогда как мораль басни - за муравья. Так кто осмеливается произнести, что Крылов - ни за жизненную философию стрекозы, ни - муравья, а - за золотую середину? - Никто. Не принято.
Невесть сколько известны теории циклического развития искусства, анклавного развития искусства (как провинция, спустя время, повторяет то, что было в метрополии), около двадцати лет прошло как Прокофьев напомнил теорию Шмита о спиралевидной повторяемости стилей во времени. Согласно им ничто, в каком-то смысле, не ново под луною, и, подходя исторически, художественный смысл любого произведения (особенно у гениев, отлично чувствующих время) до известной степени предопределен.
“Амикашонство!- Восклицают застойщики и травят подобные умонастроения.- Мы и 200 лет спустя не считаем себя равными, скажем, Пушкину, чтоб сметь с определенностью говорить о том, что он хотел выразить в произведении имярек!”
Так можете ли представить, что увижу, например, я, поднявший все эти валяющиеся без применения теоретические инструменты, и направивший их на стихотворение, как подзорную трубу - в небо, извиняюсь, Галилей? Тут, вроде, и ученым быть не надо - результатом окажутся открытия: как Солнце - с пятнами, Сатурн - с кольцами, Луна - с кратерами, так... Впрочем, прочтете после предисловия сами.
Только не будьте такими же гонителями, какими стали церковники для Галилея.
П А С С А Ж
Моей мечтой было понять какое-нибудь стихотворение Пушкина. "Как?!- Воскликнете.- У него ж все понятно!" Надо вас уведомить, что я десятки лет каждую свободную минуту занимаюсь литературоведением и искусствоведением и давно почерпнул у такого авторитета как Выготский, что если, скажем, художник хочет в изваянии передать живое, теплое, мягкое и одухотворенное лицо, то он возьмет не воск, а мрамор; если в трагедии "Отелло" захочет вывести ревнивца, то возьмет самого доверчивого из мавров и заставит его убить жену, сделав ту женщиной, которая меньше всего может вызвать подозрений; если пожелает потрясти нас страданиями от несчастной любви, то выберет в герои... светского льва, Онегина. И так поступает не только изощренный художник Нового времени - так было всегда. Когда ахейцев чуть было не стерли с лица земли дорийцы, то первые обыграли одну свою неудачную осаду Трои, которая случилась до нашествия дорийцев и от народа, ахейцами часто побеждаемого; свою неудачу они сделали мифом о своей непобедимости - догомеровская "Илиада". Непобедимость Карла Великого в "Песне о Роланде" выражена на материале единственного поражения от басков одного арьергардного отряда Карла. Кино "Огненная дуга" видели? Победа в Курском танковом сражении показана через длящиеся почти весь фильм прорывы немцами одного за другим эшелонов нашей обороны. Вторая из серии "Освобождение" - "Битва за Днепр" - сделана на разгроме нашего батальона, захватившего, как оказалось, ложный плацдарм для форсирования Днепра; а выражает фильм - тоже победу. И нет конца перечислению подобных парадоксов. А у Пушкина?
Помните такие красноречивые слова от имени "Поэта" в одном его стихотворении - "Поэт и толпа" - последекабристских времен?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Надо было услышать в одном докладе, что это стихотворение явилось зародышем для воспевания символистами священного безмолвия, следующего за молитвой, надо было услышать эту несуразицу и возражения ей: "Как?! У Пушкина - зародыш молчания?! Когда все помнят его такие, например, стихи: И неподкупный голос мой / Был эхо русского народа... Или - само стихотворение "Эхо", где поэт всему откликается!.." И надо было услышать, как бездумно приводятся в доказательство столь разновременные стихи - 1818 и 1831 годов, при том, что Пушкин был разным: одним, когда
"вбежал,- по Терцу,- на тонких эротических ножках в русскую литературу", другим, когда примкнул к революционному романтизму, третьим, когда разочаровался в декабризме и открыл реализм - надо было осознать все это, чтобы осенило: Пушкин вряд ли впадал в такие теургические крайности, как символисты, и менее всего - когда стал реалистом, то есть еще до поражения декабристов на Сенатской площади в 1825-м году. И если в "Поэте и толпе" (1828 года) он дал так распуститься своему "Поэту":Не для житейского волненья... -
что многие потом сочли Пушкина самого певцом так называемого "искусства для искусства", то как раз наоборот! Именно на пути наибольшего сопротивления (см. начало), именно при этом экстремистском "Поэте" как раз и можно, кажется, найти обычного Пушкина, немаксималиста.
1828 год. Это - 3 года после восстания декабристов, 2 - после казни пяти из них... И надо посмотреть стихотворения именно этого периода. По диалектической логике продекабристский ТЕЗИС должен был в характерных для того периода произведениях смениться у Пушкина на антидекабристскую АНТИТЕЗУ.
Первые же обращения к литературоведческой пушкиниане подтверждают эту мысль. До Октябрьской революции в литературоведении было распространено мнение, что в 1826 году Николай I великодушно простил Пушкину его политические ошибки молодости и даже сделался его великодушным покровителем. Даже и в советское время можно найти отголоски этого мнения. Так, например, в комментариях к "Поэту и толпе" в издании 1949 года читаем:
"Поводом написания стихотворения (как и стихотворения "Нет, я не льстец...") послужили толки об "измене" Пушкина свободолюбивым идеям." В самом стихотворении "Нет, я не льстец...",- того же 1828 года,- есть знаменательные слова о царе:Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
"ВОЙНОЙ,
- написано в комментариях,- разумеется война с Персией 1826-1828 годов, закончившаяся Туркманчайским трактатом, по которому ханства Эриванское и Нахичеванское были присоединены к России; НАДЕЖДАМИ,- продолжено в комментариях,- возлагавшимися на деятельность "секретного комитета 6 декабря 1826 г.", который должен был заняться обсуждением вопроса о положении крестьян."Я не буду больше искать доказательств дрейфа пушкинского идеала в политической области от революции к эволюции касательно положения крестьян и попробую: нельзя ли что-то от эволюции как-нибудь все же усмотреть в стихотворениях о поэте тех годов. При этом я поставлю себе такое требование: поскольку речь пойдет об общепризнанных шедеврах, я, находя в них пафос эволюции, должен найти, что они соответствуют психологическому критерию художественности (по Выготскому), а именно, что Пушкин раскачивает в противочувствиях переживания читателя, что противочувствия уничтожают друг друга и порождают возвышение чувств - в нашем случае - пафос эволюции.
*
Итак, 1826 год, "Пророк" (мне, как эссеисту, позволительно, думаю, процитировать его с попутной интерпретацией):
Духовной жаждою томим...
В комментариях, обычно помещаемых в конце пушкинского томика, можно прочесть:
"В первоначальной редакции первый стих читается: "Великой скорбию томим", что, может быть, указывает на связь с получением известия о казни декабристов." (Шел 1826 год.) Я же прокомментирую иначе. Раз Пушкин отказался в первой строке от прямого намека на революционеров, значит, пафос стихотворения - не революционный. Дальнейшее это подтвердит.В пустыне мрачной я влачился,-
Декабристская революция побеждена, настроение сочувствовавших ей минорное.
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
Этот может спасти от минора? "Перепутье" здесь, конечно, не только материальное, но и духовное. Последнее же появилось под воздействием идеи, отличной от идеи революции. Что следует за поражением революции? Выбор: или впасть в раж, в запредельное возбуждение, кончающееся торможением, или продолжить борьбу, перейдя в подполье или скрывшись в эмиграции (чтобы, как греческие революционеры в пушкинской России, "обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей" на родине и готовить новую революцию), или смириться с поражением и подумать: что же было не так, и, может, надо выбрать другой путь - эволюции, или, наконец, начать жить лишь для себя. В общем, перепутье - это ситуация после проигравшей революции. А духовная жажда это стремление прогрессивного человека продолжить достойную жизнь. Может, серафим поможет? И, может, целиком положиться на его волю? Мажор...
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он.
"Я" оказываюсь человеком пассивным. "Мною" манипулируют. Это "низко".
Отверзлись вещие зеницы,
Ого! Зеницы стали вещими. Это уже другая крайность - "высокое".
Как у испуганной орлицы.
"Я" испуган. "Мне", положа руку на сердце, не хочется что-то... Орлица не орел... Бросок обратно "вниз".
Моих ушей коснулся он,-
И их наполнил шум и звон...
Снова нечто экстраординарное и достаточно неприятное для простого человека.
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
"Я" явно превращаюсь в неординарное существо, если смогу к этому привыкнуть. Но...
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
Это ж так больно! Тут и необычный человек прийдет в отчаяние!
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
Уста замерли от боли совсем не за других, а за себя. Марионетка не вполне повинуется серафиму.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Это не будущий горьковский Данко, у которого изначально было пылающее сердце и который сам разорвал свою грудь.
Как труп, в пустыне я лежал.
У серафима опыт не удался. Пророка не получилось. Поможет ли нечто большее?
И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".
Противиться ТАКОМУ красноречию, как и противиться Богу,- а он всемогущ,- невозможно. Значит - "высокое".
А, с другой стороны, стихотворение на призыве и закончилось. И нет ли тут противоречия: стихотворение называется "Пророк", а деяний-то пророка в нем и нет.
Стоп! Как это нет? Слова пророка суть его дела. А все, что мы "услышали" ведь "произнес" только что пророк. Он восстал-таки из мертвых. И рассказал нам, как он стал пророком. Но... Не для того ж он им стал, чтоб рассказывать, как он им стал! А дальше-то что?! - Обрыв. Собственно пророчества-то и нет.
Иное дело в "Пророчестве" Кюхельбекера 1822 года. Оно тоже от первого лица. Момент в нем тоже в чем-то перекликается с казнью декабристов: по доносам начались репрессии против вольнолюбивых дворян. Был сослан Пушкин. Запретили лекции Кюхельбекера. Сам он, во избежание худшего, отправился в добровольную ссылку на Кавказ. Но. Это еще 1822 год. Антикрепостническое и антимонархическое движение еще набирает силу И...
Глагол Господень был ко мне
За цепью гор на Курском бреге:
[это с запада, из-за Кавказа, на берег Куры к Кюхельбекеру дошла весть о взятии греками Триполиццы, и он преобразует весть в пророчество]
"Ты дни влачишь в мертвящем сне,
В мертвящей душу вялой неге:
На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы?-
Восстань, певец, пророк Свободы!
Вспрянь, возвести, что я вещал!..
Чем, казалось бы, не пушкинский "Пророк"? Однако дальше, в 11 последующих куплетах,
"глагол Господень" переходит в авторскую дифирамбическую речь, где проводится аналогия между поднявшим греков на борьбу монахом-воином и автором, где описываются победы греков над турками на суше и море и предвещается освобождение в широком смысле: понимай - и России от крепостничества.И се вам знаменье Спасенья,
Народы!- близок, близок час:
Сам Саваоф стоит за вас!
Восходит солнце обновленья!
Вот к подобному был призван лирический герой пушкинского "Пророка". Но - по воле Пушкина - звать на борьбу он не стал. Такой довольно существенный композиционный элемент означает, что мировоззрение Пушкина в 1826 году было не радикально-активистским.
Можно найти еще доводы, опирающиеся непосредственно на пушкинский текст и наводящие на такой же художественный смысл стихотворения. Речь пойдет о церковнославянизмах.
Смотрите, сколько их набралось в "Пророке": долгосложно-протяжно-парящее слово ШЕСТИКРЫЛЫЙ, затем СЕРАФИМ, ПЕРСТАМИ, ЗЕНИЦ, ОТВЕРЗЛИСЬ и т. д. и т. п. Относительно одного из них В. В. Виноградов заметил, имея в виду творчество Пушкина:
"В позднейшую эпоху встречаются немногочисленные примеры употребления окончания родительного падежа -ЫЯ, -ИЯ и притом всегда со специальной стилистической мотивировкой. Например... жало мудрыя змеи..."Обратите внимание: СТИЛИСТИЧЕСКАЯ мотивировка. С какой стати? Ведь "Пророк" относится к гражданской поэзии и написан по злободневному поводу - казни декабристов. А согласно тому же Виноградову Пушкин лишь до начала 20-х годов
"разделял карамзинскую точку зрения... и боролся с церковнокнижной культурой речи". Затем он церковнославянизмы стал применять во многих жанрах, в том числе и в гражданской поэзии, куда,- по Виноградову,- они проникают, и в том числе для СТИЛИЗАЦИИ старины - в широких масштабах.Так ЧТО ЕСЛИ продекабристские мотивы в своем "Пророке" Пушкин считал уже в 1826 году стариной, достойной СТИЛИЗАЦИИ? Ведь начал же он отходить от идеалов декабризма еще задолго до 25 декабря 1825 года. А до того ведь отличались же от него продекабристы Кюхельбекер, Катенин и другие именно привлечением церковнославянизмов в гражданскую патетическую лирику.
Посмотрите, что делается с церковнославянизмами в "Пророчестве" Кюхельбекера: ГЛАГОЛ ГОСПОДЕНЬ, ВЛАЧИШЬ, ВЕЩАЛ, СЕ- только в процитированных строках. И тот же Виноградов объяснил это явление так:
"Социальными причинами... тяготения к церковнославянскому языку со стороны общественных групп, связанных с декабристами, были, кроме борьбы с европейским космополитизмом и антинационализмом аристократии, революционный патриотизм... и ориентация на высокие риторические жанры гражданской поэзии, исторически прикрепленные в русской художественной литературе к торжественной патетике церковнославянского языка".А Пушкин, до поры до времени, как раз недопонимал Кюхельбекера и других и по поводу, кстати, именно "Пророчества" огрызнулся:
"Читал стихи... Кюхельбекера, что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом,- славяно-русскими стихами... Что бы сказал Гомер и Пиндар?.."И вот, спустя небольшой промежуток времени,- но большой по значимости,- Пушкин пишет своего "Пророка" как произведение декабристской гражданской лирики. Что: он, хоть поздно, но перешел-таки полностью на продекабристское мировоззрение?
Что: Виноградов ошибся? Потому, мол, что у Пушкина не стилизация (применение черт прототипа для каких-то целей), а органичное восприятие церковнославянской черты декабристского стиля? Да нет, конечно, тут СТИЛИЗАЦИЯ. И она означает, что Пушкин не полностью от декабризма отказался. Это означает,- как то всегда и случается после революционных всплесков,- что умные люди признают в чем-то правыми и революционеров, и контрреволюционеров. Это означает соединение несоединимого. Это, как в политике: секретный комитет по положению крестьян после победы Николая I и под присмотром Николая I. Это, как нэп после победы советской власти под присмотром советской власти.
А теперь вернемся к психологическому закону художественности по Выготскому. Что есть СО-чувствие в "Пророке"? - Переживание, что вот-вот перед нами состоится пророчество о когда-то в будущем победящей все-таки революции. - Что есть ПРОТИВО-чувствие? - Переживание, что вот: все же нет перед нами революционного пророка; нет и нет.
И то и другое переживание опирается на свои элементы. И если не замечать или не чувствовать одни частности и замечать и чувствовать только другие, то можно составить прямо противоположные мнения о художественном смысле произведения. Царские клевреты, пленяясь церковнобиблейским стилем "Пророка",- мол, слова, слова (в позитивном смысле, а не с горечью, как Гамлет), слова являются хорошей заменой делам,- могли хвалить мудрость Николая I за курс на приручение Пушкина, а ортодоксальные приверженцы советской власти, чуткие к гражданскому активизму призыва, видели в "Пророке" чуть не предвидение царства справедливости на земле, ради которого стоило жить свободолюбивым и при реакции (это как придерживаются добродетели христиане в грешном мире, ожидая второго пришествия Христа).
И клевреты и совки, вроде, правы: есть вещественные, так сказать, доказательства их собственной версии. Да они, каждый, зачастую и не чувствуют, что мыслимо что-то противоположное. А иной, видящий, что мыслимо, вообще раз и навсегда отказывается что-нибудь понимать в искусстве, раз там каждый может доказать свое. И он тоже по-своему прав: золотая-то середина не опирается на что-то. Поэт не говорит впрямую словами то, что хочет выразить. И не может, иначе он бы был мыслитель. Поэт стихийно делает так, чтоб за него докончил читатель, и понимает поэт это как вдохновение и удачу. Слушателей же (читателей) озаряет то, что поэта вдохновило.
Чувствуете, какая это область свободы - искусство? Не дурной свободы, когда все возможно, а свободы от властей, мод, шор. Поэт всегда отопрется, что он не сочинил недозволенное, а читатель или издатель, если надо, не признается, что понял...
Ради первого случая такой моей, из ряда вон выходящей, интерпретации я позволю себе прямой спор с представителем традиционного толкования.
В 1980 году в журнале "Аврора" №8 Вацуро написал популярную статью, где
"попытался свести воедино и кое в чем дополнить" более чем столетние наблюдения над "Пророком". Так если доводы Вацуро преодолеть, то добавятся резоны в пользу нереволюционного пафоса "Пророка".Заявив, что в "Пророке" Пушкин воспользовался историзмом и реализмом, открытым в 1824 году в "Подражаниях Корану", Вацуро пошел ва-банк: и там, и там, мол, родился ОРГАНИЧЕСКИЙ стиль; в “Подражаниях” - органический восточный, в “Пророке” - органический библейский.
Проверим.
В "Подражаниях" действительно все дышит ТАКОЙ арабской страстью, с какой в VI веке сражающийся за новооткрытую им религию Магомет произносил свои проповеди и какая потом (уже от имени Аллаха) перешла в записанный слушателями по памяти текст Корана. Но "Пророк", звучащий тоже не хладнокровно, расходится (!) с отстраненным лаконичным стилем библейской притчи об Исайе, которому шестикрылый серафим горящим углем очистил уста от скверны, чтоб он ими сообщил людям о грядущих карах Господних за их нечестие.
Вацуро бы вспомнить, что органический стиль это не стилизация, ему бы признать, что ОРГАНИЧЕСКОГО библейского стиля (подобного органическому восточному стилю "Подражаний") - в "Пророке" нет. Вацуро бы догадаться, что это значит, что под впечатлением казни декабристов Пушкин душой рванулся-таки опять к... декабристским идеалам справедливости, но,- умудренный новооткрытым историзмом и реализмом и оценивая негативно декабристские методы, тем более, что, как показала история, они проиграли,- Пушкин этот свой порыв в "Пророке" сделал таким же пустым, как и само восстание. Вацуро бы признать, что в том-то и сказался реализм в "Пророке".
Но Вацуро, хоть он впрямую это и не написал (вульгаризатором его бы обозвали), вывел, что Пушкин дворянской революции противопоставил грядущую народную. От магометанской,- а она ж народная(!),- страсти в угрозе Страшным судом, что в "Подражаниях", пришел-де в восторг декабрист Рылеев. Понимай, рылеевская, узкая революционность почуяла родное в более глубокой, пушкинской. Затем. Признавая, что реализм это нечто более холодное, чем романтизм, Вацуро привлек по`зднее, 1835 года, стихотворение "Странник". Там не пророк Исайя, а некий сошедший с ума человек предрек всем гибель. Вот там, мол,
"картина полностью реальна", не в пример "Пророку". Зато, мол, использовав в "Пророке" церковнославянизмы, Пушкин смог и реалистическую библейскую народность внедрить в стихотворение, и распалить в нем эмоции до по-декабристски революционного накала.Как? Церковнославянизмами. Они в библейском смысле имеют конкретное, приземленное значение, так ПЕРСТ, ЗЕНИЦЫ, ДЕСНИЦА это ПАЛЕЦ, ГЛАЗА, ПРАВАЯ РУКА. А в русском тексте они имеют окраску книжности, высокого стиля. Библейский реализм создает отталкивающую картину, например, открытая, разрубленная мечом грудь и в ней трепещущее, еще живое сердце. А абстрактные, книжные ОТВЕРСТАЯ (открытая в глубину), ТРЕПЕТНОЕ (пугливое, как в сочетании "трепетная лань")
"не вызывают прямого зрительного представления о ране".Тут бы Вацуро,- несомненно знающему о Выготском, об уничтожении в душе читателя СО-чувствия (здесь - приватного отвращения) и ПРОТИВО-чувствия (здесь - общественной привлекательности) и знающему о рождении третьего, о КАТАРСИСЕ, не являющемся суммой двух переживаний,- тут бы Вацуро и сказать о художественном смысле “Пророка” нечто типа: “мы пойдем иным путем, эволюционным”.
Но Вацуро останавливается на сумме переживаний:
"Их совокупность... дает всему стихотворению обобщенный, широкий смысл": "право глаголом жечь сердца людей достигается только через смертное страдание". И обосновывает это "общественными настроениями (выделено мной - С. В.), пробужденными жертвенной гибелью первых русских революционеров".Будто не писал о тех временах очевидец Герцен: "Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарением Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен - все исчезло с 1826 годом". Год написания "Пророка" тоже 1826-й.
Нет, Пушкин, конечно, к этим приспособленцам не относился. Но и нонконформисты в его роде не были в таком числе, чтоб составлять аж “общественное настроение”.
У Вацуро (правда, она как трава: растет сквозь асфальт) прорвалось-таки: "Может показаться странным, но стихотворение о пророке обрывается как раз в тот момент, когда герой его становится Пророком". И нельзя не процитировать его объяснение (психологическое, от которого он, впрочем, открестился, как от трудно проверяемого): "Современники передавали, что "Пророк" входил в цикл стихов, посвященных казненным, что первоначально он выглядел иначе и что Пушкин захватил с собой из Михайловского в Москву листок с текстом этой ранней редакции, чтобы вручить его новому царю, если разговор с ним окончится для него неблагоприятно". Кончилось же все - благоприятно, и Пушкин стихотворение переделал. Рука замахнулась и... тихо опустилась. Как и восстание на Сенатской площади, если кто помнит его подробности...
Так. А не танцую ли я под дудку модной нынче антиреволюционности? - Нет. Вот если бы я вывел, что Пушкин отказался от декабристских идеалов справедливости, тогда я бы был приспособленец в истолковании “Пророка”.
*
Следующее по времени написания стихотворение непосредственно о поэте - "Арион". 1827 год. По комментарию - аллегорическое изображение судьбы декабристов ( и Пушкина - добавлю я). Я опять буду цитировать и тут же истолковывать.
Нас было много на челне;
"Нас много" - нерасчленяемое единство. Далее - подтверждение этого мотива путем перебора:
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
Предложения постепенно нарастают в объеме: один стих, полтора стиха, два с половиной удлиненных стиха - это все еще нерасчленяемая целостность при разной значимости перечисляемых членов коллектива, сорганизованного для преодоления гибельной стихии.
И вдруг - противительный союз, не присоединительный. И пауза после двух звуков.
А я - беспечной веры полн,
Два звука - это образ функциональной бесполезности для коллектива. И все вместе: и противительное "а", и разнокалиберность предложений - уже предопределяет разную судьбу пловцов и певца. У них разные цели.
Пловцам я пел...
И этим все сказано, все загадано свыше. Он не опасен для враждебной стихии: с певцом или без певца - пловцы могут переплыть море. Поэтому совсем закономерна последовавшая вроде бы случайность.
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!..
Очень целенаправленно действовала враждебная стихия. Совсем не стихийно. И даже эта стремительность - как внезапно возникающая одна-единственная волна цунами - многозначительна: пловцы собрались переплыть море - море не допустило переплыть себя. Действие - противодействие.
Не поэт замыслил антиморское, так сказать, дело. Он был лишь "беспечной веры полн". Поэтому его море и не тронуло. Он - другой.
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
Видите - подтверждение его другости: гимны прежние. Такое горе, а ему хоть бы что.
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Сушит. Вода - это все-таки не по нем. И вот он остался один. А начиналось: нас было много. Первое слово было "нас". Теперь он один. Чувствуете горечь?
Так что ж такое этот певец, что такое Пушкин времен "Ариона": продекабрист, раз горюет, или иной, раз гимны прежние поет?
Сочувствие и противочувствие. Все по Выготскому. И так же по Выготскому сочувствие и противочувствие взаимоуничтожаются и в душе читателя, как бы не опираясь ни на что материальное в стихах, рождается то, что вдохновило поэта именно на эти стихи, рождается третье - возвышение чувств или катарсис: поэт является и тем и другим. Он в своем произведении сопрягает крайности. И потому он не такой, как декабристы, еще когда был с ними, пусть и не в их тайном обществе, зато просто в их обществе. И потому же, ввиду (повторяю) сопряжения крайностей, он с ними и после краха их движения: надеется на царскую комиссию по положению крестьян и на прощение царем сосланных декабристов. Вдохновение поэта и озарение читателя как бы нематериально воздействуют одно на другое: нет тех прямых слов, которыми поэт выразил свой замысел. Это как один смутно ищет наименьшее число, делящееся на 2 и на 3, бормоча эти числа, а другой, слыша их, догадывается: 6. Сказал ли первый: "Шесть"? - Нет. Он произносил: "Два... Три...". "Шесть" не произносилось и не было услышано, а оказалось в сознании обоих. Оба получили интеллектуальное наслаждение. В случае с искусством это наслаждение - эстетическое. У одного - от самовыражения, у другого - от постижения. У одного - от творчества, у другого - от сотворчества.
*
Движемся дальше по 1827 году. "Поэт".
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
Ого, в какую высь нас вознесло!
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
А теперь как низко! И какая негативная окраска этого низа: СУЕТНОГО, МАЛОДУШНО.
Молчит его святая лира,
Экие слова высокие заготовлены для высокого: СВЯТАЯ ЛИРА.
Душа вкушает хладный сон,
А "хладный" это опять с негативным оттенком - потому что о низком.
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Знаете, часто бывает: забудешь стих-другой и пытаешься сам его восстановить. У меня это получалось так: И среди всех ничтожеств мира,/ Быть может, всех ничтожней он.
Правда: это гораздо резче, чем у Пушкина? А почему? По- тому что он позитивно окрашенное слово применил - ДЕТЕЙ.
Так, может, Пушкин снизойдет до ничтожных? Надо быть очень чутким - не пропустить...
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Может, "поэт" обожествит теперь СНИСХОЖДЕНИЕ к ничтожным?
Как пробудившийся орел.
Орел - царь-птица. Ему не до сочувствия ничтожным.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
Ишь, как высоко летает. И как высоко оценивает этот свой высокий полет.
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Выше самой высокой земной горы летает наш орел.
Плеханов писал расширительно, но я применю его слова лишь для очень ограниченного периода пушкинского творчества:
"...настоящий народ совершенно выходил из поля зрения тогдашней литературы. Слово НАРОД у Пушкина имеет такое же значение, как и часто встречаемое у него слово ТОЛПА. А это последнее, конечно, не относится к трудящейся массе. В своих "Цыганах" Пушкин так характеризует обитателей душных городов: ониЛюбви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Трудно предположить, чтобы эта характеристика относилась, например, к городским ремесленникам."
Хоть для Плеханова есть только два Пушкина: додекабристский и последекабристский,- а для меня - гораздо больше, но все слова романтического Алеко, еще в 1824 году, так сказать, предвосхитившего то, что случится среди дворян после декабря 1825 года - моральное падение (раболепие - по словам Герцена - перед Николаем I) - эти слова Алеко вполне мог повторить заносчивый герой из "Поэта".
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
Это что за поворот? ДИКИЙ, СУРОВЫЙ - это негативная аура уже вокруг нашего заносчивого героя, а не ничтожеств.
И звуков, и смятенья полн,
Что это с ним приключилось? Он усомнился в своей заносчивости? Он вспомнил тот позитивный тембр - "детей ничтожных мира"?
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн.
В широкошумные дубровы...
Это уже не орлиный ареал. Но тоже довольно возвышенный - каково это долгосложно-протяжно-парящее, хоть и не церковнославянское, слово ШИРОКОШУМНЫЕ.
От столкновения "верха" и "низа" рождается - именуемая иногда золотой - середина: снисхождение как идеал. И персонифицирован этот новый идеал тогда, может быть, и народным кумиром последекабристского света - Николаем I.
В "Арионе", "Поэте",- хоть тут и не продекабристские произведения и не стилизации под них,- в них все еще есть и способы словообразования и слова, характерные для высокого стиля: МОЩНЫ ВОЛНЫ, ВИХОРЬ, вместо "одежды" применена РИЗА, одежда священника, КОРМЩИК, ЛОНО, ГИМНЫ - в "Арионе" каждое десятое слово возвышенное. В "Поэте" - посчитайте - каждое восьмое. Это означает, что соединение несоединимого в пушкинском идеале еще пребывает, так сказать, достаточно высоко: он уповает на царя. Совсем иное дело - через несколько лет, когда он в Николае I разочаровался.
*
1830 год. "Поэту".
Поэт! не дорожи любовию народной,
Зная закон Выготского, мы сразу можем сказать, что художественный смысл стихотворения будет в чем-то обратный: дорожи!
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Минутный... Перед нами явление поверхностной моды.
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
А тут уже противоположная характеристика летучей, вроде бы, моды: глупость и холодность - это ж консерватизм.
(Здесь надо вжиться в то культурное время, отличное от нашего, гонимого вихрем новаторских вожделений своей публики. Тогда - публика отставала от - с большой буквы - Поэта. Соответственно - и отношение того к модникам.)
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм,
И - опять соответственно - отношение поэта к себе:
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Ну, ладушки. Самоудовлетворился. Можно успокоиться. Так нет!
Не требуя наград за подвиг благородный.
Опять возврат к обиде. И подвиг, и благородный, а наград - нет.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд.
Опять о наградах. Опять о правосудии. Заело. Фразы становятся отрывистые: в одном стихе их умещается две.
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Опять об оценке!
Да похоже, что здесь обращение не к поэту, а к публике. И даже само во множестве это тыканье есть притворство раздвоения. Никакого лирического героя, наставляющего поэта здесь нет. Тут просто способ для поэта (не Пушкина, а того, с кем якобы говорит лирический герой) - тут способ еще и еще раз высказать публике свою обиду.
Ну, а если так уж она недостойна, тебя, эта публика, то чего ж ты (хоть и завуалированно) все к ней апеллируешь, поэт, и лезешь со своим трудом?
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен?
Когда так надрывно спрашивают, то, наверно, тайно осознают, что не доволен: публике-то не нравится.
Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
В детской... Устами младенца глаголет истина, и, может, потому прорвалось в последний стих такое позитивно окрашенное слово об обидчиках. И в первом стихе было такое же позитивно окрашенное - "любовию народной".
Так что ж в результате? Кто не прав в своих попреках? - И пушкинский поэт, и народ. Поэту нужно воспитать публику.
В комментариях к этому произведению значится:
"Сонет написан под впечатлением резких выпадов против поэта с начала 1830 года, когда, кроме Надеждина, Пушкина стали "развенчивать" и Булгарин, и Полевой. 21 марта 1830 года Погодин записал в дневнике: “Пушкин сердится ужасно, что на него напали все".А через несколько месяцев он создал "Повести Белкина", которыми он начал перевоспитание читателя, погрязшего в фальшивых нравоучительных псевдопросветительских очерках, в выхолощенных романтических повестях, в чувствительных рассказах эпигонов сентиментализма. И написал Пушкин "Повести Белкина" языком очень простым. А если посмотреть на словоупотребление в стихотворении "Поэту", то увидим нечто подобное: ни одного церковнославянизма да и просто ничего от высокого стиля. Вот, что значит дорожить любовию народной.
*
Однако, прошлое не совсем исчезает в настоящем. Все некоторым образом, а именно: диалектически - повторяется. И если Пушкин когда-то в молодости, романтиком, продекабристом хоть и критиковал Кюхельбекера за церковнославянизмы в романтизме, но и - как пишут - поддавался его влиянию, то теперь, после "Повестей Белкина", преобразившись (уже в который раз) снова, начав обращаться - по Лотману - к социальным утопиям и мечтая - по Берковскому -
"о повседневности, ласковой для всех" - теперь можно ожидать, что в его следующем стихотворении о поэте почаще станут встречаться высокие книжные слова.Так и есть. 1831 год. "Эхо". Отношение высоких слов к остальным уже не ноль к чему-то, а 1 к 16.
Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом,-
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Вообще-то, достаточно неожиданное явление - эхо. И так же неожиданны резкие укорочения стихов в куплете: "На всякий звук", "Родишь ты вдруг". Мертвое, физическое явление "в воздухе пустом" - а как бы живое.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов
И шлешь ответ;
“Внемлешь”, “шлешь”, обращение на ты выходит на первое место - так уже говорят о подлинно живом.
Вы уже вовлечены в обман? Так еще более неожиданный обман вас ожидает:
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!
Перебой внутри стиха, краткий стих после длинного - опять вы захвачены врасплох и приняли неприемлемое. И по смыслу - тоже: вы ж настроились на одухотворенную природу, на взаимоотзывы. И вдруг - мертво. И в отношении кого?! - поэта, того, кто живее всех живых. “Какая несправедливость!”- переживаете вы за лирического героя, охваченного горечью.
А это ж такой же обман, как и обман, что живое - эхо. Налицо противоречие: горечь - обманная горечь.
Два противочувствия уничтожаются и вас озаряет: да нет! не таков ты, поэт-в-обществе, как бездушное в "воздухе пустом" эхо. Просто искусство - не физика и не действует с таким же автоматизмом, как действие рождает противодействие, как звук рождает эхо. А от искусства бывает отклик и задержанный, и не слышимый ухом, и не видимый глазом. И когда народ безмолвствует, то в душе его что-то делается.
*
Что делается в душе народа, когда он безмолвствует? Народ это стихия. Можно ли на нее влиять? Декабристы, действуя во имя народа, народ к себе не привлекали и были побеждены. Пушкин, очень рано поняв пагубность дворянской революции, не выступил и за революционное будирование народа. Что ж делать? Направлять его на путь эволюции, проводимой сверху? То есть царем? Но царская власть в принципе не приемлется народом. Это Пушкин сам себе когда-то доказал в художественном эксперименте в "Борисе Годунове". Затем,- вполне по Выготскому,- Пушкин вывел в своей трагедии самого доброго к народу царя - Бориса. Царь,- по народному мнению, какое ему приписал Пушкин в 1825 году,- это средоточие нравственной скверны. Это человек, руки которого обагрены кровью. Иван Грозный утвердил свою власть, давя бояр опричниной. Годунов - убив наследника престола царевича Димитрия. Лжедимитрий - убив наследников Годунова. Царствовавший еще в год создания "Бориса Годунова" Александр I - почти соучастник убийства предыдущего царя, своего отца, Павла I. Только Николай I, на которого хотели покуситься декабристы, да неудачно, пришел к власти нормально и мог бы осуществить данный,- по Пушкину,- завет Бориса Годунова:
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совест
ь.Совесть, мол, факт, привела к созданию комитета по рассмотрению положения крестьян. Однако, и эта надежда со временем рухнула. Что ж теперь делать? Уповать на народ? Но с ним без руководства сверху нельзя. Кого ж в руководители?
1836 год. Стихотворение без названия. Его называют иногда "Памятник". Там есть эпиграф по-латыни: Я воздвиг памятник.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Вы думаете, речь о непосредственном влиянии поэта на народ? Влиянии большем, чем исполнительная и законодательная власть? - Зря. Больше всего поддается влиянию искусства образованное сословие.
Нет, весь я не умру - душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Так что? На власти подействует общественное мнение образованного сословия, а на него - соединенные усилия собратьев по искусству? - (вполне по Выготскому: читателя надо измотать).
Слух обо мне пройдет по все Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.
Значит что? Механизм отклика (вспомните "Эхо") еще сложнее? Первый поэт России,- а это признано всеми,- возбудит пиитов, те - народы, народы - правительство, оно - создаст всеобщее благо? То есть красота спасет мир, как сказал потом Достоевский? - Опять нет.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Что: "свобода" это декабризм, "жестокий век" это николаевская реакция на него, а призыв к милости это стихотворения (как значится в комментариях), в которых Пушкин просил об изменении участи декабристов? - Снова нет.
Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась,
Обиды упрекавших Пушкина за измену свободолюбивым идеям.
не требуя венца,
Помните, как
"на него напали все", упрекая, что он исписался?Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Нечто надпартийное, надмирное руководило с некоторых пор и руководит поэтом. "Падшими" можно счесть и декабристов, покусившихся не только на власть, но и на жизнь монарха. "Падшим" можно назвать и самого монарха, забывшего о своем крестьянском комитете и насадившего в стране раболепие. "Падшими" можно назвать и самих раболепных. "Падшими" можно счесть и народ, единственный в Европе пребывавший в крепостной зависимости. Точно так же и "чувства добрые" это результат моральной проповеди не только царю - за сосланных и угнетенных, но и декабристам - чтоб покаялись, и народу - чтоб не восставал. Свидетельство тому есть отказ Пушкина от таких строчек, сочиненных было поначалу:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.
Пушкин отказался от такой, так сказать, партийности и открыл путь широкому пониманию.
Утопия эволюции, которую поэт длинной рукой, через свои произведения, пиитов, общественное мнение в свете и в народе надеялся укоренить в России, это хоть и не религиозная утопия, но вполне может, вместе с религией, назваться верой в Сверхбудущее
*. И если заметить,- как В. В. Виноградов,- что у позднего Пушкина появляется, как выражается Виноградов же, религиозная лирика, то можно сказать, что под конец своей жизни Пушкин стал-таки на путь, ведущий ко впаданию в крайность. Его последователи - а это вся русская литература - не раз доводили эту традицию до конца. Самые известные примеры - религиозная публицистика Гоголя и Льва Толстого, теургия символистов.*
- Если не видеть, - по-моему, бьющего в глаза, - контраста между пятой строфою и первыми четырьмя… Но тогда совершенно непонятно, почему Пушкин, умеющий быть таким точным, не отметил в пятой строфе, что венца он не требует только от с о в р е м е н н и к о в и что только их хвалу он приемлет равнодушно.Пушкин любил тонкую, еле уловимую пародию, которую бы простодушный читатель принимал за вещь, написанную вполне серьёзно. Необходимо обратить внимание… Стихотворение Пушкина по форме является подражанием “Памятнику” Державина. И у Пушкина, и у Державина одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как у Державина. Державин: “Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный…” “Так. Весь я не умру” “Слух пройдёт обо мне” У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже над “пройдёт” написана цифра 2, а над “обо мне” - 1: “слух обо мне пройдёт…” Ясно, что Пушкин как бы всё время имел перед глазами стихотворение Державина.
Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счёл нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы ещё понятно, если бы нечто вроде “Памятника” написали, скажем, Шекспир, Гёте или Байрон – мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но – Державин! Вспомним, как отзывался о нём Пушкин ещё в 1825 году в письме к Дельвигу: “Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, - ни даже о правилах стихосложения… Он не только не выдерживает оды, но не выдерживает и строфы… Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника…” Очень сомнительно, чтобы через одиннадцать лет мнение Пушкина об “этом чудаке” много изменилось в хорошую сторону.
Ясно выраженная, неприкрытая пародия на “Памятник” Державина. Неприкрытая, даже подчёркнутая намеренным повторением выражений Державина. "Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина: ни к селу, ни к городу приплел и клевету, и равнодушье, и глупца какого-то… Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин противопоставляет своё отношение к славе отношению державинскому. Так и видишь, как Пушкин перепечатывает самохвальные державинские строфы и как по губам его пробегает насмешка: “а что бы я написал, если бы захотел тоже возгордиться заслугой? Вот бы я что написал, вот бы какие заслуги приписал себе: чувства добрые пробуждал, восславил свободу и проч.”. И потом гаснет на губах усмешка, глаза становятся глубоко серьёзными: неужели поэта может серьёзно тешить какая-то посмертная слава?" (Вересаев. Загадочный Пушкин. М., 1999. С. 255 - 259 )
- Вересаев не замечает, что Пушкин каждой новой строфой отрицает предыдущую, а не только пятой. Он, - как и полагается поэту, - самовыражается (подсознательное выражает) дразнением и итогом его. Потому-то у меня эти “зря”, “нет”, “опять нет”. Сверхбудущее у Пушкина в его подсознании. И нам, большинству, передаётся Оно тоже в подсознание. А в сознании есть только удовольствие от какого-то неосознанного дразнения и какого-то неосознанного же освобождения от него – то есть эстетическое удовольствие. Лишь в Сверхбудущем все станут художниками и будут более осознанно ощущать эту вибрацию.
Но это невыразимое (для Пушкина 1936-го года) и его (вечных) ценителей, живущих в России, - это Сверхбудущее, - находится всё же не там, где думает Вересаев. Оно вне поэта, а не внутри его, как ошибочно думает Вересаев. Вересаев думает, что Пушкин как был романтиком, так им и остался в 1836 году. Вересаев даже другие романтические стихи Пушкина приводит в доказательство, других времён.
А державинскому “Памятнику” Пушкин свой “Памятник” таки, да, противопоставляет. Но за что? За то, что Державин себе в заслугу ставит открытие в тематике: “И слава возрастет моя, не увядая, / Доколь славянов род вселенна будет чтить”. Москва-де – Третий Рим, Россия – мессианская страна, XVIII век – золотой век России, Россия – спаситель мира, а Державин “первый дерзнул” об этом “возгласить”. Это как если б себе в заслугу Пушкин поставил то, что таки написал было в черновике, да не применил: “Что звуки новые для песен я обрел”.
Нет, он таки обрёл. Он открыл реализм как стиль и для того внедрил, например, просторечие в литературную норму. Так и Державин обрёл: “в забавном русском слоге”. Например, не “род славян”, а “славянов род”… Выверты языка Державину понадобились для выражения беспредела, всесильности России. Державин был предромантик. Ему исключительность надо было воспевать. Он это и делал умело. Изобретал, что надо.
Теперь один теоретизирующий художник подобным – техническим – образом сравнил Леонардо да Винчи и исполнителей панк-молебна в храме Христа Спасителя. Леонардо-де изобрёл сфумато, а хулиганки – проникновение юродства на территорию церкви, а в ней – на территорию, запретную для тех, кто не священнослужитель. И первый и вторые останутся, мол, в истории искусства. – Так я возражаю. Как и Пушкин Державину.
Важно – для вечной жизни произведения – чтоб оно вибрацию противочувствий вызывало. То, что, например, меня заставило в связи с пушкинским “Памятником” писать свои “зря”, “нет”, “опять нет”. А Державин этой же, эстетической, вибрации добивается противопоставлением забавного русского слога возглашению.
Когда Пушкин писал Дельвигу, в нём говорил открыватель реализма, “победившего” (во мнении ценителей) пред- и простой романтизм. Но то, что писал молодой Пушкин в письме, нельзя приводить как аргумент касательно немолодого Пушкина и его стихотворения. Ни изменчивости идеалов Пушкина не существует для Вересаева, ни знания, что художественность – это противоречивость элементов.
12.12.2012
Но. Все-таки это уже речь о стихотворении 1836 года, очень далекого от 1828 и "Поэта и толпы", с которого мы начали разборы, да который бросили. Бросили ради исследования литературно-исторической обстановки. А та потребовалась, чтоб определить: куда в цепь стихотворений о поэте нужно поместить "Поэта и толпу".
*
Здесь пора обнаружить ту ариаднину нить, которая вела меня в вышеприведенных разборах.
Существует идея так называемой синусоидоподобной истории развития искусства. Ее использовали в своих работах такие исследователи как Ф. И. Шмит, В. Н. Прокофьев, Макс Дворжак, Арнольд Хаузер, Аникст и другие. Но она также, как теория художественности Выготского не получила широкого применения. Молниеносно-Ясно выраженная, неприкрытая пародия на “Памятник” Державина. Неприкрытая, даже подчёркнутая намеренным повторением выражений "Державина. "Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина: ни к селу, ни к городу приплел и клевету, и равнодушье, и глупца какого-то… Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин противопоставляет то своё отношение к славе отношению державинскому. Так и видишь, как Пушкин перечитывать самохвальные державинские строфы и как по губам его пробегает насмешка: “а что бы я написал, если бы захотел тоже возгордиться заслугой? Вот бы я что написал, вот бы какие заслуги приписал себе: чувства добрые пробуждал, восславил свободу и проч.”. И потом гаснет на губах усмешка, глаза становятся глубоко серьёзными: неужели поэта может серьёзно тешить какая-то посмертная слава?" (Вересаев. Загадочный Пушкин. М., 1999. С. 255 - 259 )
- Вересаев не замечает, что Пушкин каждой новой строфой отрицает предыдущую, а не только пятой. Он, - как и полагается поэту, - самовыражается (подсознательное выражает) дразнением и итогом его. Потому-то у меня эти “зря”, “нет”, “опять нет”. Сверхбудущее у Пушкина в его подсознании. И нам, большинству, передаётся Оно тоже в подсознание. А в сознании есть только удовольствие от какого-то неосознанного дразнения и какого-то неосознанного же освобождения от него – то есть эстетическое удовольствие. Лишь в Сверхбудущем все станут художниками и будут более осознанно ощущать эту вибрацию.перегибом, Раннее Возрождение - перед нижним перегибом, Высокое Возрождение - в середине следующей подымающейся ветви, Позднее Возрождение - конец этой же, подымающейся дуги Синусоиды, Маньеризм - вылет вверх и вон с Синусоиды, Барокко - на середине спускающейся дуги, уже второй. И так далее.
С "верхом" Синусоиды коррелирует ригоризм, соборность, духовность и т. п., с "низом" - либеральность, индивидуализм, чувственность и т. п., с верхним вылетом вон с Синусоиды идеалов - ингуманизм, аскетизм, религиозный фундаментализм и т. п., с нижним вылетом - крайний эгоизм, имморализм, сатанизм и т. п., центры восходящих и нисходящих дуг - гармония личного и общественного, соединение несоединимых крайностей "верха" и "низа".
Ранний Пушкин,
"на эротических ножках" - где-то внизу Синусоиды, если не вообще на нижнем вылете, Пушкин революционный романтик - на восходящей дуге, реалист - на нисходящей, новый реалистический утопист времен "Капитанской дочки" с приукрашенным Пугачевым - опять на восходящей дуге, уже следующей, околорелигиозный лирик - на начале верхнего вылета вон с Синусоиды, на каком "размещаются" - в свое время - Гоголь времени "Выбранных мест из переписки с друзьями", Толстой времен проповедей непротивления злу насилием, символисты.Незнание Пушкина как религиозного лирика и знание его других ипостасей заставили меня - я с этого начинал - усомниться в том, что его стихотворение "Поэт и толпа" могло быть зародышем пафоса молчания у символистов, этого своеобразного крика отчаяния в непрятии действительности. И теперь, разобрав целый ряд его стихотворений о поэте, мы можем предвзято (разбор проверит) поместить это произведение где-то на середине спускающейся ветви Синусоиды идеалов. "Пророк" (1826), "Арион" и "Поэт" (1827) - на начале спуска; "Поэт и толпа" (1828) - на середине; "Поэту" (1830) - самый низ: гармоническое соединение “верха” и “низа” в вере в Николая I прошло, и началась ориентация на народные низы; "Эхо" (1831) - начало новой восходящей дуги: молчание народа не есть безответность поэту; "Памятник" (1836) - начало верхнего вылета с новой восходящей дуги.
Проверим же и убедимся в ожидаемом.
*
1828 год. "Поэт и толпа". Перед собственно стихотворением Пушкин поставил эпиграф: "Отойдите, непосвященные". На латинском языке.
Это уже трехсмысленная акция. Материал предложения,- сказал бы Выготский,- состоит в том, что гонению подвергается "тупая чернь". (Так, крайне грубо, она обозвана в стихотворении от имени автора в том стихе, где автор на стороне поэта.) По форме это латынь. Автор обращается не просто к очень образованным людям, знающим латынь. Классическое образование, включавшее в себя изучение латинского языка, было с филологическим уклоном. Так что уж кто-кто, а те, кто мог перевести эпиграф, непосвященными в литературе и поэзии не были. Придерживаясь Выготского, уже можно сказать, что форма развоплощает материал во что-то третье: поэт и чернь одного поля ягоды.
Но переходим к самим стихам.
Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
“Лире”, “вдохновенной” и... “бряцал”, “рассеянной”. Что-то не шибко уважает автор своего поэта.
Он пел,- а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
“Хладный”, “внимал” - церковнославянизмы. Возвышает народ Пушкин и, может, не зря народ надменный, если ему бряцают.
Однако, тут же автор переметнулся сам и вас бросает в другую крайность.
И толковала чернь тупая:
Все. Он уже против толпы. Ну, а что она толкует?
"Зачем так звучно он поет?
Это ж хорошо, что звучно!
Напрасно ухо поражая,
“Поражая” здесь тоже не в негативном смысле.
К какой он цели нас ведет?
Что с ходу не поняли - разве это так уж плохо?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Ставит вопросы народ, значит, уже хорошо!
Зачем сердца волнует, мучит
Как своенравный чародей?
И так реагирующую публику - называть чернью?! Родиона Щедрина как-то телевизионный ведущий спросил:
- Что чаще всего вы думаете, слушая новое для вас произведение, относимое к так называемой современной, то есть не классической музыке, которое в будущем, как окажется, всеми будет высоко оценено?
Композитор ответил:
- Чаще всего я смутно чувствую, что в этом что-то есть.
Представляете? Кто?- Родион Щедрин!- и всего лишь: "В этом что-то есть."
Пушкинская чернь, назвав поэта чародеем - что тот Родион Щедрин.
Как ветер, песнь его свободна,
Это плохо?
Зато, как ветер, и бесплодна.
Какая польза нам от ней?"
Вопрос серьезный. И в ответ не ругаться бы надо, как сделал оппонент. Кстати, Пушкин тут решил от него дистанцироваться, начав вводить ремарки, как в тексте драмы.
ПОЭТ
Молчи, бессмысленный народ,
Грубо.
Поденщик, раб нужды, забот!
Куда этого поэта вообще понесло? И не будь латинского эпиграфа,- по одному только смутному - как у Родиона Щедрина - волнению,- этих слушателей уже нельзя назвать поденщиком, рабом нужды и забот. По меньшей мере несправедлив поэт.
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Пуп земли этот поэт, что ли?
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все - на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Как истеричка на базаре.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.
ЧЕРНЬ
Пушкин и здесь ввел драматургическую ремарку и, значит, отгородился и от этой филологически образованной черни.
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Чернь не теряет самообладания, как поэт.
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Когда так беспощадно себя разоблачают, то так и кажется, что это есть, как говорится, "унижение паче гордости". Это люди, думающие, что они сохранили веру в прогресс в эту глухую эпоху николаевской реакции. Далее - прямое доказательство.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки
Слышите? "Смелые".
А мы послушаем тебя.
Ну да. Я уже выше говорил, какую публику пришлось через два года, в 1830, перевоспитывать Пушкину "Повестями Белкина" - любителей писателей-эпигонов Просвещения, сентиментализма, романтизма.
Чернь хочет лести себе, якобы в глубине души прогрессивной, якобы сумеющей поддаться на призыв. И Пушкин не зря от нее отгородился ремаркой.
ПОЭТ
Подите прочь - какое дело
Поэту мирному до вас!
Так и кажется, что это уже от себя Пушкин вскрикнул. Но. Чем дальше, тем все больше в этом поэте проявляется мальчишеская нетерпимость.
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;-
Ну, положим, виселицу и ссылку до сей поры получили не они, а кое-кто другой.
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор - полезный труд!-
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
На "Нет!" нарывается поэт-истерик, и он его получает... от читателя: "Нет! Это уже совсем заскок."
А еще - смешно: при всем,- как бильярдные шары - в лоб,- столкновении черни и поэта - они почти одними и теми же словами характеризуют: чернь - себя, поэт - чернь.
Так что: Пушкин и от ЭТОГО их согласия ТОЖЕ отгородился - как драматург: говорите каждый от себя, а я не при чем? - Да. Отгородился. Потому что у него среднее мнение: светскую чернь нужно-таки перевоспитывать, но не "смелыми уроками", не плакатными произведениями, не впрямую, а иначе, провоцируя САМОсовершенствование.
И тогда, уж в который раз, колеблясь между полемическими преувеличениями обоих сторон и воспользовавшись тем "Нет!", до которого Поэт довел своим последним заскоком, читая его финальное краснобайство, испытываешь необыкновенный восторг: в подтексте-то все некоторым образом наоборот!
Не для житейского волненья
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Да, не для битв, но и не для молитв!
И понятно становится, почему раннее название - "Чернь", однонаправленное - Пушкин сам переименовал в двунаправленное - "Поэт и толпа".
А мы, для себя, можем его еще переименовать: "Поэт, толпа и Пушкин", что суть - по Выготскому -
"Сочувствие - противочувствие - возвышение чувств (катарсис)".Итак, не подвела ни теория катарсиса, ни теория синусообразности художественного развития. Срабатывают.
Осень 1996 г
Конец первой интернет-части книги “Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы…”