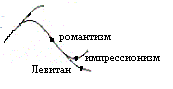
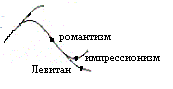
Левитан. Сумерки. Стога
Художественный смысл
|
Если духовно сильный имеет смертельную болезнь – как победить её? – Духовным уходом в вечность. Где нет времени, раздельности. Где Единое, Целое. |
Величие
|
Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие. Паустовский. |
|
|
Отношение к судьбе: не рок и фатализм, не детеринизм и зависимость, не случай, а свобода воли, индетерминизм, как у Чехова. Шалыгина. |
О чём это, господа-товарищи?
“Словом не передать всего очарования его поэзии, грустно задумчивой, как молчаливая русская даль, сумрачной, как осеннее русское небо, трепетной и нежной, как закат северного солнца, глубокой и чистой, как насторожившаяся летняя ночь. Долго лилась и звучала эта песня, рожденная русской стихией и русской природой, раздольная и унылая, песня о сером небе и о вольной дали, о постылой доле и неведомом счастье, песня, надрывающая душу тоской и заставляющая "трепетать от неизъяснимых предчувствий"”.
Никогда не забуду одного своего посещения Третьяковской галереи, когда меня вдруг пронзили “Сумерки. Стога” (1899) Левитана. А что это – я не мог выразить словами.

http://isaak-levitan.ru/master/12.php
“Картон, масло. 59,8x74,6 см.” Поразительно! Такая маленькая. А мне она помнится огромной. Из-за огромной дали, наверно, открывающейся в светлой северной ночи. И верится, что эту вещь написал Левитан, посетив Чехова в Крыму, где умирающий писатель жаловался на тоску от буйной южной растительности, которую он сам же и развёл в своём саду. Левитан, тоже обречённый на смерть, взял картон, обрезал по размеру камина, вставил туда, чтоб стоял вертикально и крепко, и быстро нарисовал то, что Чехова удовлетворило.
На севере сумерки длятся, конечно, долго. Но всё равно, есть какой-то парадокс, что именно такое преходящее состояние природы было выбрано для того, чтоб выразить вечное мгновение.
Вечность, где нет смерти, есть то, к чему тянулись в своём творчестве эти жизнелюбы и преждевременные смертники – Чехов и Левитан. И не случайно столь подходящая Левитану цитата в начале принадлежит С. Булгакову, пишущему о Чехове.
Но С. Булгаков так и не проникает в святая святых Чехова – в вечность. В иррациональное, почти мистическое и надмирное… ницшеанство (такое плохое слово, что рука еле поворачивается его написать).
А вот сопроводиловка скопированной репродукции – ближе к сути. Левитана:
“В этот период жизни налицо было стремление Левитана максимально упростить художественный язык, отвлечься от всего малозначительного и второстепенного, оставив перед нами только саму суть природы. Как писал один из его биографов, "в работах последних лет Левитану удалось монументализировать дыхание земли..."”.
Здесь уже вечностью пахнет: упростить, отвлечься, суть, монументализировать.
И хоть тут, конечно же, пейзаж души, то есть внутренний мир – объект выражения, но не романтизм у Левитана. Ибо слишком, на первый взгляд, всё тут обыденно. Простой луг, простые стога, простые сумерки и просто люди, сделав дело, спать ушли…
Я очень не согласен, что пейзажем настроения называют открытие Левитана последних лет. Настроение – это ж что-то непостоянное, поверхностное. А тут же вечность. Недаром картину, в которой, как он сказал, он весь, он назвал “Над вечным покоем” (1894).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Levitan_nad_vech_pok28.jpg
Левитан последних лет жизни на диаграмме (идеалы - время), изображающей качественное изменение идеалов во времени, изменение в фазе от идеалов коллективистских к идеалам индивидуалистическим, - Левитан – это нечто более индивидуалистически крайнее, чем романтизм. Романтизм ещё демонстрирует, как – во внутреннем своём мире – личность над жизнью всесильна (солипсизм): предстоит, например, перед колоссальной природой.

Фридрих. Меловые утёсы (1818).
А здесь, у Левитана, в ницшеанстве, - как она сильнее самой смерти.
Причём в жизни (не в искусстве своём) он смерти боялся. Был недоницшеанец, так сказать. За что, может, и был осмеян Чеховым, взявшим, может, его в прототипы своего художника в “Попрыгунье”.
Если счесть, что ницшеанство Чехова мною достаточно доказано (см. тут), то вышеприведённый факт годился бы быть каким-то вспомогательным доказательством ницшеанства Левитана.
Но вообще у меня с такой ориентацией художника проблема. И не в последнюю очередь – из-за словесного комментария его к своему творчеству. Хотя есть и, наоборот, подтверждение.
Сначала подтверждение:
“Искусство такая ненасытная гидра и такая ревнивая, что берет всего человека, не оставляя ему ничего из его физических и нравственных сбережений. Вот это идеал пейзажиста - изощрить свою психику до того, чтобы слышать "трав прозябанье"”.
Это – характерная декларация “серебряного века”. Особенно – это “не оставляя нравственных сбережений”.
Читайте перекличку:
“…проявились невероятной “поэтичностью” (разными видами внешней экспрессии) и утонченностью (форсированной тонкостью)... Были люди - самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамен на исключительность.
В сущности, это “ницшеанство”, печать времени...”
Это Коржавин. О времени через несколько лет после смерти Левитана (1900). Но – о “серебряном веке”, который раньше ж начался. Кстати, и на жизнь свою – из-за неудачного романа – художник покушался. И не был верующим в Бога. И в термине “пейзаж настроения” можно уловить и невероятную поэтичность, и форсированную тонкость, и – тем – исключительность.
Теперь, вроде бы, опровержение ницшеанства:
“Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором - пускай! Они - благоразумие... Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения...”
Бог во всём – это пантеизм. Который исторически появился в изобразительном искусстве Европы от разочарования в христианстве, чем, в частности, кончилось очарование гармонией небесного и телесного, то есть Высокое Возрождение. Сам пейзаж, как жанр, тогда в Европе появился. А когда развился пантеизм в живописи – был второй удар (со стороны христианства по самому себе): раскол церкви на Реформацию и Контрреформацию, заливший Западную и Центральную Европу реками крови. Пантеизм был не только материалистической (снижающей) заразой для веры в Бога, но и альтернативным религии духовным явлением, явлением коллективистским, как и сама христианская религия. И ингуманистическим, как и всякий коллективизм (сверхнравственным в пику безнравственности гуманизма, если относиться по-чёрно-белому, так сказать, контрастно). (См. первую репродукцию тут.)
Так гармоничному человеку этот ингуманистический, холодный пантеизм не по душе:
“Я не люблю этих так называемых величественных и знаменитых видов: они холодны как-то.
...Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы.
А эта голая, холодная, пустынная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали” (Л. Толстой).
И понятно становится, что и Левитану холодный, так сказать, пантеизм не по душе. У него ж дали-то не подёрнуты дымкой, они резки. Даже в сумерках. Дали не где-то там, не потенциальная у него бесконечность (мол, усилие – и можно ещё сделать шаг, и ещё, и ещё, и чего-то достичь, и пусть не до конца, но это всё же что-то, и это – прогресс). Нет! У Левитана как бы актуальная бесконечность. Она – уже тут. Как Бог для религиозных был тут, до всего Ему было дело. Потому Левитан применяет слова “божественное нечто”, не будучи религиозным.
Горы, - с их холодной высью и символизируемой ими достижимостью для людей лишь в сверхбудущем сверхчистого идеала, - потенциальная бесконечность - не нужны Левитану.
Плюс, выходит, что в разбираемый период творчества Левитана и более гуманистичный, что ли, толстовский пантеизм с подробностями ему не по душе. – Этот левитановский стиль: “упростить, отвлечься, суть”… Он не вникает в тут-подробности. У него другой негуманизм по отношению к людям – эгоистический.
Дали, дали, дали – чтоб тут и всё же даль, не тут…
Кстати, из-за специфических, не горных и не туманных далей и такая тяга у этого еврея, не раз притесняемого царской властью за еврейское происхождение, - такая тяга у него к России:
“Нет лучше страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий пейзажист”.
И ещё Россия нужна была общей несчастностью. Ибо ушедший в прогрессе вперёд Запад пошл в своём относительном комфорте. Там не актуальная бесконечность, а актуальная конечность в каждом шаге к потенциальной бесконечности, в прогрессе. – Потому Левитан применяет слова “страданий”, “трагичнее”. (Надо вдумываться в ассоциативный смысл предложения с такими словами.)
Но можно, конечно, и возразить: нельзя-де так искажать прямой смысл левитановского высказывания; он о своих, а не страны, страданиях и трагизме сказал.
Так-то оно так. Но… Вот если Чехова опять привлечь…
“В нашей народнической словесности с её тайным и явным подобострастием, с её почти паточной умилённостью перед страдальцем и богоносцем лишь Чехов и <…> были способны на жёсткую трезвость” (Зорин. Зелёные тетради. М., 1999. С. 237).
Чехов был жёстко трезв не реализма ради, а ради радикального отрицания действительности, отрицания во имя тоже радикального утверждения (почти нигде не печатаемого “в лоб”, но подразумеваемого) совсем НЕ коллективистского толка идеи нового будущего для страдающего народа. И идея эта – сугубо индивидуалистическая: ницшеанство, аристократическая жизнь в искусстве. Таки радикально новое будущее! И ради него стоило идти на “жёсткую трезвость” о настоящем.
Но давайте преувеличенно отнесёмся к тому факту, что Чехов аж на четыре года позже Левитана умер. И скажем, что Левитану уже требовалась не жёсткая, хоть и трезвость. И тоже не общественного реализма, а личного радикализма ради – ради приобщения душою к вечности, совсем не религиозной. – Вот и получится: невзрачность России – и… ницшеанство.
Это кажется странным: ницшеанство и… невзрачность. Ницше ж – воля, победа, преодоление слабых. – Да. Но это ж и переход в радикально новое качество. Так если духовно сильный имеет смертельную болезнь – как победить её? – Духовным уходом в вечность. Где нет времени, раздельности. Где Единое, Целое. И, если не музыка с её понятием тональности (только некий набор – из большего количества нот – используется для мелодии), то – тональная живопись тут, подчинение всех компонентов картины единому тону.
Трудно, конечно, говорить о таких вещах предметно, имея то качество репродукций в интернете, какое там есть сегодня. О каком единстве тона может быть речь по вышеприведённой репродукции? – Может, и может. Даже и там получился общий холодный колорит, даже зари. Она, какая-то фиолетовая, явно ж не тёплого тона. А может, тут то, что называется цветопись: “сочетание больших пятен определенно выраженного цвета”, тёмно-зелёного внизу, бледно-фиолетового вверху, мутно-голубого посередине.
Гораздо лучше тональность живописи “Стогов” видна тут.

http://www.shprints.com/shop/index.php?productID=10532
Или тут.

http://batkovfile.narod.ru/2007/img/stoga.jpg
Холодный колорит повсюду, мне помнится, был и на картине в Третьяковской галерее.
Так или иначе, но удалённость от суетной жизни – определённа. Но это больше явления, называемого “романтическим”, ибо учитывает реальность… непобедимой смерти и побеждает её своим величием.
Русским не только рождаются – им становятся. Левитан – лучшее тому подтверждение. Но как могло случиться, что его самовыражение в ницшеанстве, им самим неосознаваемом, конечно же, могло так горячо отозваться в сердцах миллионов россиян, любящих родную природу? Спроси об этом самого Левитана, он бы, наверно, сослался на собственную любовь к ней и, следуя Л. Толстому, на заразительность искусства. Но на самом деле это не так.
Русские – глобальный народ. И многострадальный (вспомнить только, что до революции 98% было крестьяне и большинство было безземельным). И переход центра революционного движения из Западной Европы в Россию был фактом конца 19-го столетия. Россия была как бы паровым котлом без клапана. Великий потенциал страны, неосуществлённый, чувствовался, наверно, каждым. И это одно порождало предчувствие когда-то явящегося величия. Общенародного. А ницшеанство тоже выражало порыв к величию. Личному. Вот одна радикальность, находила себя в другой. И воспаряла.
И это совпадение не исчезло. Хоть в XX веке Россия претерпела безмерно много бед и обессилела. Но народная память-то жива! Что-то от потенциала ещё есть.
Спросил первую попавшуюся тётку тележурналист во времена парада суверенитетов, хочет ли она раздробления России. “Нет, - со смехом ответила тётка, - мне нравится, что мы самая большая страна на свете”. Она не только по территории самая. И по жизни, наоборот, – далеко не самая. И опять – этот неосуществлённый потенциал переживается. И опять эта актуальная бесконечность левитановская – актуальна.
9 ноября 2010 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number3748/zine_saloon3754/publication3791
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |