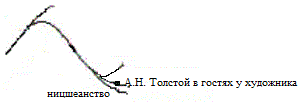
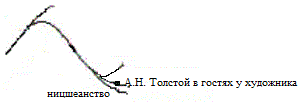
С. Воложин.
Кончаловский П. А.Н. Толстой в гостях у художника.
Художественный смысл.
|
Пробуддизм. |
Совесть скребёт
Вчера я очередной раз показал пробуддизм Петра Кончаловского, но чувствую, что мало кого удастся убедить. Я ограничился там всего одним противоречием: гурманство – вдохновенный одухотворённый взгляд.
Противоречие очень удобный элемент для смелого интерпретатора: выведение третьего переживания из столкновения двух противоречивых не подчиняется логике. Оно – угадка на соответствие духу времени. Корёжение натуроподобия, к которому на грани 19 и 20 веков приступили, позволяет думать, что этот дух времени – негативный. Пробуддизм – один из таких негативных. А именно его я вывел для остальных бубновалетовцев и для самого Петра Кончаловского. Экстремизм пробуддизма позволил продлить его живучесть у Кончаловского на 30 лет. – Но совесть скребёт…
Я не осмелился обсудить ещё одно противоречие:

П. Кончаловский. А.Н. Толстой в гостях у художника. 1941.
заглаженность мазков при изображении съестного и их выпячивание на пиджаке, руках и особенно лице Толстого. (Даже на брёвнах, при всей грубости их фактуры, нет грубости мазков. А натурализм пупырышек на огурцах заставляет меня выть от восторга мой вкус-атавизм – как живое…)
Если посметь это интерпретировать, причём не как противоречие, а как согласованность, то она получится такая: полевать на Толстого как писателя, поскольку его произведения не выражают пробуддизма.
Они выражают ницшеанство (см. тут, тут и тут). Это родственное пробуддизму мироотношение: не пассивный, а активный демонизм. Но всё-таки иное. – Можно его отвергать ради утверждения своего.
Натурализм того, что с заглаженными мазками, сам по себе ницшеанство отвергает за того метафизичность. Можно даже год создания вина (внизу на штофе) – 1799 – подрядить против Толстого. Это год рождения Пушкина. Который никогда ницшеанства не выражал в произведениях, даже будучи (бес арабский) ницшеанцем в жизни.
А удары кисти на лице и пиджаке, выражающие сами по себе энергию (энергию отрицания всего-всего в Этом мире, присущую ницшеанству), выглядят как следы побоев ницшеанца пробуддистом.
Но сердце сжимается от тоски, когда вспоминаешь, что для большинства читателей это белый шум, бессмыслица какая-то: метафизичность и активность ницшеанства, пассивность пробуддизма… Это настолько экзотические мироотношения, несмотря на уже полуторастолетнее их бытование в искусстве… Но большинстсво-то зрителей отстало ещё больше, чем на полтора столетия… Большинство-то своим считает искусство не дальше реализма, ну импрессионизма, на крайний случай.
Но совесть всё равно скребёт…
Надо обратиться к ещё не истолкованным мною произведениям Петра Кончаловского.

П. Кончаловский. Любитель боя быков. 1910.
Реальные любители боя быков подвергают себя всё-таки некоторой опасности: бегут по узкой улице впереди быков, выпущенных бежать из загона на стадион. Иной может попасть и под копыта и на рога. Но не этот, противно развалившийся в кресле. Для которого коррида – нечто вроде театра, а не реальнейшее отражение трагичности жизни. – Столкновение переживания реальности и фальши рождают катарсис: идеал – вообще бесчувствие.
Но это слишком давнее произведение… А как на Кончаловского действовали советские гадости?
Так же, как досоветские.

П. Кончаловский. Портрет режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1938.
Тут мне придётся – в пику выше написанному – писать про дружбу пробуддизма с ницшеанством. Так, мол, достала Кончаловского горе-советскость, что он из пассивного отрицателя всего-всего стал активным. (Надо мною довлеет правило стиля модерн, что столкновение оживляжа бездушного {здесь – ковра}, противопоставленного мертвенности того, что с душой {здесь – как трупа, безработного Мейерхольда, и как плюшевая игрушка – живой собаки}) высекают, как кресало из огнива, катарсис – ницшеанство, метафизическое иномирие, как цель бегства из Этого скучного-прескучного мира.)
Пётр Кончаловский не мог быть на закрытом последнем спектакле Габриловича “Одна жизнь”, ставшем последней каплей для чаши терпения власти, сводившей последние счёты с троцкистами с их перманентной революцией, что против строительства социализма в одной стране. (Так информировали Сталина местные князья-секретари обкомов, имевшие перевес в составе ЦК партии и боявшиеся, что при новой конституции, имевшей потенциал альтернативных выборов, их народ не изберёт, из-за чего Сталин сдался, и ЦК дал старт массовым репрессиям.) Итак, Кончаловский не мог быть на том спектакле, где "все сведено к изначальной ситуации: человек и опасность. Это ситуация и персонажа, и режиссера” (http://screenstage.ru/?p=10509).
Но.
"Мейерхольд и прежде ставил безумно смелые монологи, грозившие поколебать неустойчивую конструкцию его искуснейших мизансцен. Классический пример – сцена вранья в “Ревизоре”, исполнявшаяся на обеденном столе еле стоявшим на ногах высокомерным гаринским Хлестаковым. Но то был риск художественный, почти цирковой, почти как в чаплиновских фильмах. Здесь же был риск иной, и опасность грозила иная. За два сезона перед “Одной жизнью”, в 1935 году, в ленинградском Малом оперном театре Мейерхольд поставил оперу П.И.Чайковского “Пиковая дама”. Постановка рождалась в атмосфере страха, воцарившегося в Ленинграде после убийства Кирова и массовых репрессий, усилившихся тут же. Прямых аналогий Мейерхольд не допускал, даже купировал знаменитый квинтет первого акта “Мне страшно”,
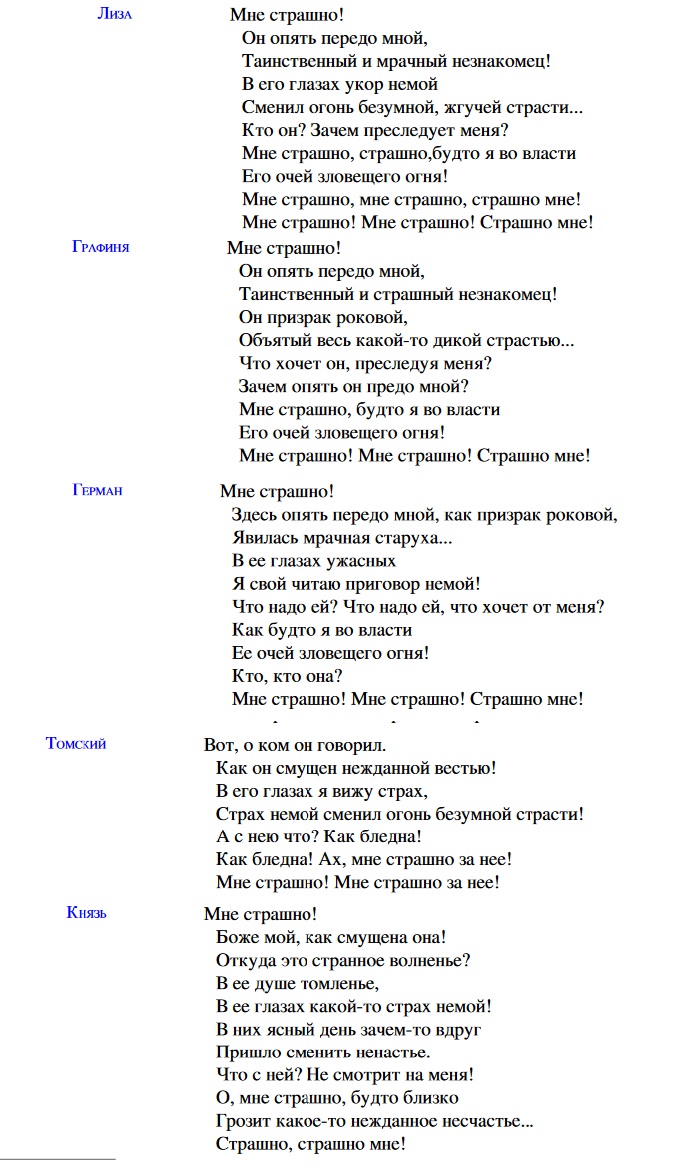
что вызвало недоумение близких друзей и негодование старых петербургских меломанов. По-видимому, Мейерхольд посчитал, что в сложившихся обстоятельствах исполнение квинтета может показаться слишком злободневным ходом. Но зато этим “Мне страшно” полнилось (кроме одного контрастного и ослепительно яркого эпизода – пирушки офицеров, победителей 1812 года) почти все музыкальное и театральное пространство оперного спектакля. “Мне страшно” подтолкнуло Лизу броситься в Зимнюю канавку; “Мне страшно” привело Германа в Обуховскую больницу. “Мне страшно” звучало в ариях, дуэтах и оркестровых вступлениях музыки, ведомой темпераментным дирижером Самуилом Самосудом. И некоторым замогильным ужасом был исполнен эпизод, когда в игорном доме за зеленый ломберный стол села сражаться с Германом мертвая Графиня” (Там же).
Так что Пётр Кончаловский мог быть в курсе несоответствия Мейерхольда власти. И ситуация с режиссёром, лишившимся театра, не способствовала смене экстремистски негативного мироотношения, бытовавшего у художника давным-давно.
Ну а как с, вроде бы, вполне оптимистической “Сиренью (Героической)”?

П. Кончаловский. Сирень в корзине ("Героическая"). 1933.
Тут действует другой закон. Живопись, даже самая натуроненавистническая (гляньте на “Любителя боя быков”), не может избежать хоть в малой степени выражения радости жизни. Это связано с самим происхождением искусства (синхронного с происхождением человечества). При возникновении оно было синкретичным: было и неприкладным (выражало: “Мы – люди!”), и прикладным (введение в ступор внушателя, внушавшего внушаемой отдать дитя на съедение стаду, экстраординарное изделие спасало дитя), и внеисторическим (выражало радость жизни всегда, в отличие от прикладного и неприкладного, выражавших разное, в зависимости от истории). Из-за внеисторичности выражения радости жизни ценность этой функции цениться перестала на фоне животрепещущей актуальности других функций, исторических. Ну а так как Кончаловский был в глубине души пробуддист, то внеисторичность (мало возбуждавшая) как раз была для него.
9 декабря 2021 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
https://zen.yandex.ru/media/id/5ee607d87036ec19360e810c/sovest-skrebet-61b22c3c4413503f4a199d11?&
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |