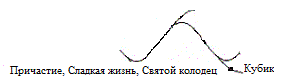
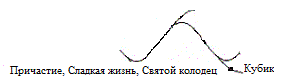
С. Воложин
Катаев. Святой колодец. Кубик
Бергман. Причастие
Феллини. Сладкая жизнь
Художественный смысл
|
“Я”-повествователь выбрал ненавистную жизнь миллионера (то есть ультрарасчётливого субъекта). И принялся с тихой ненавистью её описывать. Пусть и не дела, а вне их: путешествия, прелюбодеяния. Что читать было скучно. |
Литературоведческое чтиво
|
Идеи <…> Выготского быстро ушли в сферу интеллектуальной моды, а затем – в девальвированной форме слов-отмычек – были с досадой отвергнуты (в целостный смысл новых идей вдумываться стало лень); XX век вообще богат и на действительно новые идеи, и на умственную лень, погружающую многообещающие конструкции в глубокий анабиоз. Но смысл идей <…> Выготского бьется в висках современного разума. Библер. |
Сарнов закончил Литературный институт в 1951 году, за 14 лет до первой публикации “Психологии искусства” Выготского. Естественно было ему и вовсе Выготского не знать, раз того идеи были “с досадой отвергнуты”. И оттого он так уверен, что схватил Бога за бороду. А это очень мило – уверенность.
Я “подвергся” массированному – 85 страниц – нападению со стороны Сарнова по поводу мовизма Катаева. Прочёл его “Величие и падение “мовизма””. Мовизм аж взят в кавычки от ненависти:
“Не в том беда, что автор “Святого колодца”, “Травы забвения” и “Кубика” не свободен от читателя. Беда в том, что он не свободен от желания потрафить читателю, приспособиться к нему.
Строго говоря, сама попытка Катаева стать “мовистом” и даже само его обращение к Розанову и Мандельштаму как к образцам для подражания в основе своей имеют именно это стремление потрафить читателю, то есть оказаться на уровне самых последних художественных веяний эпохи. Может быть, он подумал: “Боже мой! Они там вопят на все голоса об “антиромане” <…> Я мог бы делать это ещё тогда, когда все эти Бергманы и Феллини еле-еле умели читать по складам!”” (Сарнов. Если бы Пушкин… М., 2010. С. 69).
Что значит, старость… Я не помню своих писаний. В подробностях, во всяком случае. Вот не помню, в чём сплошная противоречивость текста Катаева в “Кубике”, в котором разбирался (см. тут). А это ж есть художественность – противоречивость. Зато помнится то, что не есть художественность – “в лоб” иллюстрация ницшеанского идеала в сцене запуска монгольфьера девочкой и мальчиком. Или то же в сцене купания Саньки в море.
Сарнова можно понять (он же тоже старик)… Правда, нет даты, когда он свой опус написал. “От автора”, с другой стороны, датировано 2007 годом. Может и про Катаева тогда же написано. Значит, стариком. Правда, опять же, помечено, что книга – из личного архива писем, мемуаров, дневников… Так, может, и не стариком… Впрочем, он никогда не был вооружён психологической теорией художественности Выготского. Да и все не вооружены. Моя обычная память – тоже.
Вот и можно его, Сарнова, понять, что ему врезалось с Катаевым то же, что и мне – нечто, воспринятое им, Сарновым, как выраженное “в лоб”:
“…я торжественно распахнул другую дверь и показал им великолепную, ультрасовременную ванную комнату с кобальтово-синим фаянсовым туалетным столом на одной ножке, молочно-белой ванной, всю залитую ослепительно ярким электрическим светом, сияющую кафелем, никелем, всю увешанную пушисто-душистыми розовыми, салатными, голубыми полотенцами и простынями и устланную грубыми кокосовыми ковриками…”
Сарнов решил, что тут Катаев выразил свою глубокую суть:
“Перед нами не просто ультрасовременная ванная комната, но некий тайный уголок души художника, обнажение его сокровенных желаний… Даже в сладострастном перечислении предметов есть какая-то магия, чувствуется, что человек вдруг “освободился”, перестал притворяться, обнажился, разрешил себе быть собой” (Там же. С. 75-76).
Так вот меня глубоко уязвляет присущая и мне самому такая вот склонность запоминать то, что “в лоб”. То, что легче постичь. То, к чему легче приобщиться.
Я как-то по-белому позавидовал Сарнову, уверенному, что художественность заключается в этом самовыражении себя “в лоб”:
“Часто он [Достоевский] “дарит” персонажу собственные переживания, причём не случайное, не мимолётное, а самое сокровенное, самое мощное, до глубины души потрясшее душу. Таков рассказ князя Мышкина девицам Епанчиным о смертной казни, последних секундах приговорённого. Таково описание душевного состояния человека, переживающего приступ падучей. (В том же “Идиоте”.)
Это всё эпизоды, о которых нам доподлинно известно, что речь в них идёт о том, что было с самим Достоевским. Но в том-то и состоит гипнотическая сила прозы Достоевского, что, о чём бы ни рассказал нам автор, о каких бы чудовищных душевных изломах ни говорил, нас не покидает ощущение, что всё это кровно касается не столько Раскольникова или Ставрогина, сколько самого Фёдора Достоевского.
Речь, разумеется, не о том, что Достоевский по личному опыту знал, как растлевают малолетних и убивают топором старух <…> Это было его тайной душевной травмой, которую необходимо было как-то избыть, преодолеть, заглушить или сублимировать” (Там же. С. 74).
Ну такая славная уверенность! В правде поверхностности своей…
Оно и действительно: у искусства есть масса побочных, не только искусству присущих функций. В том числе и компенсаторная (и для читателя, и для писателя). И в том бывает сила заразительности (для читателя) и заражательности (для автора). Да вот внушать умеют и гипнотизёры, заражать чувством, например, горя – и плакальщицы, усиливать переживание, например, сонливости – каждый баюкающий дитя может.
Как заразительно убедительна сама убеждённость Сарнова, в простоте душевной не знающего, что есть специфическая, только у идеологического (в смысле – не прикладного) искусства имеющаяся функция, испытательная: непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного мироотношения (Натев).
Мне кажется, что сама старость человека заставляет его быть настроенным (если он про неё узнает) против испытательной функции. (Я наблюдаю теперь такой феномен в своём товарище детства. Он говорит утрируя: “Ты разделил искусство, как людей, на блондинов и неблондинов и предлагаешь, чтоб все отдавали предпочтение блондинам”.) Это ж так трудно – переживать что-то неопределённое от прочтения книги и просмотра фильма. (Эту трудность замечательно описал Лев Толстой в своей “Крейцеровой сонате”.) А старик же инстинктивно ищет лёгкости.
Вот и я… Я должен был перечитать, что я написал о “Кубике”, чтоб вспомнить те почти слёзы, с которыми я читал эту вещь. По крайней мере, вначале. От неожиданности:
“Иная виртуально возможная судьба чрезвычайно ценна. А есть какая-то злая предопределённость, что именно она-то и не свершается.
И тут ни-че-го нельзя поделать. Полное бессилие”.
Ну как тут не плакать внутренне!?.
А ещё меня восторгает в Сарнове то, что он иллюстрирует собою мою угадку, что подсознанием все люди все художественные произведения “понимают” правильно. И есть следствия этой правильности. (Бессознательное всегда фиксируется по следам от него в действии.)
Таким действием является, например, не явно негативное упоминание Бергмана и Феллини в первой цитате из Сарнова.
Я посмотрел “Причастие” (1962) Бергмана тех лет, когда Катаевым писалось первое произведение мовизма..
Боже, какая почти непереносимая нуда! Нуда дурной бесконечности длить и длить жизнь свою, когда веры в Бога больше нет… Единственным доказательством Его существования была для викария (после того, что он увидел на гражданской войне в Испании) любовь. Чудо любви. К той, кто стала его женой. Так у него и ту отнял… Кто? Бог? Дьявол? Чтоб принудить сожительствовать с учительницей? Нелюбимой…
То ли дело Йонас Персон. В Китае решили сделать свою атомную бомбу. И им, мол, нечего терять. Это – конец света, - понимает Персон, думая дальше китайцев. Так зачем конца дожидаться и продолжать жизнь? – И он, отец двух детей и третьего, что на подходе, стреляет себе в голову.
Надо было Бергману взять именно такой абсурд, чтобы пробить толстошкурость обывателя.
Нет. Какой-то резон есть и в абсурде. Одно дело – ответственные атомные державы Запада и СССР. Другое – азиаты, считающие-де (а так и было!), пусть в атомной войне погибнет полчеловечества, но оставшееся будет прокоммунистическим. Он захолустен, этот Йонас, он уловил то, что теперь думают про исламских экстремистов, если у тех окажется атомная бомба. Йонас абсурдно чувствителен. Но что если он прав по большому счёту? Тогда прав ли викарий (и мы все), что живём по инерции? Без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви?.. Надо ли длить эту дурную бесконечность обыденности (что Йонас застрелился – вот уж не нудная бесконечность – не показано, а сказано)? Дурную бесконечность мещанства…
Не есть ли это кино могучим, как у Чехова, зарядом, способным взорвать человека и подвигнуть его к ницшеанству?
И не то же ли с Феллини тех же лет? “Сладкая жизнь” (1960). Тоже ж дурная бесконечность! Только меньше заметна из-за вереницы потрясающих красавиц. (Не знаю, может, это моё личное свойство: я не отличаю красавиц друг от друга. Но посмею утверждать, что они не зря так подобраны у Феллини. Только одна, девочка-простушка, что в самый конец, многозначительный, попала, - другая.) У Бергсона – из противно-должного в противно-должное есть принцип нанизывания эпизодов (отслужить заутреню, хоть болен гриппом; дождаться Йонаса на беседу, хоть болен гриппом; говорить с ним, ехать на место его смерти, ехать со словами утешения к вдове, служить обедню). А у Феллини принцип соединения эпизодов – из удовольствия с одной красавицей в удовольствие с другою. Это несколько маскирует уничижительное отношение Феллини к той поверхностной жизни, которую он снял как презренную суть жизни газетных журналистов. Достаточно вспомнить судьбу слова папарацци, именование главным героем фильма своего коллеги-фотографа. Так вот снята тоже дурная потенциальная бесконечность. (А потенциальная бесконечность – это тягостное уверение, что всегда можно сделать ещё один шаг.) Вот так и катится жизнь глубокого писателя Марчелло, отказавшегося от глубины, настоящести, превратившись в жизнь модного журналиста. И противопоставлено этой поверхностности что-то… Непонятное, как самоубийство лучшего друга, взыскательного Штайнера, непонятное, как слова девочки в финале, заглушаемые шумом моря. Противопоставлено, но взрыва ещё нет (Штайнер слишком эпизодичен). Взрыва ещё нет, но на взвод фильм призван ставить своих зрителей.
О чём-то том же пишет и Катаев. И сама сложноустроенность нравится подсознанию Сарнова, но итог, катарсис, рвущийся в сознание, ненавистен сознанию его: “Такое в моём соотечественнике, Катаеве!” Вот он и ярится: Россия и… ницшеанство вдруг!.. Пусть бы СССР. Его, СССР, ницшеанец Сталин возглавил и испортил. Прикрылся волк овечьей шкурой. А Катаев помогал прикрывать. А теперь-де раскрыл свою ницшеанскую сущность – мовизмом. Так надо выступить против этого… мовизма. Как-нибудь.
Нет, не как-нибудь. А с упоением уверенного в своей правоте.
Как же заразительна уверенность в своей правоте. Я читал Сарнова с упоением.
Ну что поделаешь – старик. Тянет на лёгкое. На поверхностное.
Я не удивлюсь, если самого Сарнова, пусть и молодого ещё, тогда, в шестидесятых, ни Бергман, ни Феллини не взволновывали. Что только подсознание его, Сарнова, знало про скрытый (впрочем, всегда скрытый) художественный смысл произведений Бергмана и Феллини – про ницшеанство (за что и ценят все Бергмана и Феллини, за наличие художественного смысла, а не за ницшеанство). Подсознание Сарнова знало, а сознание – нет. И сознание не впечатлялось (ну сюжета ж нет, не захватывает). Но… Модно (это тоже область сознания)… Вот, мол, за модность и клюнул на эту низменность антиромана мещанин Катаев и стал писать свои бессюжетные вещи:
“Желание потрафлять тому читателю, к которому апеллирует новый, поздний Катаев, оплачивается не так щедро. Можно даже нажить кое-какие неприятности. Но всё-таки и оно оплачивается: даёт ореол смелости, новизны, художественной независимости, тот сладкий привкус запретного плода, который тоже дорогого стоит” (Там же. С. 71).
И так всё сходится в этой поверхностности Сарнова, что аж слюнки аппетита легкочитания (и легкописания) катятся (книги Сарнова издаются одна за другой и имеют чудовищную толщину). Я присел в первый попавшийся тенёк и со сластью дочитал статью до конца. Ведь он же литературный человек, Сарнов. Много знает и помнит. Наблюдателен. Расшифровал, что значит катаевское: “Сейчас [при Сталине] надо писать Вальтер-Скотта” (С. 71). “Когда-то Николай Первый порекомендовал Пушкину переделать “Бориса Годунова” в роман “наподобие Вальтер-Скотта”” (С. 70). Ну как не получать удовольствие от такого чтива еле живому старику, не чуждому литературоведению?!
Нет. Я ловлю себя на злой мысли, что писания литературоведов всё-таки должны подвергаться цензуре. (Как мне сказали когда-то в одном филиале издательства “Наука”, что им для принятия к рассмотрению рукописи на предмет издания нужно, чтоб та была сопровождена двумя положительными рецензиями авторитетов в ранге не ниже член-корреспондента Академии Наук.) И если и разрешать публиковать их целиком, вместе с обнаружившимся их личным критерием художественности, - мол, “тайной душевной травмой” движимо сотворение качества, называемого художественным, - то только с научным комментарием издательства, которое бы не давало полуживым старикам-читателям читать и распускать слюни от занимательности литературоведческого чтива.
Оно, конечно, плохо, что нет общепринятого согласия, что такое художественность… Но как было б хорошо, если б, наконец, общепринятое согласие установилось. Пусть ненадолго. Но всё-таки. Чтоб в каждый момент расслабленным старикам-читателям можно было б справиться, насколько они ослабли, что согласны читать именно такую-то ерунду про то, что такое хорошо и что такое плохо в области художественной литературы.
Ну в самом деле, наука или не наука – литературоведение?
Мда…
Но как всё-таки упоительна уверенность (например, что художественность – это правдоподобие):
“Его художественное все <…> делает ему доступными и людей, и животных, и умирающее дерево; нельзя противиться тому правдоподобию, с которым он изображает всякие состояния всяких существ Божьего мира <…> изумляет бесконечный диаметр его созидательства. От Наполеона и до Холстомера, от огромных полчищ, многоверстных живых "холстов", "моря войск" и до лиловой собачки Платона Каратаева, которая завыла, когда больного пристрелили его французы; от мистерий рождения и смерти, войны и страсти, от убийства и милосердия, от Верещагина, разрываемого толпой, и до Агафьи Михайловны, огорченной, что у женившегося Левина стали варить варенье по новому методу, - все это неизмеримое расстояние Толстой проходит с одинаковой силой, и вниманием, и интересом, без устали, без напряжения, без искусственности” (Айхенвальд. Лев Толстой. 1906).
Я навсегда запомнил чьё-то утверждение, что нет лучшего примера художественности, чем умение Толстого настолько проникнуть в мир женщины, как в сцене варения варенья в “Анне Карениной”…
Собственно, то же – в правдоподобии сладострастного катаевского описания ультрасовременной ванной комнаты. С одним но. Это был один из снов, как и всё в “Святом колодце”, в котором с бухты-барахты появились какие-то Козловичи, которых повествователь ненавидит, что выражается так: “Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле”, “Он по-прежнему был интенсивно розов”, “Его зубы сверкали слоновой белизной”, “она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно склеротическим ногам с шишками на коленях. У нее на шее висел крупный археологический камень”, “Было страшно представить, что стало бы с ней, если бы она, забыв снять этот камень, бросилась в воду” и т.д. и т.п. Наиздевавшись, “я”-повествователь ведёт их ночевать в… нормандский овин (хоть, вроде, в Грузии дело во сне было), и подколки продолжились: “…пока они поднимались по узенькой скрипучей лесенке, молчаливо удивляясь нашей нелепой фантазии отправить их спать на сеновал. Мы с женой весело переглядывались. Спотыкаясь, Козловичи один за другим – он впереди, а она сзади – вошли в дверцу и вдруг очутились в странном темном помещении, под самой соломенной крышей, где, очень возможно, на насесте спали жирные куры. Мы объяснили, что это старинный нормандский овин, и это немного обнадежило Козловичей. Они покорно отдались в руки судьбы”. Ну а потом они растаяли, оценив розыгрыш, когда им зажгли свет и они оказались в ультрасовременных апартаментах.
Как мог Сарнов так проколоться – не увидеть сарказма Катаева над ультрамещанством?.. Думаю от большой злобы. Катаев же всех тоже разыграл со своим ладом, мол, с “имущественной стороной жизни” (С. 87). Признать, что разыгран, как Козловичи (фамилия-то какая!), Сарнов не может. И факт же в том, что Катаев и вправду, как сыр в масле, катался в привилегиях писателям при Сталине. Вот у него и выведен Катаев ультрамещанином: только тем отличается от просто мещан, что нагло на вещизм нацелен-де. Не смог ему простить Сарнов подлизывание к властям – переписывание на как надо романа “Вся власть Советам”. Надо было, чтоб партизаны в одесских катакомбах руководились большевиками-подпольщиками, а не… по велению сердца какие-то люди пошли сопротивляться оккупантам.
Ну так когда Сталин умер, и Катаев стал на всех плевать, перейдя к своему бессюжетному мовизму…
Что у самой советскости могло быть что-то похожее на необузданное ницшеанство (это кем же надо было быть, чтоб не испугаться оккупантов и найти способ в городе пойти в партизаны!) – этого принять Сарнов не может. Не может быть у советскости ничего позитивного. Политическая ненависть душит Сарнова. Чтоб пацан за компанию увлёкся революцией (“Белеет парус одинокий”) – так это “Катаев… талантливо эксплуатировал свой душевный опыт (вернее, часть своего душевного опыта: детство)” (С. 75). Политический темперамент слился в Сарнове с уверенностью литературоведческой ограниченности, и получилась… песня против мовизма.
И всё же он довольно тонкий тип: “В “Святом колодце” Катаев художественно осознал свою жизнь как небытие, как жуткую фантасмагорию, осложнённую псевдозаботами и псевдожеланиями” (С. 76). “Вероятно, Катаев и сам почувствовал, что “Кубик” - это сползание назад, к “Вальтер-Скотту”” (С. 79).
Я ж не за один присест прочёл “Кубик”.
Я, грешен, неравнодушен к экстремам, будь они ницшеански-индивидуалистические или революционно-коллективистские. В “Кубике” очень скоро зыбкость существования на грани иной жизни, сверхжизни, кончается, и “я”-повествователь, которому не суждено оказалось остаться в состоянии предлюбви: “Будь”, - в ответ на её: “Теперь я буду твоя повелительница”… “Я”-повествователь выбрал ненавистную жизнь миллионера (то есть ультрарасчётливого субъекта). И принялся с тихой ненавистью её описывать. Пусть и не дела, а вне их: путешествия, прелюбодеяния. Что читать было скучно. Что и заметил Сарнов.
Он только не заметил той занозы, исчезнувшей возможности однажды и миллионеру быть причастным к сверхжизни – любви. Миллионер ходил к одной своей скромной содержанке (он их предпочитал светским красавицам: “Все его тайные подруги были простые, незаметные”, наверно, чтоб было по противоположности к той, в детстве: “Теперь я буду твоя повелительница”). И вот очередная содержанка умерла и через соседку передала все деньги, что он ей наоставлял при каждом приходе. Она ж его полюбила. А ему привелось об этом узнать только после её смерти. Когда опять ни-че-го не поделаешь. И Сарнов, не услышав щемящей мелодии ницшеанского пессимизма, ради которой написан весь “Кубик”, всю эту серость тайных подруг квалифицировал: “Это просто плохая проза” (С. 79). Вот, мол, вам и мовизм, от слова mauvais “плохой”.
Тогда как мовизм – это антироман. Во-первых, без сюжета. Чтоб не увлекал по-простецки во второй половине ХХ века, как литературное чтиво увлекает эстетических недорослей второй половины ХХ века.
Но… Как приятно даже и в XXI веке расслабиться и увлечься чтивом… Не только литературным, но и литературоведческим. Как же приятно!
15 февраля 2013 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/133.html#133
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |