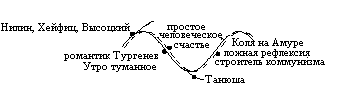
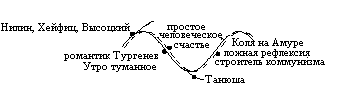
С. Воложин
Хейфиц. Единственная.
Нилин. Дурь.
Художественный смысл.
|
И пусть Танюша погибнет, но во имя торжества того идеала, который выдержал бы испытание. |
Царь в голове.
|
Счастья хочется, хочется, хочется. Не тревожь мою душу, струна. А хочется, девочки, - девочке замуж. Не дать бы, пока весна… Наталия Гойхман 1966 г. |
Мне 72 года. Вдовец. Оперирован. Импотент. Но, как есть кроме физиологического голода психологический, так мне не безразлично, каких женщин видят мои глаза. В городе, где я зажил, мало красивых. Но бывают. А всё ж – волнами. Так, когда я с памятью… о былом голоде, я хвалю красивых глазами. (Не странно, что им это нравится, хоть я старый сморчок - они самоутверждаются.) Когда же, недавно опростоволосился, я с другой памятью – то веду себя сдержано. Вот сегодня ошарашен: юная, чистая и, боже, какая красивая, впилась в меня глазами не менее пристально, чем я в неё, и что-то не самоутверждение тут. И я отвёл взгляд.
Наверно, в пределах долей секунд не важен возраст. Для обоих: ни какой я старый, ни какая она юная. Оба – звери. А дальше вступает в свои права общественный момент.
Он и буквально момент, хоть и длиннее тех, звериных, долей секунд. И тот момент решает судьбу двоих относительно друг друга.
Вчера было 30 лет со дня смерти Высоцкого. Показали “Единственную” (1975) Хейфица. С Высоцким в роли соблазнителя, Бориса Ильича (руководителя хорового кружка самодеятельности при городском доме культуры). И мне говорят, что Таня-то Фешева (играет Проклова, официантку в ресторане, жену Коли Касаткина, шофёра автопарка, Золотухин его играет), Колю любит, а с Борисом Ильичём – случайность вышла. И с каким-то дядей Шуриком, чьи "сапожки” в доме стоят (Коля домой из армии приехал в ботинках; он их об штанины по-смешному вытер от пыли перед тем, как подойти к дому), - с дядей Шуриком тоже случайность, наверное. Нам не показали. А что показали… Пожалела по-бабьи неудачника, Бориса Ильича. Не смогла совладать с собой. И уж больно хорошо он поёт. Час. Сей-час. Счастье… Однокоренные слова, да. Оно и не счастье, если не забыть на час всё на свете. Но всё-таки это только час. А постоянно любит она - Коленьку своего. Единственного на всю жизнь. Жизнь и час несоизмеримы.
Но соизмеримы доли секунд с мигом.
Человечество родилось в экстремальной ситуации. Одна группа предлюдей (случайно именно она была биологически ближе всех к людям – предкроманьонцы) попала в Африке в беду. В экологическую катастрофу. Начало не хватать еды. И часть популяции, во имя сохранения всей популяции, стала тем, чем впоследствии стали, например, приручённые коровы. Кормом (см. тут). И это было ещё естественным! Биологическим. Такой кошмар. Рожать младенцев на съедение. – И понадобилось предкроманьонцам стать противоестественными (то есть людьми, кроманьонцами), чтоб победить в себе ту животную, скажем так, естественность. Доли секунды оказались преодолёнными мигом.
И так с тех пор и идёт. Побеждают только миги, а не доли секунды. И в случайную связь – теперь – вступают (если вступают) только по человеческим причинам, а не по животным.
Строго говоря, те предкроманьонцы, как и их современники: неандертальцы, денисовцы и другие поздние архантропы, - и их предки аж на 6 миллионов лет назад, не животными уже были, а промежуточной фазой между людьми и животными, но можно это для простоты забыть. Тем более что никого из них на планете не осталось. Теперь есть только мы и животные. И нам бы спрятаться надо от стыда перед животными, сравниваясь по тем ужасностям, которыми мы от них отличаемся.
Фильм заявлен сделанным по рассказу Нилина “Дурь” (1972).
Это довольно приблизительно верно.
Нилин написал рассказ о так называемой ложной рефлексии. Когда человек, используя принятые понятия для выражения себя, невольно обманывает и всех и себя. Коля Касаткин – этакий куркулёнок. Тесно ему жить в Подмосковье. Грибов, ягод и рыбы не хватает с учётом толп горожан, наезжающих в окрестную природу по выходным. И он думает переехать на Дальний Восток, где отслужил призывником. Ему там в одном совхозе, кроме квартиры, обещают дать возможность построить собственный домик в тайге. С огородом и садом. Охотиться он будет себе в удовольствие, что в Подмосковье не светит. Он это называет по-советски модно, хоть и по-своему: "Мечта-идея”. И думает, наверное, про себя, что он, как все, есть так называемый официально строитель коммунизма. Рассказ написан от первого лица, и Коля так и сыплет потугами на речевые советские штампы: "поставить меня на правильную точку”, “Береги, пишу, себя и нашу дочь, воспитывай ее в духе, прививай ей и так далее, как положено в настоящее время”, “Что было, мамаша, то было. Того поменять мы уже не можем и не смеем. А жизнь, тем более, дальше идет”.
Вот этот казённый оптимизм советского обществизма и критикует Нилин. За гибельность из-за невнимания к индивидууму. “Дурь” (слово вынесено в название) - тяга к единственной на свете женщине – слово, сказанное начальником автопарка в порядке личной беседы из-за начавшегося пьянства Коли после развода с Танюшей и женитьбы на другой. Всё ж, мол, объективно хорошо у Коли: хорошая жена, хорошая квартира, в квартире всё... А субъективное… Дурь. И такое отношение – сплошь в стране. Что плохо. Ибо это не дурь, а серьёзная опасность для общественного строя (он – неправильно, по-моему, - назывался тогда социализмом).
То ли дело во Франции… Вот французское кино “Жестокая любовь”. Мадлена "как женщина, начала вертеться”, и муж её бросил, и она умерла, - с горя, не с горя, не написано, - умерла. Вот страна. Там входят в положение женщины, ищущей себя в любви и после замужества. Там именно жалостное кино запросто снимают о ней. Не то, что в СССР. С Танюшей же то же, понимай, происходит. Сержант Шурик, профсоюзный деятель Потапов из нарпита, старичок-бухгалтер Костюков, гитарист. Ну очень она ищущая. Аж старичок подошёл, ибо "человек необыкновенный”. То ли не удовлетворена ночной работой мужа. То ли его нежеланием разбираться с нею в её исканиях. Вот "ночью [и] позвала к себе этого крашеного козла Костюкова” (разволнованная французским кино?). Это ж общество понять-де должно. Не только осуждать. Должен бы быть такой моральный климат в обществе, который побудил бы мужа искать не ночную работу и к изяществу тянуться, к искусству. Или чтоб обсуждение этого между супругами было обычным делом. Или осуждение мужа за нетерпимость в обществе пусть бытует. Или хотя бы обычай вникать в любовные капризы жены. Ну что-то всеми принятое должно быть, на индивидуум направленное, а не только на официально и фальшиво общественное: "Неэтично это - разрушать семью. Не наш <…> не советский это стиль”. Надо ж, мол, чем-то этому стилю помочь (а не просто абстрактно болтать), если ты честно советский.
Хейфиц всё колоссально укрупнил.
С первых же кадров, что до титров и во время прохождения их.
Огромная страна врывается на экран. Оглушительно стучит её пульс в её кровеносных сосудах. Мчатся поезда по Транссибирской магистрали. Ныряют в туннели. Выныривают. Опять ныряют. Товарные, пассажирские. На предельной скорости. Трясёт немилосердно. Выложенные на столик варёные картошки и яйца еле-еле не спрыгивают на пол. Но всё учтено. Бортик удерживает их. И всё же некомфортно. Куда так спешить? - Надоти! Надоти! - Страна спешит жить. Лишь младенцу всё равно – спит под этот грохот колёс на стыках, а к качке, наверно, и вовсе не привыкать. Но уж очень трясёт. Взрослому нужна какая-то душевная амортизация в этих нуждах спешащей страны. И вступает в свои права закадровая колыбельная. А в кадре – воплощённый традиционализм в век прогресса: немолодая бурятка смотрит на младенца. А за окном – пленительный Байкал. Он никуда не спешит. Гладкий, как стекло. И жемчужные облака на горах его дальнего берега – тоже. Лежат. – Кра-со-та-а-а! – И восторженная улыбка Золотухина. Коля проснулся, открыл фрамугу и любуется живой своей мечтой-идеей.
В фильме он подбил сослуживцев вернуться после демобилизации на Амур, работать на стройке. Целой готовой уже компанией.
|
Потому что нет мне без него любви… |
Цитирует откуда-то Коля, только что рассказавший попутчикам в купе, что у него и жена, и дочка. Но Амур – любовь… И будет, понимай, гармоническое сочетание личного и общественного.
Но важно – личное. С общественным и так налажено. Потому важна компания. Микроколлектив. Самодеятельность. Где многое зависит от тебя.
Это веяние эпохи послесталинской: насыщать общественное личным. Вот и Танюша, "работник, одним словом, общественного питания”… Ей нравится работа официантки. Она ж оказывается на самом переднем краю фронта предоставления удовольствия. Она красиво несёт поднос… Сама красивая – таким только и подавать еду. Её усталость на работе – не физическая, а моральная: грубость, слишком частую, ей не удаётся победить своим желанием доставлять удовольствие.
Их там целая компания таких. "Хоровой секстет”. Тают, когда поют. “Утро туманное”… Романс по романтическому стихотворению Тургенева 1843 года. Тургенева, рождённого "для того, чтобы любить женщин и литературно описывать любовь” (http://www.arhpress.ru/ps/2007/12/6/37.shtml). Разрушила мать Тургенева жизнь своей белошвейки и прогнала её, беременную, за любовь к ней сына. И тот стал скитаться по свету.
|
Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи, Взгляды, так жадно, так робко ловимые, Первые встречи, последние встречи, Тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, Многое вспомнишь родное далекое, Слушая ропот колес непрестанный, Глядя задумчиво в небо широкое. |
Вот уж где тонкость! Романтизм… стиль обиженных обществом и находящих спасение в красотах внутренней жизни. Ну что, казалось бы, как не это годится для обращения разбушевавшегося общества слегка назад…
И кружок художественной самодеятельности не зря при доме культуры организован. Люди ж хотят полноты жизни. Значит, и в самом искусстве жить. А не просто потреблять… то же искусство хотя бы. Не как Журченко (актёр Невинный), не расстающийся нигде с транзисторным радиоприёмником и со смехачами в нём.
И если это поднять на высоту принципа, то понятно, почему Хейфиц на роль художественного руководителя самодеятельного хора взял колоссальную фигуру в замечательном тогда движении самодеятельной песни – Высоцкого.
Ибо Хейфиц (как и Высоцкий) решил восстать против индивидуалистического уклона и романтизма… Тоже обрушив жизнь, но не индивидуалистов, как мать – бабника Тургенева в 1843 году, как Нилин – куркуля Коли и Танюши, искательницы любовных изысков души, а людей коллективистского уклона: стремящихся на строительство БАМа или в местный ресторан для перевоспитания посетителей этого заведения, т.е. туда, где труднее.
И, обрушив жизнь так ориентированных людей, Хейфиц - по противоположности – хотел испытать такого сорта публику (а может, и весь советский народ): перенесут ли они те провалы, какие они испытывают на пути строительства коммунизма в условиях, когда коммунистическая партия, формально зовя к коммунизму, является главным фактическим врагом его достижения, ибо и социализм-то уже предала, так как извратила.
У Хейфица – фильм идей. Как в романах Достоевского (который не зря в фильме не выброшен).
У Нилина Достоевский, за сложность психологии его героев, упомянут не случайно. Начиная восставать против перекоса к общественному, нельзя не взять в союзники Достоевского, тем более что тогда как раз ввели его, наконец, в школьные программы.
Но Хейфиц поставил всё на качественно иной уровень.
У Нилина рассказ от первого лица и уже после того, как всё случилось. По памяти. А в кино ж и в принципе-то чуть не всё есть высказывание от имени человека на экране в сей момент. От имени одного человека, другого и т.д. Вот тут и удобно сделать идеи как бы действующими лицами. И каждая абсолютно права для себя. У каждой – свой царь в голове. И кто его знает, какой из царей победит всех других. (Из-за того это на реализм похоже, - нет предвзятости, - хоть им не является.)
Почему в этом есть потребность? Во времена Достоевского Россия, пойдя по пути капитализма после отмены крепостного права, всё же сомневалась, не нужно ли использовать крестьянскую ментальность, сельскую общину и пойти всё же в социализм, а не дальше в капитализм. Это и породило роман идей. А в СССР в 70-х начался застой экономики и загнивание так называемого социализма, и самые непримиримые (и Высоцкий, и Хейфиц среди них), надрываясь, в последний раз звали в настоящий социализм. А их, слыша, не слушались. А они ещё и ещё раз надрывались.
Отсюда этот потрясающий хрип Высоцкого. И его кажущееся суперменство. И разлад его с движением авторской песни. Как-то особняком от других бардов держался он. И те – от него.
Сужу по личным наблюдениям над КСП (Клубом Самодеятельной Песни) в Одессе. Лето за летом я приезжал в Одессу в отпуск вместе с женой, бывшим членом этого клуба. Привозил очередной доклад о Высоцком. Для меня собирал председатель клуба тех, кто не побежит в КГБ доносить. И я свой доклад читал. А меня слушали и поносили. И лишь в 1980-м, после смерти Высоцкого, признали, что он таки – да.
Презирал он их, видите ли, когда приезжал. Мог опоздать немилосердно на организованный ему концерт. Мог явиться пьяным. И им противно было чувствовать себя, возмущаясь, всё равно рабами, ибо всё ж проглатывали ради новых записей (престиж пострадал бы, если б они отстали в неком соревновании по новизне записей от столицы).
А он их презирал за слабость.
Настоящий социализм не получался же. Левые барды пели всё грустнее. А некоторые становились ренегатами, становились правыми. И лишь один Высоцкий не сдавался и как бы в одиночку всё надеялся раскачать страну, страну, не меньше. Буквально глотку рвал. Казалось, готов был умереть от разрыва сердца, лишь бы не кончилось сочувствие ему – повальное! – только сочувствием и… опять бездействием.
Он от этого запил. И хуже. И буквально риску смерти себя подвергал этим. Этим, ибо арестовать, а тем более убить, его б не посмели. Чтоб заткнуть ему рот.
Об этом в фильме Борис Ильич и спел Танюше.
Очи чёрные.
|
Во хмелю слегка Лесом правил я. Не устал пока — Пел за здравие, А умел я петь Песни вздорные: "Как любил я вас, Очи чёрные..." То плелись, то неслись, то трусили рысцой, И болотную слизь конь швырял мне в лицо. Только — я проглочу вместе с грязью слюну, Штофу горло скручу и опять затяну: "Очи чёрные! Как любил я вас..." Но прикончил я То, что впрок припас, Головой тряхнул, Чтоб слетела блажь, И вокруг взглянул — И присвистнул аж: Лес стеной впереди — не пускает стена, Кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал — не видать ни рожна! Колют иглы меня, до костей достают. Коренной ты мой, Выручай же, брат! Ты куда, родной, — Почему назад?! Дождь — как яд с ветвей — Недобром пропах. Пристяжной моей Волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза! Ведь погибель пришла, а бежать — не суметь: Из колоды моей утащили туза, Да такого туза, без которого — смерть! Я ору волкам: "Побери вас прах!.." А коней в бока Подгоняет страх. Шевелю кнутом — Бью кручёные И ору притом: "Очи чёрные!.." Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс — Бубенцы плясовую играют с дуги. Ах вы, кони мои, погублю же я вас! Выносите, друзья, выносите, враги! ...От погони той Даже хмель иссяк. Мы на кряж крутой — На одних осях, В хлопьях пены мы — Струи в кряж лились; Отдышались, отхрипели Да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, Поклонился в копыта, до самой земли, Сбросил с воза манатки, повёл в поводу... Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду! Сколько кануло, сколько схлынуло! Жизнь кидала меня — не докинула! Может, спел про вас неумело я, Очи чёрные, скатерть белая?! 1974 |
Высоцкий (он перерастает персонажа) со смертью играл, чтоб воодушевить на гражданскую активность, на самодеятельность во всех областях жизни. Он показывал, что смелость города берёт. А каэспэшники его всего лишь записать хотели. – Как не презирать их?! Не сыграть с ними в сверхчеловека, когда он один силою с их всех. Когда эти друзья для дела, получается, хуже врагов, раз даже они – пасуют.
Что такое “Очи чёрные”, вообще-то? – Цыганская песня. Которую поют, вкладывая всю душу. А как мы живём? Вкладываем всю душу? Или приспособленцами живём? В полдуши? В четверть?
Когда такую песню поют, чтоб любить крепче, дружить изо всех сил – она произведение прикладного искусства. Но в расширительном смысле… Это уже совсем другое. Это искусство идеологическое*.
*
- Я позже отказался от этого мнения, а стал и идеологическое считать прикладным, приложенным к такой-то идее, если нет в произведении чего-то странного, которое есть след подсознательного идеала. Идеологическое же зачастую есть просто усиление знаемой, в общем, идеи. Идея настоящего социализма (самодеятельного, а не тоталитарного) была в те годы новой. Чем и бывает хорошо забытое старое: до начала гражданской войны была-таки именно совет-ская власть, а не как потом – власть номенклатуры. А движение к анархии (без центральной власти – федерация федераций по Прудону) во времена Высоцкого – да и им самим, сознанием (его и всех) – понималось как хаос. А в его песнях – в запредельной страсти – чуялся подсознаниями же именно идеал приближения к анархии, к чему-то ну совсем необычному, раз такая страсть.А левака-автора лишь злить может, если её (и его самого) используют для правых целей. Для эгоистического бунта против "Неэтично это - разрушать семью”.
Так если идеологическое искусство - это испытание сокровенного мироотношения… То испытаем (примером - Танюша), что там в нас сокровенно. И пусть Танюша погибнет, но во имя торжества того идеала, который выдержал бы испытание.
С таким, примерно, расчётом согласился Высоцкий сыграть злодея в кино “Единственная”. И с таким, примерно, расчётом его Хейфиц в этот фильм и пригласил.
Что ж есть, в частности, одна из тех сил, то сокровенное, что здесь погубило мечту о слиянии личного и общего? – Сжато отвечает предварение.
Вот смотрит Коля, открыв фрамугу вагонного окна, на умопомрачительной красоты Байкал, высунулся немного наружу, чтоб быть к нему ближе. И – плям… Дама из переднего по ходу поезда купе выплеснула наружу через свою фрамугу остаток старого чая из заварочного чайничка. И залепила глаза Коле чаинками. Ей надо было использовать наружу вагона, где нет людей, где ничто-ничто ей не помеха справить свою женскую заботу. – А оказалось, что и там, где, казалось бы, никого – кто-то.
Это артистка, возвращающаяся с гастролей. Её партнёр, старый артист, успевает спеть: “Сердце красавицы склонно к измене”, - выходя из туалета, в который он не поленился сходить, чтоб помыть там от старого чая стаканы. Мог бы так же, как дама. Вон, из того большого чайника плеснуть в стаканы и опорожнить их через фрамугу один за другим. – Нет. Он сделал, как положено. Пошёл в туалет…
Мне с юности запомнились такие слова из “Железной пяты” Джека Лондона про философа-идеалиста:
"Беркли, входя в комнату, всегда и неизменно пользовался дверью, а не лез напролом через стену”.
А есть один вариант идеализма – солипсизм. "Несомненной реальностью признаётся только мыслящий субъект, а всё остальное объявляется существующим лишь в сознании индивида”. Это философская основа романтизма и особенно демонизма, как экстремистской ипостаси романтизма.
Солипсизм, романтизм, демонизм – это всё сугубо человеческие проявления. Это вот именно те миги, что я упоминал выше, которые побеждают звериные доли секунд. Зверь, как и Беркли, не лезет напролом через стену, если окажется в комнате, а, чтоб удрать из комнаты, дождётся, когда откроют дверь. Зато Беркли, романтики, демонисты могут ввести себя в солипсическое состояние, когда они ничего вокруг не ощущают, кроме своей внутренней жизни.
Вспоминается старый неприличный анекдот. Машинист паровоза вынужден был остановить поезд, так как на его свистки не реагировала пара, занимающаяся любовью на рельсах. В ярости он подбежал к ним. А парень говорит: ты вот смог остановиться, а я не мог. – И смешно. Потому что это человеческое. То бишь, наносное несколько по сравнению с безусловными рефлексами, теми долями секунд звериными.
А что имеем в Танюше?
Это кино. Подверженное цензуре гораздо сильнее литературы. Коля едет домой с Дальнего Востока, не как у Нилина, а ничего не ведая о жене. Просто он приехал раньше на день, его не встретили, и по дороге к Танюше на работу, в ресторан, он заскочил к маме и сестре, поздороваться, а те его предупредили, что артист Танюшу домой провожает. Они-то бесятся. Но что это за грех, объективно? Артист – это только зритель с мамой Коли узнают впоследствии – даже и не знает, где выходные двери в квартире. Следовательно, впервые, на празднование возвращения Коли из армии, в этой квартире оказался. А в итоге-то, по фильму, опять провожавшего артиста застал сильный дождь, вот Танюша его в дом и ввела впервые. И расчувствовалась. Да тут Коля, забывший водительские права и вернувшийся за ними домой, через окно увидел, как она расчувствовалась и прижимала артиста к груди с плачем. Никакой преимущественно ночной работы у Коли не было. Что за французский фильм они смотрели, в кино “Единственная” тоже нет. И разговора о нём – тоже. Лишь одна претензия Танюши к Коле – за армию – объективная: женщин-то всюду больше, чем мужчин, и она: "Устала. Не нашёл ли кого себе там”. Из-за чего она: "просто не знала, как считать-то мне: замужней женщиной или как-то мне… свободной гражданкой”. Нет ещё одна претензия, что до армии: "До чего мы жили с тобой всего ничего из нашей жизни”.
Единственно, что - это слова дочки при всём честном народе: "А дядя Шурик где? Это же его сапожки. Разве он опять приехал?” И изменившееся лицо Танюши. И ещё раз: "А я знаю, чьи это сапожки”. И опять катастрофа на лице поющей Танюши плюс никакой помарки в пении (притворщица!). И ещё что-то маме уже на ушко, раз так затыкают ей говорящий рот, так шёпотом на ушко. Для зрителя ясно, что про сапожки. Ибо монтаж такой, что они в кадре опять – дочка чует, что с ними что-то… И опять катастрофа на лице поющей Танюши плюс опять без отклонений в пении. И ещё, когда папа катал дочку на своём грузовике (ублажал), та ему и скажи: "А дядя Шурик тоже стоял на руках”. Ублажал. И, видно, преуспел больше, раз на вопрос, кого ты любишь больше, девочка отвечает: "От тебя керосином воняет”.
"Но вы же… Как бы это?.. Проводили время с другими мужчинами?” - спрашивает судья. И Таня отвечает: "Да”. – “Вы что же: не считаете это изменой?” - Таня молчит. - “Как же ты позволяла себе такое, будучи замужем?”. – “Не знаю”. – “Гражданка Фешева, значит, надо понять, что вы утратили чувство любви к своему мужу?” - “Нет! Я любила только своего мужа. Вот его”.
И итог: "Много горя я тебе причинила. Ведь наверно не со зла. И хотя наверно кругом перед тобой виновата, но любила я всё время только тебя. Одного. Никого другого наверно уже никогда и не полюблю”.
И потому это сорочье слово "наверное”, что "Я не всё понимаю. Ни вокруг себя, ни в себе самой. А спросить?.. – У кого? А врать я, как другие, даже самой себе, не хочу”.
Вот и всё.
Всё, что выдано у Нилина впрямую, словами, в кино вот этими словами подтверждено, хоть прямых улик в кино нет просто ни одной. Просто ни одной.
Перед нами в кино гордый человек, самородок-философ-демонист. Она не унизится до того, чтоб прятаться от людей, когда она не с мужем… Да и с мужем…
Помните, когда Коля первый раз подошёл к домику Тани, в окне домика напротив торчала женщина, сказавшая ему, что Танюшка обыкновенно где – в ресторане?
С какой злостью на неё, опять, наверно, торчащую в окне, Танюша занавешивает то окно, через которое той видно, что у этой в комнате делается (а Тане надо ж срочно, - до всего другого! – днём – поиметь своего мужа). Эта соседка и дядю Шурика засекала, наверно. И провожавшего её домой не раз Бориса Ильича. И вот Тане, наконец, приходится от неё прятаться… с мужем.
А это торжественное ожидание обнажённой, сидя на кровати, подхода Коли. Ей и невдомёк, что такого Коля от неё никогда не видывал и может опешить (что и случилось).
А сама эта идея немедленно ему отдаться.
А этот абсурд с неспрятанными ужасными сапожищами дяди Шурика.
Как же?! Шевельнёт она хоть мизинцем, чтоб прятать!..
Это человек, умеющий впадать в солипсическое состояние. Ей, как говорится, море по колено тогда. И ничего на свете, кроме неё, для неё тогда не существует.
Это воинствующая идея демонизма снята средствами кино. Сумел Хейфиц снять даже в условиях цензуры в тоталитарном государстве с его единственной для публикации разрешённой идеей. (Не хуже, чем умел Достоевский в тоже подцензурной России.)
И кому, как не такой, впасть в упоение от пения сверхчеловека…
А её темнота, её бабство из-за промоченных ног и неухоженности влюблённого в неё Бориса Ильича и его гвоздики ей (ей никто никогда не дарил цветы) – это всё для цензуры. А не для психологизма.
Другое дело, что демонизм - естественное человеческое состояние (в смысле упомянутых выше мигов в пику звериным долям секунд), как и детский деспотизм, например. Характерны оба для молодости и детства соответственно. И подлежат изживанию при социализации. (Есть такой естественный – опять человеческий – процесс: социализация.) И задерживается он при инфантилизме взрослого.
В условиях господствующей идеологии коллективизма в СССР демонизм становится, в частности, тем, что расширительно называется сокровенным. То есть испытуемым честным искусством. Что мы и видим у честных художников: Нилина и Хейфица.
Естественна и ложная рефлексия: Танюше хочется себя вполне реализовать на ниве предоставления удовольствий: официанткой в ресторане.
От загона демонизма в СССР естественна и грубость при приставании посетителей ресторана к красавице Танюше, от чего та – ложная рефлексия тут – устаёт на работе.
И в итоге её желание настоящего социализма со вкладом её руками на её рабочем месте терпит крах. Как и повсеместно в стране через 10 лет после окончания хрущёвской оттепели. Из-за чего конфликт приобретает у последних могикан шестидесятничества трагический оттенок. Ибо на этом участке идёт, в сущности, смертельная идеологическая борьба с Западом. Там демонизм прекрасно работает. Есть институт звёзд. Звёзды зарабатывают миллионы на культе себя как желанных половых партнёров для широких масс потребителей массовой культуры. Женщины отдаются хозяевам эротических журналов, только бы фотографии их, снятых голыми, помещены были на обложки этих журналов. (Танюше спрятаться с её желанием обнажиться перед Колей.) Там есть отлаженный институт проституции и порнографии, тоже с гигантскими заработками. Сокровенное у советских людей трещит под таким напором при всём наличии железного занавеса. И трагизм последних могикан среди шестидесятников становится трагическим героизмом. (Спрятаться сентиментальному французскому кино “Жестокая любовь”.) Тем более, что вся гуманитарная сфера в СССР искалечена. Гуманитарная наука не отличает романтизм (если одним словом и в моральном плане – эгоизм) от того, что представляют собою Лермонтов, Грин. Романтика в СССР – уважаемое слово. И культ единственности, неповторимости и неожиданности узурпируется тяготеющими к индивидуализму стилями современного тем годам искусства: экзистенциализмом, новым романом, новой волной в кино и т.д.
А крепнущее неэкстремистское массовое искусство в СССР опирается на триумфатора Журченко (типовая роль для Невинного). Его кумир – отсутствующий у Нилина - введён в фильм: Сашка Шеремет, школьный соученик его и Бориса Ильича. Два музыкальных имени, одинаково гремевшие когда-то в школьном кругозоре. Только Сашка теперь на международную арену вышел, в Аргентине на гастролях. А Борис Ильич прозябает в доме культуры провинциального города.
Зачем сделано, что герой Высоцкого завидует этому Шеремету?
Чтоб показать, как по всему фронту терпит поражение шестидесятничество.
Фильм идей… Их смертельного боя в мирное послевоенное время. Со смертельным исходом (как и произошло через почти 10 лет). Потому и войну вспомнил руководитель автопредприятия. Потому и пронял своей беседой запившего потенциального Бамовца Колю Касаткина. Потому тот как-то приободрился после этой беседы. И на тени надежды заканчивается фильм. Чуть больше 10 лет оставалось до предательства Горбачёва (признавшегося ж – сам слышал от него по телевизору – что, побывав неоднократно в отпусках за границей, он решил, что коммунисты в СССР должны стать социалистами, как на Западе, и снять с себя ответственность за благосостояние народа, переложив её на капиталистов, подконтрольных социалистам, порою избираемым этим народом на альтернативных выборах). Коля задумчиво садится за баранку. "Никто не может жить без любви и надежды”, - говорит закадровый голос. А перед этим он нечаянно заглянул в электронно-вычислительный центр своего предприятия, потом на старую квартиру (домик почти разрушен, наступают многоэтажки). Удирает испугавшаяся чёрная кошка. И Коля уезжает на своём грузовике вдаль на фоне колоссального индустриального пейзажа, не раз уже мелькавшего фоном его работы (и на Байкало-Амурскую магистраль нечего ездить – и тут кипят дела). Под звуки как-то изменившейся колыбельной, что звучала при начальных титрах фильма. Звуки, становящиеся патетическими.
Не знали последние шестидесятники, что нельзя было впрямую соревноваться с капитализмом на экономическом поприще. Не знали, что всё-таки окончательное поражение ожидает их на этом пути. Упустили они бывший у них под ногами путь личного усовершенствования.
Я вот думаю иногда, не прав ли Мухин, сочувственно доказывающий, что Сталин намеревался сделать компартию, как бы святым орденом (и было б тогда, куда обращаться с исповедью Танюшам), - святым орденом, отошедшим от непосредственной власти и (как Дэн Сяо-Пин, что ли?) управлять косвенно и только силой авторитета. Сила, мол, на стороне победившего в войне СССР. На него теперь не нападут. Атомная бомба у обоих социальных лагерей вообще гарант мирного развития мира. Можно больше не напрягаться чрезмерно. Не в военной области, конечно. Быть, как уничижительно сказала Тэтчер, страной Чад с атомной бомбой. Быть и не стесняться своей так называемой отсталости, ибо не в том счастье. Что если так хотел Сталин. – Да не успел. Умер. Отравили. А то сохранился б и СССР, и строй стал бы таки социалистическим.
А мыслима ли в принципе социализация из состояния демонизм в монтизм (я это так называю), а не в романтизм? – Судьба юности и молодости автора эпиграфа к этой статье (фамилия – интерактивна, кликайте и читайте) отвечает: мыслима.
Ну а счастье в общественную сторону социализировавшегося Коли, счастье в любви, опять единственной, мыслимо? – Открытый конец произведения Хейфица говорит, что мыслимо, хоть и мало вероятно. И с учётом этой малой вероятности надо отнести на счёт подцензурности фразу: "Никто не может жить без любви и надежды”, - и патетические нотки изменившейся колыбельной в финале. Или же отнести эти элементы на счёт “в лоб” выраженного авторского идеала аж в сверхбудущем. Недаром-де аж закадровый голос их произносит (и только цензору можно объяснить, что это мысли, мол, Коли, воспарившего вдруг, как это ни невероятно). На самом же деле кино-Коля – по вероятности – обречён так и не обрести счастье в новой любви (аналог см. тут). И в том – оппозиционность Хейфица официальной установке, столь жёстко высмеянной одним персонажем в одном отрывке из другого произведения того же времени создания, в “Пушкинском Доме” Битова (1964 – 1971):
"За отсутствием маломальской жизни, ввести в сознание доступность категорий и идеалов, смутить души возможностью материализации абсолютных понятий, заменить способность к чему-нибудь на право на что-нибудь – что проще? – назвать усталое супружеское соитие “простым человеческим счастьем”… и – готов новый человек!”
Хейфиц иначе оппозиционен. Он не справа, а слева против официоза. Это ж всё-таки не шутка – жизнь героическая, которая на БАМе всё же более вероятна, чем в Подмосковье (как это записано у Нилина и, похоже, судя по многоэтажкам, повторено у Хейфица). А героическая жизнь имеет близкое отношение к неожиданности, смертельному риску, переживанию ценности жизни, которою сознательно, для дела, рискуют. Такая жизнь создаёт именно "способность” к любви и счас-тью, что сей-час. И не демоническую способность. И вероятность новой любви, но опять единственной, резко увеличивается. И тогда название фильма обретает иной смысл! А идеал из предположенного было сверхбудущего перемещается в ранг робко-трагического героизма, для которого и нужна была робкая тень Высоцкого – Золотухин.
26 - 31 июля 2010 г.
Натания. Израиль.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |