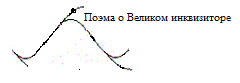
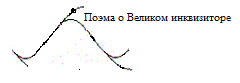
С. Воложин
Достоевский. Поэма о Великом инквизиторе
Художественный смысл
|
Идеи Достоевского в тексте нет-таки. Ни теократия Ивана, ни царство Божие на небе, которое Иван проговаривает, а Алёша по-своему понимает – это не “религиозный” социализм. Идея Достоевского нецитируема. И, весьма возможно, что и самому Достоевскому в осознанном (словесном) виде не дана (он не написал её в виде политической программы). То есть это – неосознанная идея. |
Ответ Наталье с компьютером 77.73.68.4
На её полусправедливый возглас: “НЕвозможно читать статью Вашу, одни термины, от которых голова просто взрывается. Неужели нельзя написать нормальным языком???” (О статье Н. Свитенко “Поэма Великий инквизитор: авторская нарративная стратегия” - http://www.pereplet.ru/text/svitenko27jan06.html.)
Почему вы, Наташа, только наполовину правы? – Потому что литературо- и искусствоведческие тексты – это трудное чтение. Даже если в нём и нет терминов.
Хоть я сам такие тексты пишу больше 40 лет, но не задумывался, почему это так. Возможно, потому, что читателю, вслед за автором статьи, приходится становиться на другие, не свои, точки зрения. До чёртиков трудно такое делать.
Каждый-то живёт и считает себя, в общем, правым. Да? И вдруг вам предлагается стать… другим! – Так вы ж не артист! Как вы можете стать другим?!. В вас всё внутри восстаёт. А тем временем глаза ваши статью читают дальше, и там уже надо стать… третьим!
Есть и ещё причина трудности этого чтения. Совсем техническая. – В таких текстах не избежать слов, не встречающихся в обычной жизни. Ну вот, например:
"Возьмите, например, “Водопад”: похоже ли это на оду, дифирамб, кантату? Это просто элегия…”.
Это первый попавшийся мне отрывок из статьи великого Белинского.
Хоть вы, Наташа, и учились в школе, но помните ль вы, что такое элегия?
Я в школе раз читал что-то Белинского, готовясь к сочинению, и наткнулся на такие слова (приблизительно): всегда можно найти того, кто хуже вас. Меня это поразило – я был хуже всех в классе по физкультуре, по успеху у девушек и т.д. И я решил, что почитаю когда-нибудь Белинского не для писания обязательного сочинения, а для себя. Это “когда-нибудь” наступило только после окончания института. Я стал читать, натыкаться на термины, как и вы посетовали. Но спуску себе не дал. У меня был “Словарь иностранных слов”, и я не ленился в него лезть, как только натыкался на термин. Я считал, что овчинка стоит выделки: что я у Белинского найду такие перлы житейской мудрости, что надо претерпеть некоторые неудобства.
Ещё одним неудобством было то, что я впадал в сонливость. Ничего ж там не происходит. Действия-то нет. – Так я и это переборол.
В общем, литературо- и искусствоведение – это трудное чтение. Не для всех оно.
Так вот, если оно всё-таки для вас, то почитайте эту статью до конца, как бы трудно вам, Наташа, ни было.
Я поймал себя на мысли, что тут вам надо остановиться и прочесть (или перечесть) обсуждаемую Свитенко главу “Великий инквизитор”, а лучше – и предыдущую, “Бунт”. Я сам, Наташа, прервался и решил это перечитать. И очень благодарен вам и Свитенко, что, наконец, вы обратили меня к этому. Потому что, когда я это читал впервые, у меня только что сердце не разрывалось. А с ним – и мозг. Потому что понимать всю глубину со скоростью чтения я не мог, а сердце, хоть и чуть не разрывалось, но требовало ни секунды не останавливаться и читать скорей дальше, а то оно всё же разорвётся.
Нет. Ещё немного отвлечения. Про термин “нарратив”. Сколько я о нём ни читал – он как-то ускользал от понимания и запоминания. Я вообще, Наташа, как и вы, плохо отношусь к терминам. Главным своим достоинством критика я считаю способность переводить своё и, надеюсь, авторское подсознательное в слова. (Я вообще искусством считаю то, в чём есть детали, происходящие из подсознания автора.) Поэтому в худые времена я не смог ни прокормиться, ни подкормиться на поприще критика. Пришёл в одно место предлагать себя. А у меня спрашивают: “Вы знаете, что такое метафора?”. Я ответил: “Не то важно, знаю я это или нет, а то, умею ли я увидеть в такой-то метафоре такого-то произведения художественный смысл целого произведения”. – Меня прогнали.
Но мне принципиально важно уметь, если нужно, разобраться во всём. И в нарративе.
Определение: нарратив – рассказ ради рассказа. Имеется в виду, что в нас сидит некий автомат, желающий дочитать до конца. Просто до конца. Чтение ради процесса. (Графоманы, наверно, вдохновляются чем-то подобным: писанием для писания. Есть и читатели, не умеющие отказываться от чтения абы чего.)
Вот слова Свитенко: "уровень "эксплицитного" [явного] автора, романного рассказчика – нарратора, находящегося в позиции свидетеля сцены: рассказчик не осуществляет функцию интерпретации происходящего”.
Что это за явный автор?
Например, предполагаю, в “Великом инквизиторе” это 13-е и 14-е слова самого первого предложения:
"Ведь вот и тут без предисловия невозможно, – то-есть без литературного предисловия, тфу! – засмеялся Иван, – а какой уж я сочинитель!”
Само первое предложение имеет задачу оттяжки, "чтобы усилить читательское ожидание” (http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34617037). А автор определения слова “нарратив”, Барт, анализируя конкретный текст с подобной оттяжкой, забывает, что он написал фразой выше (про оттяжку), и ниже второй задачей называет: "разжигание читательского аппетита (нарративный код)”. Будто "ожидание” это одно, а "аппетит” другое.
Понимаете, Наташа, почему от меня ускользает суть термина “нарратив”?
Или хватит отвлекаться?
Суть в том, что Достоевский, отбывший каторгу за более чем утопический социализм петрашевцев (за идею подготовки масс к революции), в таком социализме разочаровался. Чего втайне стыдился. И был теперь за так называемый религиозный социализм, эволюционный, а не революционный. Причём надо бы слово “религиозный” брать в кавычки. Потому что, в отличие от христиан, свой социализм он мыслил построенным не на небе и не Богом, а людьми и на земле. А как? Со Христом. И – русскими. Другие народы умеют улучшать земную жизнь без Бога, а русские, мол, нет – только с Богом в сердце. (Его за земную нацеленность религиозные очень ругали.)
Но он, Достоевский, был художник и не мог “в лоб” агитировать за свой такой социализм. Художник “агитирует” только не “в лоб”. Да ещё и вряд ли вполне осознаёт, что делает.
Как факт, он даёт нокаут такому своему социалистическому умонастроению в предыдущей “Великому инквизитору” главе, в главе “Бунт”. Если к Добру приходят после Зла, то ну его – всё. И отказ этот Иван Карамазов мотивирует логическим казусом христианства. Оно-то Зло мотивирует первогрехом (у всех взрослых этот грех присутствует). А у детей-то – не присутствует. – Всё. Поймал. С передёргом опозорил Достоевский идею своего социализма.
Но!
Сделал-то это Иван, и признал (нечаянно) его правоту Алёша. А не Достоевский! Даже то, что Алёша спохватился и охарактеризовал опозоривание бунтом, не приравнивает Алёшу к Достоевскому.
Просто Достоевскому нужно, чтоб мы сами прошли страшное испытание крахом его заветной идеи и… вырвались бы, как Алёша, из мысленной ловушки.
Причём Алёша-то вырвался не логически, а просто так, по религиозной инерции. То есть – со Христом в душе. То есть, в точном соответствии с идеей Достоевского. Но. У Достоевского это сделал всё-таки Алёша, а не Достоевский.
Зачем так?
Из-за сомнения Достоевского в своей идее. Сомнение его ужасно мучит. Из-за этого он устраивает и устраивает испытания своим героям. (А тем самым – и нам.) И для этого не только длит и длит роман, но и вообще пишет один роман за другим с той же проблематикой. Ибо это ж ужасно – звать людей куда-то и не быть уверенным ни в цели, ни в методах её достижения. А с другой стороны, какое счастье мечтать, что если озарение о его идее овладеет людьми от прохождения устроенных им испытаний, то – он прав. И так оно в далёком будущем и будет, как по его идее. (И если он свои рукотворные испытания себе и нам – а испытание-то и есть искусство – называет Красотой… То понятно, почему он считал, что Красота спасёт мир. Его Красота. Красота навевания озарения о “религиозном” социализме. Не иная красота.)
То же ли в главе “Великий инквизитор”?
В Евангелии от Матфея, в главе 4-й, рассказано от трёх искушениях Христу в пустыне и все – о материальном. И от всех Христос отказался. Важно-де не материальное. То есть, материальное благо – Зло, а Добро, следовательно – материальное страдание. Свободный Христос выбрал Добро – материальное страдание. И католическая церковь (до 16 столетия) увидела в этом главную заповедь. И создала в своих владениях материальное страдание для людей, и они, свободные и верующие в заповеди Христа, сами выбрали себе жизнь в материальных страданиях. У них есть минутные слабости. Из-за этих слабостей при втором приходе Христа, приходе в Севилью, они Его просят о чудесах материального блага. Он их творит, как и когда-то. Но это – их минутная слабость. Завтра им напомнит о ней Великий инквизитор, они вспомнят и, как и полторы тысячи лет назад неверующие в Христа, они опять в пришедшего не поверят и крикнут: “Распни его!”. И Христос будет сожжён. (Такую перспективу завтрашнего дня развернул перед Христом Инквизитор.)
Он развернул перед ним и перспективу на 400 лет, когда побеждать станет идея Комфорта (её Инквизитор просто как умный человек предвидит. Ведь Реформация тогда уже началась. А что она была такое? Дескать, того Бог привечает, кто преуспевает на материальном поприще. Успех – признак богоизбранности). Новая Вавилонская башня – это вообще социализм с неограниченным прогрессом (марксизм то бишь – в 1880-м году, когда закончен был роман, марксизм уже был хорошо известен): для всех Комфорт. Рукотворный рай на земле (для Достоевского – вещь вообще невозможная). И провалится тот социализм, как и первая Вавилонская башня. И опять вернутся люди к Христу с его нематериальной нацеленностью. Так зачем-де сейчас, в 16-м столетии им материальные блага давать вторым пришествием? Дадим, мол, мы. Но не всем. (Реставрация капитализма в России или отказ – со времён Тэтчер начиная – от социального государства на Западе.) Ибо: "Поймут наконец сами, что свобода [приоритет духовного] и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою!” Инквизитор прозревает (и сообщает Христу), что лопнет не только марксистский социализм, но и его, Достоевского, “религиозный”. Ибо: "Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными [от ценности материального], потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным?” Сами инквизиторы, мол, при этом согласятся "выносить свободу [приоритет духовного]", а большинство – покорят. – Чем? – Материальной кормёжкой какой-то. То есть антихристовым. "Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем <…> ". (То теперешнее общество потребления, которое создаёт у масс иллюзию, что и они – аристократы.) – Будет-де торжество материального, Зло, от которого отказался когда-то, будучи человеком, Христос в пустыне. То есть будет рабство. И оно будет людям лучше свободы выбора, "что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою”. (Крах идеи Достоевского.)
Второе искушение Христа в пустыне был отказ от чуда. Верьте, мол, люди, без чудес. А это опять слишком трудно слабым: "оставаться лишь со свободным решением сердца”. И – говорит Инквизитор – пойдут у людей суеверия. "…ты судил о людях слишком высоко, ибо конечно они невольники”. Да здравствует либерализм, иначе говоря. Опора на слабости человеческие. И так-де инквизиторы и сделали. (Собственно, весь Запад так и сделал, начиная с Нового Времени, т.е. с 16-го столетия.)
А Инквизитор, вспоминая от третьем искушении Христа в пустыне, об отказе от мирской власти, хвастает, что и тут Запад поступил против Христа – "восемь веков назад”. (1500 – 800 = 700, что слабо соответствует истории церкви: "в 6-11 веках” - http://www.wco.ru/biblio/books/talberg1/H202-T.htm, но… что придираться к писателю в числах.) И вот когда Запад, мол, достигнет глобального господства (к чему уже близок с этим американским глобализмом) на основании трёх отвергнутых Христом когда-то искушений, тогда и наступит стремление людей ко "всеобщему единению”. Без Христа.
"…тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы”. Рай либерализма на земле. Равнение – на низ. "И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, -- всё судя по их послушанию, -- и они будут нам покоряться с весельем и радостью”. – Полная оруэлловщина (не зря та была как критика Англии написана). (Собственно, то, что мы и видим на теперешнем Западе в связи с возвратом холодной войны.)
Похоже, что в торжествующей антихристову победу поэме Ивана всё о Западе, а не о России. И никакого испытания Достоевским своей, пророссийской, идеи нету.
Но это заметил Алёша. И, соответственно, вывел хвалу Христу (с которым на знамени пребывает идея Достоевского).
Но, опять же: Алёша – это ж не Достоевский!
А дальше идут виражи совсем головокружительные, где Иван, вроде, переспоривает Алёшу. И совсем читателю не ясно, хороша ли идея Достоевского.
Что Достоевскому и требуется, потому что он сам в сомнении!
То есть – то же, что и в главе “Бунт”.
И мне очень интересны слова Свитенко, что "интересно "прочитать" поэму сквозь призму других произведений Достоевского”.
Я, собственно, то и сделал выше. “Религиозный” социализм (это словосочетание я не помню, у кого взял) я применял для разбора “Идиота” (см. тут) и вполне успешно.
Этот “изм” есть то, что Свитенко называет "уровень "имплицитного" автора”. (Имплицитный – это скрытый.)
Остаётся для меня лично очень (теперь) острый вопрос: есть тут какой текстовый элемент, который родом из подсознания*? То, что Достоевский применил полифоническую форму (автора как бы нет и герои-идеи совершенно самостоятельны), есть порождение сомнения, а не подсознания. К тому же – это всего лишь кажимость, что нет царя в голове романа. Вот этот имплицитный автор – вполне себе царь: идеал “религиозного” социализма.
26 июня 2015 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликован по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/299.html#299*
- Вы отступник.Сказать, что искусство только то, что имеет детали, произошедшие из подсознания, и не продемонстрировать их… Это сказать, что произведение Достоевского не искусство.
- Признаю.
Просто воли не хватило. (Это очень трудно – добиться своей цели.)
Но, знаете… Со мной бывает, что достаточно поставить перед самим собой вопрос с полной резкостью, как откуда ни возьмись начинает прорезаться ответ.
Вот и сейчас. Вы меня прижучили, и…
Я поймал себя на передёрге: “со Христом в душе. То есть, в точном соответствии с идеей Достоевского”.
Да какое ж это точное, если Алёша – верующий, и царство Божие у него на небе, тогда как у Достоевского – на земле и – со Христом лишь в душе, а не в потусторонней яви.
То есть идеи Достоевского в тексте нет-таки. Ни теократия Ивана, ни царство Божие на небе, которое Иван проговаривает, а Алёша по-своему понимает – это не “религиозный” социализм. Идея Достоевского нецитируема. И, весьма возможно, что и самому Достоевскому в осознанном (словесном) виде не дана (он не написал её в виде политической программы). То есть это – неосознанная идея. Будучи художником, Достоевский иначе её и не может выразить: не прямыми словами, а противоречивостью.
То есть она – родом из подсознания.
Вы удовлетворены?
27.06.2015
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |