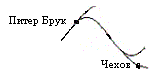
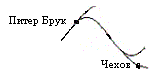
Чехов. Вишнёвый сад. Тина. День в городе.
Брук. Вишнёвый сад. Лир.
Художественный смысл
|
Представление о ницшеанстве как о своеволии, апричинности. Экстремисту Питеру Бруку был нужен экстремист Чехов. Но за его модуль, а не за знак |
Наконец-то понятый адекватно Чехов.
|
В чем заключается <…> тот самый “гуманизм”, о котором, вероятно, все не только устали писать, но и прекратили помнить применительно к слову “чехов”? Драгомощенко. |
После очередной неудачи продвинуть статью о ницшеанстве Чехова я, в который раз, полез в интернет искать, не появились ли там новые единомышленники. И нашёл. Аркадий Драгомощенко (тут). Написано им, правда, полтора года назад. Но как-то не находилось раньше.
Впрямую ницшеанство Чехова у него не заявлено. Более того, им не опровергнуто процитированное высказывание Барзаха: “Очень грубо говоря, русская культура была изначально “ницшеанской”, еще до всякого Ницше. А Чехов — нет”. Поэтому я счёл возможным показать, что ницшеанство Чехова у Драгомощенко есть в контексте его статьи.
Чтоб это увидеть, танцевать надо от слов Великовского о “Постороннем” Камю: “Здесь нет причинно-следственных зависимостей…”. Например:
“За ее окнами пошла какая-то суматоха, потом все стихло. Солнце поднялось выше и уже начало припекать мне ноги. Прошел через двор сторож и сказал, что меня зовет директор”.
Отсюда надо перескочить к Драгомощенко о Камю и Чехове:
“…что касается чеховского “нулевого письма”. Нужно было прожить более полувека, чтобы прочесть первые фразы романа другого писателя, жившего почти в воображаемо-наши времена и так или иначе отсылающие к предмету разговора:
Сегодня умерла мама. А может быть, вчера — не знаю. Я получил из богадельни телеграмму: “Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем”. Это ничего не говорит — может быть, вчера умерла. [ ср.: “я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая… Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю… Ничего не знаю”].
Косым жирным шрифтом – это из “Постороннего”, прямым жирным – из “Вишнёвого сада”.
Ещё ярче пример из “Вишнёвого сада” дан там ранее:
“Любовь Андреевна
Кто это здесь курит отвратительные сигары…
Гаев
Вот железную дорогу построили, и стало удобно. Съездили в город и позавтракали… желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию…
Лопахин
Только одно слово! (Умоляюще.) Дайте же мне ответ!
Гаев
(Зевая.) Кого?
Любовь Андреевна
(Глядит в свое портмоне.) Вчера было много денег, а сегодня совсем мало…”.
Видите? ““Здесь нет причинно-следственных зависимостей…””.
В первом своём подходе к “Вишнёвому саду” (тут) я напирал на то, что Чехов, мол, издевается над своими героями за то, что они недоницшеанцы, тогда как он - ницшеанец. Но мне было далеко до того, чтоб усмотреть прямое выражение в пьесе авторского идеала (прямое, “в лоб”, по принципу заражения, то есть неискусства? – фу). А оказывается-то, что Чехов не только для того комедией пьесу назвал, что смеялся над НЕДОницшеанцами, но и смеялся, предвидя над ними (недо-всё-же-НИЦШЕАНЦАМИ) смех непонимания ницшеанцев простыми людьми. Простым-то, с их нормой-наличием “причинно-следственных зависимостей”, таковых отсутствие смешно же тоже! А Чехову, наоборот, – дорого. И он не без мазохизма, выходит, назвал “Вишнёвый сад” комедией.
Почему апричинный мир это ницшеанство? – Потому что – не от мира сего. Как дети. Забывают. Всё – до лампочки. И – живут безответственно.
Вот и Великовский пишет:
““Посторонний” живет бездумно… и это… приносит блаженство”. “Для “постороннего”… добро и благодать – в полном слиянии его малого тела с огромным телом вселенной. И чужаком среди людей [погруженных в моральные зависимости] его, собственно, и сделала верность плотской природе и всему родственному ей природному царству [внеморальному]. Своего рода языческое раскольничество, воспетое и здесь [в повести “Посторонний”], и в ранних эссе Камю, само по себе не было его изобретением. С легкой руки Ницше “дионисийское” поветрие еще с рубежа XIX-XX вв. носилось в воздухе западной культуры…”
Вот только жаль, что не из чеховского “нулевого письма” Великовский Камю изводит.
А Драгомощенко, говоря о Чехове, останавливается – тоже жаль – на экзистенциализме Камю. До ницшеанства – буквами на бумаге – не восходя. Но суть-то у обеих философий – ницшеанства и экзистенциализма – одна: индивидуалистский радикализм.
И Чехов к нему открыто так и не отнесён авторами.
Зато косвенно…
Зато как чуден Питер Брук, понявший, мол, как и Драгомощенко, Чехова, казалось бы, наконец-то адекватно (речь о “Вишнёвом саде”):
“Появляясь на сцене, каждый из персонажей раскатывал “собственный” ковер. Развешенные ковры играли роль задников и кулис, помимо того, ковры использовались в качестве выгородок, разделявших зеркало сцены в тех или иных эпизодах. Ковры разнились в цвете и узоре (возможно, и в цене…). Иногда образовывали зыбкие лабиринты.
Метафора, к которой обратился Брук, намеренно очевидна <…> образ <…> различий <…> “цветущей сложности”…
Актеры едва ли не кричали, неумеренно жестикулируя, словно выступали в площадном балагане <…> интонация играющих является сложноподчиненной системой жестов, не столько обслуживающей мысль о мгновении, сколько создающих такое мгновение <…> каждый, будучи глухим, говорит будто с глухим.
Буквально и просто понятая режиссером “разорванность””.
Наконец-то, казалось бы, не эти ложные интерпретации “Вишнёвого сада” как пьесы ““про разорение прошлого, терзания, наступление хищного века” или же о “времени, переменах…””.
Но.
Я не видел пьесы Питера Брука. Что если Драгомощенко даёт о ней субъективное, искажённое представление? У Чехова-то всё же есть насмешка над и с обычной точки зрения слабыми, мягкотелыми, суетными людьми. Ибо нужен же подход к обычным людям. Нужна ж маскировка: я, мол, свой, обычный, - чтоб поиздеваться над сокровенным в некоторых из них – над гордостью необычных, глухих к обычности. А есть ли маскировка у Питера Брука с его “буквально и просто” - негативно, похоже – понятой разорванностью? Есть ли у него аудитория из обычных людей, не ницшеанцев? – Вопросы без ответов…
Или…
Что если аудитория-то из ницшеанцев у Питера Брука есть (Запад есть Запад; описана-то постановка в Нью-Йорке). Пусть не из стопроцентных сверхчеловеков, а тоже со слабиной. Но крик со сцены (что если?) – это в чём-то тоже насмешка над недоницшеанцами таки, рассчитанная на отвержение ницшеанства проницшеанской же публикой… Что если пьеса Брука – как сон нераскаявшегося и на каторге – среди сплошь недоницшеанцев – тоже недо-, получается, ницшеанца Раскольникова?
“Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, - но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса”.
Отторжение от этого ужаса привело, наконец, Раскольникова к раскаянию. Что если и Питер Брук, как Достоевский, тоже организовал негатив ради позитива? Позитива с точки зрения, в конечном итоге, обычных людей.
И тогда опять Чехов интерпретирован режиссёром неверно…
И знаете, это можно проверить, не видев постановку.
Как?
А опираясь на другого очевидца, не на Драгомощенко. И – не на постановку именно “Вишнёвого сада”.
Берём такого зрителя, как Юлий Кагарлицкий, верим его мнению о Бруке: “Он с самого начала очень определенно заявил о себе как о стороннике всевластного “режиссерского театра”. Мысль каждого спектакля была его, Брука, мыслью. Настроение — его, Брука, настроением. Форма — им, Бруком, заданной. В большей даже мере, чем у многих других режиссеров; ведь Брук зачастую выступает и как художник собственных спектаклей, а порою еще и как автор “конкретной музыки”, их сопровождающей”. Выводим из этого, что Питер Брук всегда выражает себя, а не автора пьесы, которую он ставит. Интерпретируем его слова об особой чувствительности к нему в Восточной Европе из-за прошедшей по ней войны как блеф (не отличается, сочтём, Восточная Европа от Западной, лёгшей под Гитлера; и в Восточной Европе, в Прибалтике, например, для расстрела евреев фашисты набирали добровольцев из местных обывателей; и не только в Прибалтике были коллаборационисты в той или иной мере – на всей оккупированной фашистами территории; а в СССР и того более – и до войны был свой аналог фашизма, сталинщина, и там у многих и многих была совесть нечиста; так что и в Восточной Европе публика состояла из недоницшеанцев, как окружение Раскольникова на каторге). И тогда понятен станет и “моральный нейтралитет” Брука при постановке им “Лира” в Восточной Европе, и особая действенность такого его “Лира” на публику: “В бруковском “Лире” нет правых и виноватых. Здесь всякий прав — со своей точки зрения — и всякий виноват, ибо и он принес в мир свою долю зла. В этом смысле спектакль действительно поставлен с позиций “морального нейтралитета”, но, отказываясь судить героев, Брук тем строже и беспощаднее судит мир, в котором они живут. Он не позволяет этому миру ни на кого переложить вину”. Либерализм, мол, чреват фашизмом, а социализм – сталинщиной.
И разве не замечательный в этом, ницшеанском, смысле материал Бруку дал Чехов в “Вишнёвом саде”?
Что за финальный совет, как стать сверхчеловеком, дал Ницше устами своего Заратустры? – Выносливость верблюда, вседозволенность льва и умение забывать – ребёнка. И вот, пользуясь финальным советом Ницше, то есть в атмосфере полной и всеобщей безответственности, чеховские персонажи, - пусть и недоницшеанцы, - но всё же забывают Фирса в оставляемом и вот уже заколачиваемом на зиму доме. И Фирс умрёт. И “всякий виноват” с точки зрения и Питера Брука, и пронятых им, его “Лиром”, советских его зрителей, и Кагарлицкого (но не Чехова). Ибо, как пишет Кагарлицкий: “Ни у зрителей, ни у читателей Брука никогда не было сомнения, что он принадлежит к левому крылу английской интеллигенции”, а Чехов ни к кому в России не примыкал (все для него слишком мелко суетились). “Всякий виноват”, ибо, домыслим, советские зрители (казалось бы, левые) получали “Лиром” удар по больному месту – они ж недоницшеанцы, мещане. Своя хата с краю. И это про них написал Бруно Ясенский: “…ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства”.
Экстремисту Питеру Бруку был нужен экстремист Чехов. Но за его модуль, а не за знак. (+1 и -1 одинаковы по модулю, но противоположны по знаку.)
Так получается по Юлию Кагарлицкому, не отрёкшемуся от своего сына, левого диссидента (что само по себе в СССР редкость), посаженному КГБ в тюрьму. И не антагонист ли он Драгомощенко, так позитивно чуткому к апричинности?
И тогда последнему скорее дано адекватно понять Чехова, чем Питеру Бруку.
Взять это его, Драгомощенко, соотнесение Чехова с автором “Дзен-буддизма”, Судзуки.
Что тот автор пишет об этом учении?
“Для тех, кто не обрел этого проникновения, знания, то есть для тех, кто не испытывает дзэна в повседневной деятельности жизни, его учение или, скорее, изречения, принимают непонятный и даже загадочный смысл. Такие люди, расценивая дзэн, так или иначе, с точки зрения понятий, считают его абсолютно абсурдным и бессмысленным, или намеренно запутанным с целью скрыть его глубокие истины от непосвященных”.
То есть Чехов, по мнению Драгомощенко, отвечая на упрёки читательницы его “Тины” не “по части “объективности химика” [возмутительной ей, когда речь в искусстве идёт о морали] или “сексуальной распущенности” в его повествовании”, а по части того, “чем должно быть искусство” [высоким, возвышенным, раз жизнь так низменна], - Чехов издевается ж над нею, говоря, как дзен-буддист с непосвящённой.
А в чём перец дзен-буддизма? – В невозмутимости.
То есть я-де, Чехов, вам послал рассказ о возмутительном, по-вашему, разврате женщины. – Так вы черпайте высшее хоть в моём письме, если в самом рассказе “Тина” не способны почерпнуть: во-первых, не возмущайтесь ничем.
И объясняет такое поведение писателя Драгомощенко чем? – Тем, что Чехов является “современником [в частности] русского ницшеанства”.
Значит, он адекватно понимает Чехова – ницшеанцем.
(Я пропустил в последней цитате то, что, см. тут, являлось производной ницшеанства, но сбивало бы моего читателя на сомнение относительно именно ницшеанства Чехова.)
А для Чехова возвышенное, в частности, в “Вишнёвом саде”, - словами привлечённого Драгомощенко из (кажется, ошибочно) XVIII века Сатамы Икэды, - ЕСТЬ. И это возвышенное – вот в чём: “это чистое и невинное прошлое, символически запечатленное в белоснежных лепестках вишни, и одновременно это символ смерти”.
Что то-бишь возмущаться, когда – смерть…
Такая вот комедия – “Вишнёвый сад”.
Ну а как с процитированным в самом начале высказыванием Барзаха?
Напомним его и расширим:
“…истинный смысл пресловутой “гуманистической направленности” русской литературы: это грандиозный миф. Этос русской веры, русского искусства — жесток и бесчеловечен (я не придаю этим словам никакого оценочного оттенка): от самосожжений Раскольникова и “гуманнейшего” Льва Толстого, в пылу охоты забывающего об истекающей кровью любимой собаке, до изуверски жестоких Сталкера Тарковского или героя Мамонова в “Острове”. Чехов в этом смысле не вписывается в русскую традицию, чужд ей на глубиннейшем уровне <…> это коренным образом иной подход к миру и к эстетике. Очень грубо говоря, русская культура была изначально “ницшеанской”, еще до всякого Ницше. А Чехов — нет”.
Я думаю, такой взгляд на русских может сложиться лишь под влиянием засилья правых взглядов. Такое засилье было у Константина Леонтьева, любившего русскую нацию, “в которой велики добро и зло: растопчут кого-нибудь в дверях - туда и дорога”.
Я думаю, Барзах (человек более взвешенный, но правой ориентации, как и Драгомощенко) всё же путает (в отличие от Драгомощенко, не путающего), - путает ингуманизм с демонизмом, говоря об изначально русской культуре. Ингуманизм присущ экстремистскому коллективизму, а демонизм – экстремистскому же индивидуализму. И оба – негуманны (из-за чего легко и спутываются). Первое больше характерно русской культуре, а второе – западной.
Возьмём Лунгина и “Остров” (2006). Время некоторой стабилизации России после провала в результате резкого броска вправо в начале 90-х. Но катастрофа ещё помнится. Реакция на катастрофу – левая, к, скажем так, некоторому коллективизму (к социальному государству). Как тот отказ от ницшеанства Раскольникова на каторге, где вокруг недоницшеанцы. В сюжете фильма – раскаяние невольного минутного коллаборациониста (струсившего смерти парня), Анатолия и такой же, - как у Раскольникова, угадываемый в будущем, - порыв в другую крайность – в монашество в настоящем. Анатолий знает, что нужно человека толкнуть в одну крайность, чтоб он – не такой же, по сути, плохой – шатнулся в крайность другую. – Жестоко так поступать? – Жестоко. Но побеждает-то – коллективизм. А это совсем не ницшеанская, западная, а наоборот, русская изначальность. Это ей противостоит Чехов. И противостоит так же, как противостоит Чехову упомянутый исполнитель роли Анатолия Мамонов. Чехов: “Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание. И что же? Когда я вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет”. Мамонов: “организовал одну из самых ярких экспериментальных групп в русском роке – "Звуки Му", невероятная пластика и яростная энергетика концертных выступлений, талант автора-сочинителя создали группе устойчивую, отчасти скандальную репутацию в русском рок-андеграунде середины 80-х”. И вот от этой вседозволенности – стал… религиозным человеком и “проповедником — в рассуждениях на самые разные темы”. Потому его Лунгин в фильм и пригласил. Чтоб сыграл себя. Актёрское достижение равно нулю, но на знающего прошлое актёра, на Барзаха, смотрите, какое влияние это знание оказало.
Драгомощенко иносказательно и иронично прокомментировал ошибку Барзаха. Более того, он привёл примеры; может показаться, что они, по его мнению, опровергают таки ницшеанство Чехова: рассказы “Архиерей”, “Казак”, “День в городе”.
Особенно последний, казалось бы, из унылого чеховского ряда вон выходит. Счастье же! Несмотря ни на что – счастье. Напугала гроза, намочил дождь, некуда спрятаться, вообще нету дома, дети сироты, нет еды. А – счастье.
|
Птичка божия не знает Ни заботы, ни труда; Хлопотливо не свивает Долговечного гнезда… |
Здесь впору вернуться к “Постороннему” и синтезирующему анализу его Великовским. – Дети природы. – Они в гармонии с нею? – Не в ней, гармонии, даже дело, чтоб острей проакцентировать привычное представление о ницшеанстве как о своеволии, апричинности.
“Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды”.
“…рука мальчика, красная и помятая, освобождается.
- Страсть как гремит!- повторяет мальчик, почесывая руку”.
“Путники проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись с насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят, и всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает...”.
Ну что им невзгоды, когда происходит главное таинство жизни: дети хотят учиться и учатся, взрослый хочет учить и учит. И всё – из себя. Никак не сообразуясь с социумом. Для того голодные дети не озабочены, как бы поесть, для того они сироты, а сапожник Терентий для того бездетный и, судя по поведению, без каких бы то ни было семейных или профессиональных обязанностей. “Своего рода языческое раскольничество” Великовского. Нечто прямо противоположное нечеловеческой религиозной целеустремлённости “самосожжений раскольников” Барзаха.
Да. По форме этот рассказ – исключение для Чехова. Но по сути – нет. Похожее можно показать (но не стоит, хватит и приведённого) и в “Казаке” и “Архиерее”: по теме – почтение к православию – исключение для Чехова, а по сути – нет. То же, совсем не религиозное, возвышенное естественной жизни, жизни в целом, в виду смерти.
Есть таки адекватное прочтение Чехова.
7 февраля 2011 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.codistics.com/sakansky/paper/volojin/solomon15.doc
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |