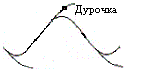
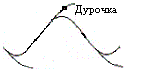
С. Воложин
Василенко. Дурочка
Художественный смысл
|
Восстала принципиальной неправдоподобностью своего художественного мира против привычного, увы, привычного для нас. |
Роль теории в поворотах истории
Начинаю читать “Дурочку” (1998) Светланы Василенко и натыкаюсь на, скажем, такое имя – Тракторина Петровна. – Как это понимать? Сатира? Как город Глупов у Салтыкова-Щедрина? Резко отрицательное отношение к общественной ситуации? В Глупове секут обывателя на первых строчках, и в детском доме у Тракторины Петровны секут детей на первых страницах. Каждый взрослый, даже если он сам и не бил детей или его самого в детстве не били, помнит, что соседского ребёнка били. Не диво. Не диво, что и в царской России в 18 столетии битьём недворян наказывали. Салтыков-Щедрин для этого выбрал на первых строках время в век назад, Василенко – больше полувека назад. Но… Что-то растерянность какую-то чувствуешь с Василенко.
Салтыков-Щедрин напускает на повествователя (началом там является “От издателя”, а “издаётся” “История одного города”) летописную важность и отстранённость от описываемого. И “издатель” серьёзно говорит о комичном: как отличалось реагирование наказуемых от исторически изменявшейся мотивировки наказания. И понимаешь, что от злободневной ярости (и во время писания Салтыковым-Щедриным своей сатиры телесные наказания где-то в России ещё не отменены и возмущают) это сочинено. Ни о какой здесь не об истории речь на самом деле.
А почему такой зубовный скрежет у Василенко, если она сочиняет своё произведение через 7 лет после падения тоталитаризма и через 40 лет после падения особенно жестокого его отрезка, сталинизма (символом которого является жестокость правил тут, в детском доме более полувека назад). В чём злоба дня в 97-м году, заставившая сочинительницу так утрировать изображаемую когдатошнюю действительность? Что: новая власть так же злобна к населению, как и когда-то? Население так же пассивно к деяниям власти? Демократия не состоялась? Но тогда какая-то вневремённость должна б чувствоваться, надмирность, как летописность и историчность – у Салтыкова-Щедрина. – У Василенко же этого нет. Описание происходящего сочное, натуралистичное, словно галлюцинация.
“В жарком мае 193… года въезжала в старинное астраханское село Капустин Яр телега, ржаво скрипела. Кто сидел в телеге, было не разобрать: на тот час налетела пыльная буря, и те, кто сидел в телеге, закрыли лица руками от песка ли, от страха, будто ударить их хотят. Вдруг и в наши глаза будто кто кинул песком и пылью: ветра в астраханской степи чудные, и лучше нам сесть на ту телегу и ехать и видеть”.
Повествователь чем-то доведён до такой крайности, что аж непосредственно к читателю, вон, обращается. Не чета ехидная издательская, мол, отстранённость Салтыкова-Щедрина? Не сатира у Василенко.
Что ж за для-нас-естественность в этакой условности – аж метафизической ультражестокости (“пыльная буря”, “в глаза песком и пылью”, “страха”, “ударить”)? Что за художественное пространство? Как его принять душе, чтоб и не замечать эту пока не-для-нас-естественность, как рампу и говорение залу в театре, как раму и плоскостность изображённого в живописи? Чем же это Василенко так отличается от меня, что мне не Астраханская кажется тут область, а какой-то Китай непонятный? Или это Василенко восстала принципиальной неправдоподобностью своего художественного мира против привычного, увы, привычного для нас, её современникам, невидения того ужаса, в котором мы сейчас (в 1997 году) живём?
Точно!
Это псевдоэпическое, что я процитировал, не начало произведения. Он начинается совсем, вроде, обыденностью:
“Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Скрып.
Скрып.
Скрып-скрып…
Надька на ржавых качелях качается: вверх-вниз, скрип-скрип.
Я на крыше стою смотрю.
Рядом во дворе мама мокрое бельё развешивает…”.
Почему вроде обыденностью?
Потому что и тут уже неприятность – скрип. И качели – ржавые. И быт – читаешь дальше – неприятный какой-то. И висящие чулочки – “как Надькины ножки: одна ножка, другая”. – Как труп расчленённый. И у папы машина не заводится. И тюльпаны – кровавые. И гадюка укусила Надьку. И так далее, и так далее.
И не совсем это заметно, что такая гадость кругом… И это ещё советское время, хоть уже давно не сталинское (Гагарин в космос полетел в 1961-м).
Совсем как мы и теперь, в постсоветское время, дескать, живём, принюхались, и как бы нет ужаса вокруг нас. И чтоб ужас увидеть, надо, получается, в утрированно-сталинское нас сунуть? – чтоб у нас открылись глаза.
Что ж это? Что стряслось в мире советском и постсоветском, отчего появилось само это стремление к “странному” с точки зрения привычных норм условности искусству? Что передаётся нам на этом особом языке ужасностей? И не подскажет ли что-то сама их малая степень условности? Чем ужасен и советский и послесоветский мир? Чем ужасен факт полёта Гагарина (раз уж такую радость не преминула Василенко от имени повествователя связать с целой кучей неприятностей: пошли в степь нарвать букет тюльпанов для чествования события – Надьку укусила гадюка; “я”-повествователь высасывал яд – а губа у него была треснутая; Надька – “дебилка” – его при этом описала, “обоссалась”; пошли после больницы посмотреть на положенные цветы – она опять… Отец за то ударил её – окружающие люди осудили; “я” зашипел змеёй на людей – и тоже схлопотал; Надька ещё больше разревелась – отец возроптал: “ГОСПОДИ, - говорит, ГОСПОДИ”). И заглавными буквами – “ГОСПОДИ”. Так, может, ещё и в том беда, что массово пропала вера в Господа?.. И тут ещё проклятия военному городку затесались. Так зная, что Капустин Яр это ж военный городок, обслуживающий ракетный полигон, то вспоминаешь, что ужас опасности ядерной войны ж, вообще-то, висит и тогда и сейчас. И мы ж все как-то попривыкли к этому всему. И к атеизму, и к предапокалипсису вот-вот ракетно-ядерной войны. А Василенко, наверное, не привыкла… И вполне возможно, что из-за этого она со всеми расходится, вот и применяет свой странный язык сплошных неприятностей и ужасностей. Чтоб докричаться до нас, толстокожих.
Так рассудив, я смог читать дальше про этих служителей дьявола, служащих советских учреждений.
………………………………………………………………………………………………..
И вот я кончил.
Я ошибся, думая, что, раз роман-житие выпущен в 1998 году, то он писался в 1997-м.
Там в конце написано: “Капустин Яр – Москва, 1993, 1998 гг”.
И выпущен он ноябрьским, одиннадцатым номером “Нового мира”. То есть после дефолта. А первая дата – год расстрела Ельциным Белого Дома из танков.
Ждали-ждали, веселились, получили – прослезились.
Реставрация капитализма…
Но ярость, двигавшая пером Светланы Василенко, мне стала ясна ещё после главы о Стеньке Разине.
А последние страницы, признаюсь, это надо, я читал просто сквозь слёзы.
Чтоб это понять, я сделаю отступление.
Где-то в 1949 году или годом-двумя позже наша семья претерпевала наводнение в Каунасе из-за весеннего паводка. Затопило не нас (нам, как всегда, в прошлом и будущем, изрядно везло), мы жили на третьем этаже, а мы просто потеснились ради соседей по двору, живших на первом этаже. Это было последнее большое наводнение. Советская страна поднатужилась ради своей новой и неразвитой республики и помогла осуществить “вековую мечту литовского народа”, построить плотину на Немане. На самом деле литовский народ и помыслить не мог, что о таком можно мечтать, и через 40 лет помощники уже числились оккупантами. А в промежутке между одной и другой датой плотина считалась главной опасностью для населения при ядерной войне. В случае её разрушения волна, прорвущаяся из рукотворного Каунасского моря, через сколько-то минут затопила бы центр города выше второго этажа. Это говорилось на занятиях по гражданской обороне, к которым все относились наплевательски. И вот после одного из них я, идя домой, в центр города, с работы, располагавшейся на так называемой Зелёной горе, по длиннейшей и пустой улице этой горы, от скуки подумал: а что я стал бы делать, если б вот сейчас, сию минуту, раздался гудок воздушной тревоги. Я, конечно, не помнил, через сколько минут после начала гудения будет атомный взрыв. Но улица была длинная, идти скучно, и можно было прикинуть варианты. Предположим, через минуту. Куда спрятаться? Я проходил мимо то ли канализационного, то ли связистского люка на тротуаре. Лучше всего спрятаться под люк. Там есть скобки-ступеньки на стенке колодца. Но люк чугунный, тяжёлый. И его не поднять без лома. Лом можно достать. Это была улица частных домов с приусадебными садовыми участками. В каждом таком доме можно ждать, что лом есть. Или знают, у кого из соседей он есть. Значит, надо бежать ну вот в этот, например, дом и объяснить мой план действий. Сколько это займёт минут? Ну полминуты. (А пока я это думал, я люк прошёл, и прошло уже полминуты. Так. Я не готов к атомной бомбардировке.) Ну ладно. Таких люков ещё полно впереди будет. Сколько ж это займёт? Пока пробегу эти метры, пока скажу, пока среагируют, пока найдут лом. Так. Сказать надо по-литовски, на всякий случай. Как по-литовски лом? Не знаю. Покажу жестом. Как сказать? Эйнам грейчау и канализация. Дуокит… лом (и покажу, как поднимаю крышку). Так. Ну, пройдёт минута, полторы, пока все, кто в доме, ничего не беря с собой, прибегут к люку… Будет толчея у него. Пролезать же можно только по одному. Ну, скажем, я как организатор буду лезть последним. И надо будет ещё, изнутри держа люк, плотно положить его обратно. (Лом надо будет не забыть наверху на всякий случай.) Сколько это займёт? Ну две, три минуты. Можно спастись. Но тут я вспомнил про мать. Она сейчас дома. Мы уже на втором этаже другого дома жили. Она не знает про волну, и никто из соседей про неё не знает и не догадается побежать на чердак. Стоп. А как же ударная волна? Она ж снесёт и крышу и дом. Тут не до волны. Или может не снести. Если атомную бомбу бросят над плотиной это сколько километров от дома? 5? Больше? Вдруг не снесёт. Тогда надо всё-таки бежать домой. За сколько я добегу? Минут за двадцать. Чтоб всё-таки с какими-то силами прибежать. Так. Если гудок означает получасовую готовность, то я могу успеть спасти мать. Чёрт! Какую же готовность означает гудок?! Вот проклятая безалаберность! Надо было запомнить… Надо будет рассказать завтра в курилке, о чём я после учёбы по гражданской обороне думал, идя домой.
И я рассказал. И все подняли меня на смех.
А на последних страницах “Дурочки”, - “я”-повествователь там младший школьник, и с его точки зрения всё, - описана одна ночь Карибского кризиса в Капустином Яре, где никто не относился наплевательски к гражданской обороне.
И что столкнуло две системы: капиталистическую и так называвшую себя социалистическую (лжесоциалистическую), - что они чуть планету не погубили? На кого зло иметь? На что? Что их столкнуло? – Стремление доминировать ради материального. Насчёт капитализма это стремление не подвергается сомнению. Насчёт лжесоциализма вне произведения это тоже так. Мы сами знаем. И в по-детски утрированном мире Василенко – тоже. Тракторина Петровна в детском доме не главная, она любовница сторожа – это понимаем мы, но не “я”-повествователь, младший школьник. Сторож ею помыкает. А у неё просто политически задуренная голова. Она при полуголоде топчет яйца за то, что они крашеные, пасхальные. А сторож их у детей просто забирает себе. Тот же просто людоед во время голода (ел детей кулаков). А в полуголодное время – смотрите: “Отрезал огромный ломоть хлеба, намазал его маслом, отрезал сало, сало положил на масло”. – То, что в лжесоциализме вне произведения называлось привилегиями.
Вот хапание Василенко и бесит. Всемирное хапание. Претворяющееся, в частности, в покушение на насилование и в само насилование главных героинь: дурочки Ганы в сталинское время и как бы её правонаследницы во время послесталинское дебилки Надьки.
В 193… году Ганну хотели изнасиловать бандиты, выступавшие против советской власти. Шло к тому и у совслужащего, сторожа детского дома, символа лжесоциализма. Надьку изнасиловали советские солдаты. А бесится от злости Василенко в 1993 году, когда окончательно потерпели поражение сторонники Руцкого и Хазбулатова, враги прихватизации.
Лишь в мистике хапание терпит поражение: золото Стеньки Разина уходит под землю, когда кусочек его хочет присвоить себе чернобородый кузнец.
Светлану Василенко бесит, что раз за разом как-то так получается, что строй устанавливается хапужный. После утверждения равенства в Поволжье при Стеньке Разине… В бывшей царской России после 1917 года… В России после свержения начальничьих привилегий в 1991 году…
Об Америке у неё речи нет. Вернее, есть вот что:
“Разжигать костёр было нельзя, чтобы не дать наводку врагу, который наблюдал за нами со спутника. Но наша Тракторина Петровна [а это единственный персонаж, связывающий сталинщину и нынешний ужас] приказала нам набрать травы перекати-поле.
Она разожгла костёр в ночи.
- Пусть видит Америка нас, пусть целится в нас получше, - сказала Тракторина Петровна в чёрное небо – прямо в звёздные глаза Америки, целящейся в нас.
Все сели вокруг костра и запели яростные песни двадцатых годов – эти песни своей юности научила нас петь Тракторина Петровна. Всё было сначала так, как в походах, у пионерских костров.
Я сидел рядом с Надькой и не пел”.
Ненужный, понимай, антагонизм “я”-повествователем, ребёнком отвергается по своей ребячьей сути. И преодолевается его заклинанием к Америке. И факт – нападения не было. - Так это от доброты Америки? – Нет. Она полюс Зла, как и сталинизм и советскость. Это ж очевидно бывшей советской интеллигентке. Ну так она в Америку не уехала.
А если советский интеллигент туда уехал…
“- Горячей войны не будет. Это война потенциалов. Потому и ставят в Румынию ПРО, что есть шанс руку русским заломить, и они откажутся, скажем, в пользу США от части арктического шельфа. Или вернут позицию на Сахалине с добычей там газа. Или не станут упрямиться с хлорированными ножками Буша.
- Я достаточно информирован, чтобы понять две очень простые вещи: несколько противоракетных комплексов в Румынии – это: а) бесконечно малая величина в термоядерных потенциалах Америки и России (но не малая, если говорить о защите Европы от потенциально возможных ядерных ударов от стран типа Ирана или террористов, захвативших ядерное оружие в Пакистане), а, следовательно, НИКАК не меняет этот баланс; б) прекрасный инструмент в руках российской власти (что, кстати, дискутируется в правительстве Обамы), чтобы морочить голову лохам (большинству страны) вроде тебя, что даёт возможность спокойно грабить страну.
- Всё-таки зло берёт. Это какую ж наглость с твоей стороны нужно иметь, чтоб считать себя компетентным в военной области.
Вот что ты уже знаешь, а я нет?
- Я не хочу – да и не имею времени – спорить с тобой на эту тему. Я читал достаточно – например, недоступные тебе материалы на английском – из разных стран (а если “не читал, но знаю”), чтобы сделать те заключения, которые я сделал.
- Жаль, что я не знаток истории дипломатии. Было б интересно узнать, вёл ли кто-нибудь когда-нибудь себя так: как с ребёнком, с хорошо спрятанным высокомерием.
Всё-таки мне 72 года. Более-менее я в курсе, что делалось в политике несколько десятков лет. - Я такого цинизма не упомню.
Нет. Не цинизм. Презрение к партнёру. Это хуже, чем цинизм.
И как выдерживать такое к себе отношение? Хрен знает...
Сам не дипломат в высшей степени, я ума не приложу, с какой миной надо выдерживать такое поведение врага.
Как сказал один из спецов в том междусобойчике, в информационной войне мы просто ничто. И привёл в пример Грузию 2008 года. А я б предложил в пример тебя со мной: в частном порядке говорит мой родственник, что расширение НАТО на восток и ПРО в Восточной Европе и Балтийском и Чёрном море не направлено против России. Причём не болван, а интеллигент. Когда есть привычка, что интеллигенция в той или иной мере против своего правительства всегда. А тут, мол, нет. И из ума ещё не выжил. И не шутит.
- Тебе бы не блог “военных спецов” читать.
Ты, наверное, знаком с самыми популярными темами российских блогов последней недели – аварией, в которой чиновник из Лукойла убил двух гинекологш, и случаем, когда менты насильно устроили заслон из гражданских машин (в одной из них беременная), чтобы поймать карманника. Или про очистительные фильтры Эдра-Грызлова-Петрика, от которых дохнет рыба, устанавливают в новгородских школах… Вот почитай реакцию на это народа. Кажется, всё больше людей на сказки о “подлётном времени” не покупаются.
- Нет. Я делаю другое. Я вник и вникаю дальше в Василенко, которая своей душой почувствовала это подлётное время и теперь истошно хочет пробиться к нашим душам, чтоб до нас дошло, что заигрались в войне потенциалами ради хапания и хапания и хапания.
Я свой участок фронта идеологической войны не оставлю. Меня не переориентируешь. Ты ещё признаешь, что у меня хватает мозгов.
- О да! Василенко именно почувствовала, что Россия заигрались в войне потенциалами ради хапания и хапания и хапания. С этой частью я абсолютно согласен – великолепная писательница. Потому она мне так понравилась. – В стране, где до сих пор – в 21 веке – власть это оккупационная армия (кто это сказал – Герцен? Щедрин? Короленко? не помню – в любом случае – Русский Интеллигент) – в такой стране нужны “враги” (“подлётное время”).
Ну и ладно. Ты там продолжай свой “идеологический фронт” - а я к этому не имею отношения.
- Ты имеешь отношение к тому, чтоб в источнике зарубить мой фронт.
Например, непрерывными предложениями ухода от вопроса.
А твоё " "podletnoe vremja" - pshik" есть ноль. Ты говорил о количестве противоракет, а не о подлётном времени. Количество же, имея инфраструктуру, быстро наращивается. Если наши сумели когда-то скрытно подвезти к Кубе сколько-то ракет, то, думаю, и теперь ваши смогут скрытно подвести противоракеты. Или даже не скрытно, если иметь в виду войну потенциалов, а не реальную войну.
Подвезли - и (волен-с-не-волен-с) подчиняйся вашему диктату, чтоб тебе, в результате, медицинская страховка была лучше качеством.
А что может случиться какая-то авария и при секундах для принятия решения можно с ситуацией не справиться - это (ты ж не Василенко) тебе плевать.
Ну, а раз плевать, то молодец правительство, нашедшее способ улучшать твою медицинскую страховку.
Вот и понимай, что у тебя теперь в голове, если ты пытаешься - да и не пытаешься, просто авторитетом давишь - уговорить меня признать, что чёрное есть белое”.
Власти это оккупационная армия – это хорошо сказано.
В романе-житии у Василенко от неправых действий советской власти без вины: убитых – 3, ранено – 1, арестовано – 4 и масса всяческих притесняемых. И сплошные по тексту глав о советском времени ужасности.
Вот бы узнать, когда Семёнов опубликовал свою работу о политаризме. Могла ли Василенко её прочесть в 1993 году и после этого начать писать “Дурочку”?
Узнал: могла. - “Россия: что с ней случилось в XX веке”. Российский этнограф. Вып.20. — М., 1993. Мудрено, конечно, что Светлана Василенко, или кто-то из её знакомых раскопал этого “Российского этнографа”. Но, в конце концов, не всё ж у кого-то брать. И сам человек тоже видит, что вокруг делается. Я, например, провинциал, давно в своих писаниях в стол окрестил СССР царством Липы. В Москве люди могли быть попрозорливее.
Так или иначе, вот, что у Семёнова написано:
Номенклатурщики, “…вместе взятые, являлись собственниками не только средств производства, но и личностей непосредственных производителей. Колхозники, как известно, в то время были фактически прикреплены к земле, что и вынуждало их работать на государство, по существу, полностью безвозмездно. Эксплуатация здесь выступала в неприкрытой форме.
Грубой и совершенно откровенной была, конечно, и эксплуатация огромной армии работников, наполнявшей в сталинские времена бараки ГУЛАГа…
На большое сходство между советским обществом и восточными указывал К. А. Виттфогель в монографии “Восточный деспотизм. Сравнительное исследование тотальной власти”…
[Плеханов писал]: “совершившаяся революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перуанской империи, т. е. к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке”…
Основную массу производителей материальных благ в индустриально-политарных странах составляли доминарно-зависимые работники [с семьями, кое-какими правами и имуществом]. Они были не только экономически, но и лично зависимыми [политпослушным рабочим - выводиловка вместо оплаты по труду, политпослушным служащим – повышения и профсоюзные дары]. Собственность политаристов на их личности носила верховный характер [не полный]. Особое место занимали заключенные. Их зависимость в течение срока заключения была в сталинские времена почти что полной. Они представляли собой аналогов рабов. Наряду с доминарно-зависимыми работниками, могли существовать магнарно-зависимые [в пользование дана земля, зерно, скот, инвентарь] и, наконец, верховно-зависимые. Такова структура класса эксплуатируемых в индустрополитарных обществах”.
К такого же рода идейным источникам можно отнести книгу Коэна “Бухарин. Политическая биография 1888-1938” 1988 года издания, в которой различаются большевизм и сталинизм. Из рецензии на неё:
“…в 20-е годы большевиками последовательно проводилась политика гражданского мира с вооружённым после гражданской войны населением, отобранным по приказу Сталина только в 29-м год. Разгром этого общества Коэн исследует детально”, в частности, на примере Бухарина. И вот пророческие слова Бухарина ещё в 1915 году:
“Подобная экономическая структура напоминала бы более всего замкнутое рабовладельческое хозяйство, при отсутствии рынка рабов”.
В 1928 году он же:
“Раб в этом обществе получает свою часть продовольствия, предметов, составляющих продукт общего труда. Он может получить очень мало, но кризисов все-таки не будет” (http://www.bookmix.ru/book.phtml?id=182655&rid=17115).
И то же из другой работы Коэна “Большевизм и сталинизм” "Вопросы философии", 1989, №7:
“В 1937 году, когда сталинский террор уничтожал большевистскую элиту, Троцкий добавил: "Нынешняя "чистка" проводит между большевизмом и сталинизмом... целую реку крови"”.
“…одна и та же идеология способна по-разному влиять на события. Так, христианство ассоциируется и с гуманизмом и с инквизицией, а социализм - и с социальной справедливостью и с тиранией”.
“…официальная идеология кардинально изменилась при Сталине… Речь идет о возрождении национализма, доминирующей роли государства, антисемитизма и консервативных или реакционных норм поведения и культурной жизни; отказе от идей и отмене законов, покровительствующих рабочим, женщинам, школьникам, национальным меньшинствам и способствующих установлению равенства…” (http://www.istmat.ru/index.php?menu=1&action=1&item=103).
То есть, нет непрерывности. В конце 20-х годов произошла контрреволюция, появилось антагонистическое классовое общество. Значит, с антагонистическими противоречиями. Значит, превращение политаризма в социализм – дело кровавое. Правда – при условии, что массы эту теорию впитают, как это было с теорией Маркса. Но для Маркса в России, так случилось, история предоставила несколько десятилетий. А для Семёнова и других – шиш. Что могло сведущих оч-чень злить.
И вот отсюда могли произойти ужасности (и, наоборот, идеализация Стеньки Разина) в мире Василенко, представленном лепетом возбуждённого младшего школьника, “я”-повествователя. Встав на такую точку зрения, такая условность, как сплошные советские ужасности, представляется-таки естественной.
Что и требовалось доказать.
Светлана Василенко как бы говорит: “Вы, люди все, я вас ненавижу! И вас, читатели мои, ибо прочтёте, и – ничего. Я вас всех ненавижу за то, что принюхались к хапанию, какой бы общественный строй ни был, за то, что хапаете сами, за то, что не свергаете хапужный строй. Я вас особенно ненавижу за то, что вы согласились и привыкли к тому, что хапание скоро погубит человечество. Не-на-ви-жу я вас!”
20 марта 2010 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/61.html
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |