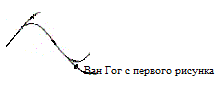
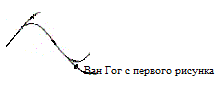
С. Воложин
Ван Гог. Пейзаж в сумерках. Едоки картофеля
Белый сад. Сельский дом в Провансе
Мост Тренкетая. Сеятель
Ночное кафе в Арле
Образный и художественный смыслы
|
Если иномир будет дан образно, то останется ж подозрение, что это просто усиление известного чувства… Отрешённости… |
Как трудно повернуть человечество к другой жизни
(Продолжение)
Я был спровоцирован писать предыдущую статью. И провокатор оказался прав: Ирвинг Стоун действительно верно уловил пафос творчества Ван Гога, указанный в заглавии моей статьи. Но вывод этот я сделал, прочитав лишь полкниги. А теперь мне говорят, что я не прав, ограничившись всего лишь первой половиной книги. Не прав потому, что рассмотрел только проявления ницшеанства в начале его творчества, в период, не характерный для истинного Ван Гога - постимпрессиониста. И опровергается моя установка, что Ван Гог был не тот художник, у которого изменяются идеалы (что отражается на его творчестве). Опровергается моё, если, мол, у него и прослеживаются разные стили, то это не более чем, - как ложноножки у амёбы, методом проб и ошибок прокладывающей свой путь, - пробы пера, нехарактерные вещи. А на самом деле он, мол, развивался – от малых голландцев к Рембрандту, а от него уже в импрессионизм, хотя сам он импрессионистом не остался, а пошёл дальше. Я виноват, мол, в том, что взял Ван Гога в статике.
Ну что ж… Продолжим своё предвзятое чтение “Жажды жизни”.
Но теперь я просто стану комментировать, если смогу, конкретные картины реального Ван Гога, если они описываются Стоуном. (Меня по-прежнему не интересует писательство Стоуна.)
“Вечернее небо отливало золотисто-сиреневыми тонами, на фоне рыжего кустарника четко выделялись темные силуэты домов. Вдали высились тонкие черные тополи, зеленый покров полей выцвел, местами лежал снежок, кое-где чернели пятна взрытой земли, а по краям канав щетинился сухой желтый камыш”

Пейзаж в сумерках. 1885.
Жизнь зла, жалка и несчастна. Та же грязь и лужи, вон… Словами стоуновского Винсента: “…сама жизнь, Марго, повернута к человеку своей бессмысленной, равнодушной, безнадежно пустой стороной, на которой написано ничуть не больше, чем на чистом холсте”. А заполняя холст, можно – по крайней мере, порыв такой – возвыситься над нею, такою несчастной. Эскапизм, бегство из жизни… В зарю, вон, такую необычную – на полнеба. Только осенью, когда холодно и ясно бывают такие зори (если небо не закрыто этими, кажется, вечными на севере облаками и тучами).
Понятно, почему Стоун взял этот пейзаж как предварение буквального бегства из жизни этой Марго. Она любила Винсента. Ей не давали за него выйти замуж. И она предчувствовала, что любовь и не может длиться долго. Тогда зачем и замуж-то идти… (Она не знала ещё, что Винсент её уже не любит. Или, наоборот, всегда знала. Жизнь – зла.) Ну так она пришла туда, где он рисовал эти сумерки, попрощаться с ним и отравилась.
Не знаю… Может, Стоун чувствовал ницшеанскую красоту обоих этих бегств из жизни… Обстоятельства – не властны Там и над ним, и над нею.
Не всякий согласится, что это – красота…
Можно сказать, что эти словеса – натяжка. Что сама по себе картинка ничего не говорит. Что в ней просто запечатлена осенью, в слякоть, вечерняя заря, не шибко и выдающаяся даже цветом, светом, чтоб тянуть на исключительность. Аналогичное, мол, изорвал у него его учитель в Гааге: не подлаживайся, мол, под покупателей. (Я вполне могу себе представить покупателя этой картинки, не обращающего внимания, кто её нарисовал. Здорово ж передано, что листья с деревьев полуоблетели… И эта разница оттенка отражения неба в двух лужах как точна… А прерывистая видимость стволов? – Ну в сумерки ж плохая видимость… - Здорово.)
“…ему хотелось написать семейство Де Гроотов за ужином, когда они едят свой картофель и пьют кофе, но, чтобы картина была верна, он считал, что сначала надо перерисовать всех крестьян в округе”.

Не нашлось у Стоуна чуткости, чтоб увидеть тот динамит, который взорваться должен был в душе у зрителя и привести его к сверхреволюционному отношению к этому злому миру?
У Анри Перрюшо промелькнуло: “тяжелые лица с грубыми чертами, узкие лбы, широкие носы, резко очерченные скулы, толстые губы, челюсти, выдающиеся вперед… Грубым формам сопутствуют мрачные тона: глинистый коричневый, грязноватая охра, оливковый зеленый, берлинская лазурь, почти переходящая в черный” (http://www.bibliotekar.ru/pVANGOHG/9.htm)...
Признаться, я в некоторой растерянности.
У меня есть догма, что художественность – это сложноустроенность (из ценностных противоречий состоящая и кое-чего ещё). В случае с “Едоками картофеля” (с этой вообще первой картиной Ван Гога; для которой все лица-то и рисовались) одна ценность – это нормальные лица и нормальное освещение в комнате. Они подразумеваются людьми такого происхождения, для которых на продажу пишутся картины, не крестьяне. Другая ценность – ненормальные для тех же покупателей лица и ужасное (для них же) освещение на картине. И от их столкновения – третье: катарсис. Который, будучи осознан, означает нечто, отталкивающееся и от скучной обычности, и от ужасной необычности, то есть нескучная необычность. – Такая вот сложноустроенность, мол, есть художественность. Она на уровне духовном состоит из двух осознаваемых переживаний и одного неосознаваемого. А на уровне материальном (на уровне “текста”) – из двух ценностных противоречий.
Это, повторяю, догма.
А что если нескучная необычность будет дана сразу, образно (на уровне “текста” - чем, на уровне духа – что; сложноустроенности нету). Например, та всепроникающая заря из “Пейзажа в сумерках”. И что? Сложноустроенности нету – так и художественности нету?!. Дан чуть ли не “в лоб” иносказательный смысл… Как в произведениях прикладного искусства, призванных усиливать заранее известное чувство.
Но какое ж оно, к чёрту, заранее известное, когда оно словами невыразимое такое. Что натяжкой кажутся любые адекватные слова…
Если же вспомнить про колоссально деформированную природу в будущих у Ван Гога пейзажах… Там-то уж точно заранее известное переживание – переживание ницшеанца, улетевшего в свою вечность, вневременность, апричинность и тому подобную необычность, образно выраженные фантасмагорическими мазками чистого цвета… Там-то точно нету сложноустроенности, т.е. художественности?.. Образность – есть. А художественности – нет.
Мало, что вдруг ницшеанец Ван Гог (никто ж его так не называет), так ещё и нехудожественность он выдаёт…
Бр.
Нет, Стоун всё-таки нашёл. У него Ван Гог всё никак не мог удовлетвориться картиной и рвал, рвал один холст за другим, пока:
“В ту пору он вкладывал всего себя в воссоздание натуры; теперь же он выразил натуру через свое восприятие.
Он писал композицию в тоне картофеля…”

Едоки картофеля. Холст, масло. 1885.
Отвратительность (с точки зрения зажиточных, кем душою был Ван Гог при всей своей, казалось бы, вхожести к крестьянам и при собственном эпизодическом голодании при задержке денег от брата), - отвратительность нужна, оказалось, не только в лицах, а и в красках.
“…и на всех лицах печать спокойствия, терпеливого смирения перед извечным распорядком вещей”.
Ненавистная… Ультраненавистная… Глядя откуда?..
Так. Париж. Не должен ли я не миновать и тех, с кем Ван Гог сомкнул общий, ницшеанский фронт?
“"Лотрек, - сказал он мне, - зачем вы постоянно рисуете безобразие? Зачем вы все время пишете самых грязных, самых беспутных людей? Эти женщины отвратительны, просто отвратительны. Пьяный разгул и грязные пороки начертаны у них на лицах…"”




И Тулуз-Лотрек у Стоуна, кажется, тоже что-то не понимает себя (если не шутит):
“- Выпьем за безобразие, Ван Гог! - воскликнул он”.
Это импрессионисты принимали (в отчаянии, почти голодая) любую жизнь, лишь бы – жизнь… Любая секунда. И даже тем паче секунда. А постимпрессионисты её тоже принимали, злую жизнь, но уже с точки зрения принципиального игнорирования. Нет. “В том борделе было двадцать семь девушек. Я спал со всеми без исключения”, - говорит стоуновский Лотрек. Но это не то… “…необходимо поспать с женщиной, чтобы понять ее до конца”. Это – как вхожесть к крестьянам, технология эскапизма. Куда? – Думайте. Я думаю, что в наджизнь, что над добром и злом. Метафизика некая. “Это были портреты без всяких прикрас, без тени осуждения или упрека”. Чего упрекать, если автор – над. Может, и Чехов для того в каждом городе сперва узнавал, где бордель. Надо накачаться ненавистью к жизни. (Опять вспомнилось стоуновское название “Жажда жизни”. Правда, тут же наткнулся на слова стоуновского Лотрека: “- Всякое великое искусство порождается ненавистью…”)
Гоген:
“…я считаю его [Париж] огромной помойкой, не более. Вся цивилизация – помойка <…> я скорее опущусь до онанизма, чем стану растрачивать свои чувства. Я берегу их для живописи…
Винсент приготовился к чему-то необыкновенному, но то, что он увидел, вызвало у него лишь недоумение. Все на этих полотнах насквозь пронизывало солнце; тут были деревья, которые не мог бы определить ни один ботаник; животные, о существовании которых не подозревал и сам Кювье; люди, каких мог сотворить только Гоген; море, словно излившееся из кратера вулкана; небо, на котором не мог бы жить ни одни бог…”

Отрешённость же от реального дана “в лоб”. Как редкая в пасмурной Голландии заря на полнеба в “Пейзаже в сумерках” Ван Гога. Только гораздо смелее.
“- Вы как Лотрек, - сказал Винсент. - Вы ненавидите. Ненавидите всей силой вашего сердца”.
Браво, Стоун!
Сёра.
“Ничего подобного он не видел до этих пор ни в искусстве, ни в жизни. Картина изображала остров Гранд-Жатт. Здесь, подобно пилонам готического собора, высились какие-то странные, похожие скорее на архитектурные сооружения, человеческие существа, написанные бесконечно разнообразными по цвету пятнышками. Трава, река, лодки, деревья, - все было словно в тумане, все казалось абстрактным скоплением цветных пятнышек. Картина была написана в самых светлых тонах - даже Мане и Дега, даже сам Гоген не отважились бы на такой свет и такие яркие краски. Она уводила зрителя в царство почти немыслимой, отвлеченной гармонии. Если это и была жизнь, то жизнь особая, неземная. Воздух мерцал и светился, но в нем не ощущалось ни единого дуновения. Это был как бы натюрморт живой, трепетной природы, из которой начисто изгнано всякое движение”.

Я ж говорю то и дело о метафизичности ницшеанства… Отрешённости…
А вникать в разглагольствования стоуновского Сёра нечего. Это, как и разглагольствования его Винсента о своём боге, Милле и реализме. (Через несколько глав есть такая фраза: “Сёра развивал свою новую теорию”. Несерьёзно, по Стоуну, с теориями у Сёра.)
“- Восхитительно! - говорил Тео в тот вечер. - Мы назовем этот этюд "Резюме". Наклеим ярлычки на каждый кусочек полотна. Вот это дерево - настоящий, чистейший Гоген. Девушка в углу - несомненный Тулуз-Лотрек. По солнечным бликам в ручье я узнаю Сислея, тон - как у Моне, листья - Писсарро, воздух - Сёра, а центральная фигура - Мане, как есть Мане”.
Не загнул ли Стоун?

Рыбная ловля весной. 1887.
“В сравнении с техникой Сёра, мазок у Ван Гога крупнее и свободнее. В то же время, не отдаваясь целиком хроматическим контрастам, Ван Гог сознательно использует сочетание дополнительных цветов - розового и зелёного, синего и жёлто-оранжевого. Картина окаймлена красным бордюром, в подражание живописным обрамлениям многих полотен Сёра” (http://www.km.ru/referats/CA51AA49F1874B7ABB5988CF55EE7E2B).
Пожалуй, Стоун и загнул, и не загнул.
Сёра свой мир обездвижил. Это – иномир какой-то. А у Ван Гога ж всё изрядно обычное и благостное. У него ж не абсолютная обездвиженность, а рыбацкая. Техника дивизионизма оказалась не способна сама по себе создать большую странность (если только нет со мной эффекта, что я не могу перенестись в то время, когда дивизионизм сам по себе ошеломлял).
Я не могу удержаться и не процитировать впечатление стоуновского Гогена от голландских картин Ван Гога:
“- Понимаешь... твои картины... кажется, что они вот-вот взорвутся и спалят самый холст. Когда я гляжу на твои работы... и это уже не первый раз... я чувствую нервное возбуждение, которое не в силах подавить. Я чувствую, что если не взорвется картина, то взорвусь я! Ты знаешь, где у меня особенно отзывается твоя живопись?
- Не знаю. Где же?
- В кишках. У меня выворачивает все нутро. Так давит и крутит, что я еле сдерживаюсь”.
Молодец Стоун!
Опять не могу удержаться…
Стоуновский Винсент в жажде высветления своей палитры поехал в Арль. Тот его поразил яркими красками. И – это ж воплощённое счастье, думаю. А помните про моё смущение насчёт несложноустроенности “Пейзажа в сумерках”? Если иномир будет дан образно, то останется ж подозрение, что это просто усиление известного чувства… Отрешённости…
Как вдруг Стоун даёт жуть про Арль:
“Сегодня вы почувствовали, какое тут солнце. Можете себе представить, что происходит с этими людьми, если оно палит их постоянно, день за днем? Уверяю вас, у них все мозги выжжены. А мистраль! Вы еще не нюхали мистраля? Бог мой, вот увидите. Мистраль, словно бич, обрушивается на город и не стихает двести дней в году. Если вы пытаетесь пройти по улице, мистраль швыряет вас, прижимая к стенам домов. Если вы в открытом поле, он валит вас с ног и вдавливает в землю. Он переворачивает вам все кишки, - вам уже кажется, что вот-вот всему конец, крышка. Я видел, как этот дьявольский ветер вырывает оконные рамы, выворачивает с корнями деревья, рушит изгороди, хлещет людей и животных так, что, того и гляди, разорвет их в клочья”.
Это ж столь необходимое для ницшеанца “так жить нельзя!”…
“На другое утро Винсент набрел на сливовый сад, весь в цвету. Он начал писать, но тут поднялся яростный ветер, он налетал порывами, словно морской прибой. В минуты затишья солнце заливало своим сиянием сад, и белые цветы ярко сверкали в его лучах. Ветер грозил каждую минуту опрокинуть мольберт, но Винсент все писал и писал. Это напоминало ему схевенингенские времена, когда он работал под проливным дождем, в тучах песка, в соленых брызгах морской воды. Белый цвет на полотне отливал всеми оттенками желтого, голубого и сиреневого. Когда он кончил писать, то увидел на своей картине нечто такое, чего он вовсе и не думал в ней выразить, - мистраль.
- Люди подумают, что я писал ее спьяну, - рассмеялся Винсент”.

Белый сад. Арль, апрель 1888.
Я намёк на мистраль вижу разве что в иначе необъяснимом появлении тёмных полос на небе. А вообще-то не получилось нарисовать ветер (как в Схевенингене не получились море и облака). Но на необъяснимые полосы он пошёл. Это знаменательно.
И неужели Стоун настолько тонок, что находится тут в области сознания героя, не понимающего, что вещь – пустяк? Что позывов взорваться не вызывает.
Пробиваясь через стоун-вангоговское упоение солнцем и светом, нахожу хоть что-то ужасное…
“Лето становилось жарче и жарче, кругом все было сожжено его дыханием. Винсент видел вокруг себя лишь тона старого золота, бронзы и меди, осененные чуть поблекшим от зноя зеленовато-лазурным небом. От палящего солнца на всем лежал какой-то сернисто-желтый оттенок”.


|
Сельский дом в Провансе. 1888. |
Арль. Вид пшеничных полей. 1888. |
Травы и стебли дают пока естественное право Ван Гогу удлинять мазки чистого цвета. Но он прорывается уже и к сверхъестественным мазкам. Опять на небе. И оно зловеще.



Я стану пропускать описания Стоуном картин, в которых писатель не выявляет их настроения. Например, перечисление предметов (и их цвета) в натюрморте.
“…вид Роны с железным мостом на Тренкетай - небо и реку он сделал в тоне абсента, набережную написал лиловой, фигуры людей, облокотившихся на парапет, почти черными, самый мост - густо-синим, а темный фон оживил вспышкой оранжевого и яркими пятнами малахитовой зелени. Винсент пытался выразить в пейзаже бесконечную тоску, от которой сжалась бы душа зрителя”.

Мост Тренкетая. 1888.
Могу похвалить Стоуна за “бесконечную тоску, от которой сжалась бы душа зрителя”, но надо признать, что достичь этого реальному Ван Гогу всё же не удалось. До бесконечности далеко.
А вот Стоун промолчал о впечатлении, перечислил предметы и их цвета, но я процитирую, потому что, хоть и без этой сложноустроенности, а напрямую, образно реальный Ван Гог действует очень сильно.
“…он написал полотно: широкая вспаханная нива с глыбами фиолетовой земли, уходящими к горизонту; фигура сеятеля в синих и белых тонах, вдали полоса невысокой, вызревшей пшеницы; и надо всем - желтое небо с желтым солнцем”.

Сеятель 4. 1888.
Вот это да!
Действует, наверно, это завораживающее всегда и всех космическое явление захода солнца. И с такой это тоской посылает оно последние свои лучи… Так жалеет всех остающихся, мучающихся тяжёлым трудом… Что действительно сосёт под ложечкой от тоски по чему-то вечному и совсем не такому, к чему здесь привыкли.
Язык не поворачивается, красно говоря, говорить, что это – образное выражение… – Чего? Ницшеанства?! – Так позор на мою голову – так сужать и высушивать. Тысячу раз правы те, кто не переносит толкователей!
Но. Я ж не претендую на многое. Только на намёк. Правда, – на намёк на единственно верное. Ван Гог – именно ницшеанец, а не гуманист снисходительный к недостаткам, или сочувствующий трудовому народу, или кем он там ещё трактуется.
Есть такое физическое понятие – солнечный ветер. Это частицы вещества, от непрерывного взрыва на солнечной поверхности несущиеся вон от Солнца и пронизывающие атмосферу Земли, в частности. Так Ван Гог как бы предзнает про солнечный ветер, так, дискретно, рисуя солнечные лучи. Точки тёмного мрака там – тоже ж на какую-то мистику, прямо, работают… Художник как бы прикоснулся к какой-то тайне тайн.
Ну что после этого земные страдания какие бы то ни было!..
Мороз по спине – вот, что такое ницшеанство. Священный ужас.
А сеятель, собственно, не отличается от тех птиц, что воруют брошенное им на землю зерно. Ничтожество.
А может, это не зерно? На земле растения какие-то с фиолетовыми листьями… Не сеют же в непрополотое от каких бы то ни было растений поле… – А какая разница! Какая разница, что на Земле происходит! Важно, что она – фиолетовая, то есть находится в сильном цветовом контрасте с жёлтым. И всё. Важны законы совсем неземного порядка…
И, – кто его знает? – может, тут даже и кроется где-то эта вожделённая сложноустроенность… (1) земная обычность (подразумеваемая) + (2) земная необычность на картине = (3) подсознательному катарсису, который, будучи осознан сколько-то, означает (4) неземное что-то… обычное оно или необычное там – уже не важно.
Опять не удержусь…
“Наш мир, видимо, создан в спешке, в один из тех черных дней, когда у творца был помрачен разум”.
Слова стоуновского Винсента.
“С помощью красного и зеленого цветов он старался выразить дикие человеческие страсти <…> Он хотел показать, что кафе - это такое место, где человек может покончить самоубийством, сойти с ума или совершить преступление”.

Ночное кафе в Арле. 1888.
Цивилизованная тюрьма, из которой нельзя вырваться… слабакам.
|
Ты куришь черную трубку, Так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, Чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки… |
Даже дверь кажется такой же фальшивой, как и окно.
Где тот Гоген: “если не взорвется картина, то взорвусь я!”
И ведь нет виноватых – так устроен Этот мир.
Что сильней действует: явленный образ иного мира или неявленный (явленный через от противного)?..
Картины у Стоуна пошли с такой частотой, что обесценивается моя затея следовать за ним с иллюстрациями и комментариями. Исчерпана затея. Ницшеанство прослежено до апогея своего выражения у Ван Гога. И я кончаю.
Остаётся только обратить внимание, вспомнив заодно и упоминавшихся тут Тулуз-Лотрека, Гогена, Сёра, как многообразно по стилям ницшеанство выражается. Это, наверно, потому, что ницшеанство есть тип идеала, нечто более широкое, чем идеал. Не зря этот тип идеала прослеживается далеко-далеко в будущее, в ХХ и ХХI века. Вот что значит в конце XIX века уход центра революционного движения из Западной Европы. Именно Запад был и остаётся авангардом человечества, приверженного к неограниченному прогрессу. И пока человечество не спохватится, что погибнет от перепотребления и не обратится к традиционализму (новому традиционализму, без религиозности), до тех пор индивидуализм и его крайнее выражение, ницшеанство, будет и будет вдохновлять художников на всё новые стили выражения этого типа идеала.
2 июля 2013 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |