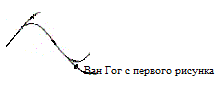
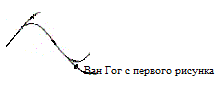
С. Воложин
Ван Гог. Углекопы. Печаль. Ткач у станка
Художественный смысл
|
Тихий ужас дурной бесконечности бьёт по вашему подсознанию. |
Как трудно повернуть человечество к другой жизни
Я себе так думаю… В произведениях искусства есть тайна. По крайней мере, в некоторых. Кто – это чувствует, кто – нет. Но что что-то там с искусством экстраординарное деется – все слышали.
Это чувствуется и в книге Ирвинга Стоуна “Страстное путешествие или Жизнь художника” (1949). Но я про это читаю и пожимаю плечами (я, правда, лишь и до середины книги не дошёл). Ну, да. Ну полон Париж этими смутно знающими про тайну людьми, хотящими стать художниками. Ну стоит-таки писателю не сразу раскрывать самый-самый перец жизни художника… Всё да. Но.
Вот герой, Джон Нобль, приехавший из США в Париж, чтоб открыть что-то от тайны живописи, поспав немного после приезда, бросается в Лувр, и…
“Желая начать осмотр в хронологическом порядке, он отправился в залы итальянской школы и, почти остолбенев, застыл перед прекрасной своими красками и глубоко одухотворённой картиной Джотто “Святой Франциск, получающий стигмату от Христа”…”
А я лишь пару месяцев назад с помощью книги “История искусства как история духа” (1924) знаменитого Макса Дворжака хорошо разобрался (см. тут) именно с этой картиной. Ну мог же Стоун Макса Дворжака к 49-му году прочесть.
Пусть структура предложения у Стоуна не позволяла останавливаться ни на одной из перечисленных в этом предложении картин… Но я читаю, читаю дальше, а он что-то всё не соберётся ни про одну написать так, чтоб забрезжило конкретикой “глубоко одухотворённой” проблематики хоть какой-нибудь картины.
И я подозреваю, что простое ля-ля у Стоуна было про картину Джотто. Ибо по Дворжаку удивление в связи с нею было, по Дворжаку, не в “прекрасной своими красками” живописи, а в огромности (для своего времени) пространства в картине. (Да, Джон Нобль не мог ничего знать про то время и потому не остолбенел от пространства. Да, интернет не передаёт подлинность красок, и не остолбенел от красок в репродукции с этой картины и я. Но.)
Я подозреваю, что Стоун просто прочёл про легенду, которую проиллюстрировал Джотто. А чуть не главным героем той легенды был сверхъестественный свет от горы. Вот Стоун и…
Дворжак, конкретизируя мысль об открытии для живописи пространства, говорит, что изображённая в нём природа, оказавшись не похожей на реальную природу, позволила Джотто приравнять искусство (фантазию) – науке и религии. Это, казалось бы, действительно делает картину “глубоко одухотворённой”. Шутка сказать: автономные – эстетические – ценности создавать призван теперь художник, по Дворжаку, - Дворжаку, выступающему в этом моменте аж против самого себя, открывшего, что история искусства не автономна (первична), а есть история духа (который сам первичен). То есть Стоун мог Дворжака, это место, даже и прочитать… И понять его как обоснование формализма… Мировой центр которого тогда был в Париже… И для того и поместил своего Джона Нобля в Париж… Но я тогда до этого не додумался. И за начавшую прорезаться поверхностность Стоуна его осудил.
Я выразил своё фэ по поводу Стоуна и услышал в ответ возражение, что Стоун совершенно иначе подходит к картинам и краскам в своей книге “Жажда жизни” (1934) о Ван Гоге. (Позже я понял, что это, возможно, неверный перевод, а на самом деле – “Вожделение на всю жизнь”. Но “Жажда жизни” сообщила мне большой критический импульс. Он мне дорог, и я не стану переделывать всё, что ниже.)
Тут я и вовсе взвился: какая, к чёрту, жажда жизни у художника-ницшеанца?!. У тех, можно сказать, жажда смерти! (Ну… точнее – жажда такой жизни, что на грани со смертью. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, как сказал поэт.)
Вот стану читать этот иной подход и построчно громить Стоуна…
Впрочем, мыслимо, что у меня не получится. Ибо Стоун окажется прав.
Есть такой способ выражения правильного понимания художественного смысла произведений, когда текст о биографии является иносказанием скрытого, художественного смысла творчества. Я такое встречал у великих пушкинистов. Может, и Стоун такой же. Пока писал о выдуманном художнике Джоне Нобле – не получалось. А когда о реальном – Ван Гоге – получилось. Только название – неудачное. И всё.
Посмотрим.
Вот такие куски, например, явно подводят к экстремистскому идеалу Ван Гога:
“- Но все же он умер счастливым, - сказал Винсент.
- О да, - согласился Мендес, - он выразил себя во всей полноте и знал цену тому, что создал. Он - единственный из всех людей своего времени, кому это удалось.
- Что с того, если он знал себе цену? А вдруг он заблуждался? Вдруг мир был прав, отвергая его?
- Это не имело значения. Не писать Рембрандт не мог. Хорошо он писал или плохо - не важно, но только Живопись делала его человеком. Искусство тем и дорого, Винсент, что оно дает художнику возможность выразить себя. Рембрандт сделал то, что считал целью своей жизни, и в этом его оправдание. Даже если бы его искусство ничего не стоило, то и тогда он прожил бы свою жизнь в тысячу раз плодотворнее, чем если бы подавил свой порыв и стал богатейшим купцом Амстердама”.
Этот Мендес явный ницшеанец. Он в Рембрандте ценит только самовыражение, тогда как тот выражал идеал Обыкновенности, доведённый до крайности идеал голландцев-протестантов, противостоявших пафосности католицизма. А небольшим искажением акцента можно ж изменить суть. Что Мендес и делает. И воспевает солипсизм же. То, из чего происходит романтизм, а ещё ядрёнее – ницшеанство.
Та-ак. А вот – ещё горячее (он стал проповедником среди шахтёров):
“Такой страшной нищеты он еще не видал. Что могут дать этой женщине молитвы и Священное писание, когда ее дети замерзают? И куда смотрит господь бог? Эта мысль пришла Винсенту впервые”.
Пока, правда…
“В кармане у него было несколько франков, он протянул их жене Декрука.
- Купите, пожалуйста, детям шерстяные штанишки, - сказал он”.
Пока, правда, он ещё в метафизику, свойственную ницшеанцу, не ввергся, ещё на земле и в реальности. Зато:
“Винсент сознавал, что это ничего не изменит”.
Я вспоминаю, как в начале перестройки и гласности открыли мысль, изрядно неверную, что при капитализме ж люди часто-пречасто участвуют в благотворительности, причём конкретной, адресной, и как, мол, по сравнению с этой душевностью бездушно безадресное, гамузом, государственное, - при советском социализме, так называемом, - внимание к детям вообще как к привилегированному классу. Или к инвалидам… Не доходит же при масштабном, государственном, подходе, например, устроить пандусы рядом с лестницами или поместить в уголке телеэкрана переводчика для глухонемых. И эта частная правота затмевала общую неправоту о капитализме, капитализме, имеющем фазы не только социального государства (фаза социального государства как раз тогда – с тэтчеризма начиная – и стала заканчиваться на Западе; но где было советским гуманитариям об этом знать; советские гуманитарии были в ещё большем загнивании, чем всё остальное в стране лжесоциализма).
Винсент сделал вывод и переселился в заброшенную и дырявую хижину. Это – не есть шаг к ницшеанству:
“Теперь он жил в такой же лачуге, как все углекопы, ел ту же пищу, что и они, спал на такой же, как у них, кровати. Он ничем от них не отличался. Теперь он имел право проповедовать им слово божье”.
Но, может, тем сильнее он возненавидит христианство? Что для ницшеанства необходимо…
А вот и шаг в “верном” направлении: Винсенту объяснил хозяин шахты, что виноватых нет, кроме Бога, который дал Бельгии такие плохие угольные пласты.
Ну что ж… Я с удовольствием попрошу прощения у духа Ирвинга Стоуна, если он, будучи ещё в теле, вывел в 34-м году героя этого повествования на ницшеанскую дорогу. (Тогда свирепствовала Великая депрессия…)
Впрочем, Винсент пока считает, что Бог испытывает его и шахтёров… И что “Грядут добрые времена!”.
Взорвался газ в шахте.
Так.
Платить перестали. Забастовка. Едят крыс, улиток, лягушек, кошек… Винсент остался без белья – ушло на бинты. Без еды – её раздал шахтёрам. Проповедует в своей лачуге, лёжа на соломе (сил нет). – Нагрянувшие два священника из Брюсселя сочли Винсента… виновным в опущенности собственной, следовательно, и церкви, следовательно – в настраивании людей против Бога. Назначение проповедником отменено. Жалованья больше не будет.
“На душе у него стало так пусто, что он не мог вымолвить ни единого слова”.
Отлично. Браво, Стоун!
“И внезапно Винсент понял нечто такое, что он, по существу, знал уже давным-давно. Все эти разговоры о боге - детская увертка, заведомая ложь, которой в отчаянии и страхе утешает себя смертный, одиноко блуждая во мраке этой холодной вечной ночи. Бога нет. Ведь это проще простого. Бога нет, есть только хаос, нелепый и жестокий, мучительный, слепой, беспросветный, извечный хаос”.
Вот мы и в метафизике долгожданной.
Правда… “…ни здоровья, ни сил, ни мыслей, ни желаний, ни душевного пыла, ни честолюбивых устремлений…” у героя.
А сие для ницшеанца не годится. Желание-то – отвергнуть ЭТОТ, реальный, мир – быть должно ж.
Стоун “дал” многомесячную душевную паузу. Может, и вправду так оно и было. Физическое существование оплатили родственники.
Винсент опять стал читать. (А это не только некий возврат в жизнь, но и некий уход из неё.)
“Он чувствовал, что в нем есть что-то ценное, что он не последний глупец, не ничтожество, что и он может принести какую-то, пусть маленькую, пользу людям”.
Хм. Но это не ницшеанство: “пользу”. Ницшеанцу на людей как-то наплевать.
И тут у Стоуна Винсент набрёл на рисование. (А оно уже имеет самоценность, как бы не зависимую от жизни – сколько-то Макс Дворжак был прав про Джотто):
“Из ворот вышел старый углекоп, черная кепка была у него низко надвинута на глаза, руки засунуты в карманы, плечи ссутулились, костлявые колени дрожали. Что-то в этом человеке безотчетно привлекло Винсента”.
Я подозреваю, что Винсент Стоуна увидел возможность не “в лоб” выразить идею, что так жить нельзя. С радикальным акцентом. В перспективе жизни Винсента – метафизическим акцентом. От жизни не зависящим.
Интересно, найдёт это Стоун?
А надо отметить, что по Стоуну (а может, и в реальности так было; я же не читал писем Ван Гога и биографию его) Винсент был изрядным большим стихийным знатоком живописи и много чего видел в подлиннике: в Лондоне и в Антверпене.
Интересно и то, смогу ли и я найти эти залёты в метафизическое…

Углекопы. 1880. Бумага, карандаш.
Впрочем, это у меня слабость (ведь художественный смысл нецитируем). И это у меня, может, от привычки к Левитану, который то и дело среди нудоты давал прямые изображения метафизического. Например, надмирная точка зрения в картине “Над вечным покоем” или “никакая” точка зрения в картине “Осеннее утро. Туман”, 1887. А главное ж у Левитана не эти проколы (да, проколы, раз “в лоб” сокровенное выражено), главное – доведение читателя до желания взорвать всё и вся от этой непроходимой серости одного и того же, одного и того же. Так это-то как раз и можно найти в “Углекопах”: эта нуда ритма одинаковости какой-то в этих фигурах идущих людей, в цвете их одежд, в этой отдельности каждого. Впечатление, что они все смотрят вниз, в спину друг другу. По крайней мере, у трёх головы опущены под одним и тем же углом. – Так жить нельзя! – А как надо? – Сам, сам догадайся. Сам. – Вот это движение с шахты домой, чтоб поесть и отдохнуть, чтоб завтра работать в шахте, чтоб дома иметь, на что поесть, чтоб послезавтра работать, чтоб было, на что поесть, и так далее – всё вместе является дурной бесконечностью. И жить для этого не стоит. Если жизнь – в этом, то она – зряшная. – А что тогда незряшное?
Обычным людям не открывается сверх-, так сказать, жизнь. А необычным, сверхчеловекам, – открывается. Или просто чутким. Вот в одной этой бесперспективности череды шагающих им, чутким, видна и дурная (потенциальная) бесконечность – как отрицаемое реальное, и “видна” им желанная, альтернативная (актуальная) бесконечность. Это как если б ты стал надмирным и всемогущим. И бесконечность тебе бы подчинилась вся и сразу. Актуально. Как Кантор открыл, в математике, что бесконечности можно, например, складывать! – Нечто этакое… И вовсе не революция, способная изменить общественный строй и в принципе улучшить участь шахтёров. Если революция – это коллективизм, то выход в ницшеанство – прямо противоположный выход, индивидуализм это.
И ошибаются те, кто понимает Ван Гога коллективистом, душой болеющим за шахтёров. И оттого-де у него такой траур чёрного в картинке. И я что-то уже надеюсь, что Стоун подобным им, ошибающимся, не станет. А сориентировавший меня читать именно эту его книгу окажется прав.
Однако ничего такого нет у Стоуна. Свой рисунок с идущими с шахты углекопами Винсент порвал. Что он потом ни рисует, всё преследуется одна цель – похожесть:
“- Нет, это просто чудесно, - настаивала мадам Дени. - Я здесь почти как живая.
- Почти! - рассмеялся Винсент. - В том-то и дело, что почти, а не совсем”.
Ну ладно. Может, Стоун раскачивается…
Тем более что вести себя Ван Гог стал у Стоуна вполне по-ницшеански, как безответственный ребёнок:
“Винсент избавился от мучительной тоски, он был счастлив потому, что уже не думал о своих несчастьях. Он знал, что стыдно жить на деньги отца и брата, не пытаясь прокормиться собственным трудом, но не слишком заботился об этом и весь отдался рисованию”.
А вот и тайна.
“- …Я готов поклясться, что где-то ее видел [речь о нарисованной шахтёрке].
- Может быть, вы видели ее в Боринаже? - простодушно спросил Винсент. Питерсен бросил на него быстрый взгляд, чтобы удостовериться, всерьез он говорит или шутит.
- Да, пожалуй, так оно и есть. Она ведь у вас безликая. Это не какая-то определенная женщина, а жительница Боринажа вообще. Вы ухватили, Винсент, самый дух, самую душу шахтерских женщин, а это в тысячу раз важнее правильной техники рисунка. Да, мне нравится ваша женщина. Она мне что-то говорит”.
Питерсен говорит о типичности, признаке реализма. И, может, тот рисунок, “Углекопы” (1880), сделан в реальности позже, чем то, что обсуждается к книге в этом месте? Или, может, Ван Гог начинал у Стоуна с реализма, а реально – с радикального отрицания реальности?.. – Нет, похоже, разговор о типичности был у Стоуна зряшным (или это просто так думает Питерсен, а не Ирвинг Стоун)…
“Целую неделю он каждое утро в половине третьего ходил к Маркасской шахте и на больших листах рисовал углекопов - мужчин и женщин, шедших на работу по тропинке вдоль изгороди из колючего кустарника, - смутные тени, которые, показавшись на несколько минут, тонули в предрассветном сумраке. Фоном для этих фигур он брал огромные надшахтные строения и кучи шлака, едва видневшиеся на темном небе. Когда рисунок бывал закончен, Винсент делал с него копию и отсылал вместе с письмом Тео”.
То есть, есть шанс, что репродукция, обсуждённая выше, сделана-таки с того, что описывает у себя Стоун.
Гм. Только его похвалил…
“Я верен себе в своей неверности, меня волнует только одно - как стать полезным людям. Неужели я не могу найти для себя полезного дела?”
Это опять слова стоуновского Ван Гога. После всей ницшевщины. – Ну? Плюнуть и списать на стоуновскую расхлябанность? Или поймать себя, что я опять желаю от него в-лоб-выражения? Стоун же всё-таки писатель. Почему его персонажу, Ван Гогу, не говорить ерунду иногда?.
Хорошо. Но вот в кавычках даются слова письма Ван Гога брату, совсем не подходящие ницшеанцу:
“…я вовсе не презираю посредственность в широком смысле этого слова. И, уж конечно, презрение к посредственности нисколько не возвышает художника над ее уровнем…”
Как быть?
Спасением было б, если б это оказались не подлинные слова Ван Гога.
Я стал искать. Благо, интернет и компьютер дают возможность это сделать быстро. Просмотрел я письма с 1877 по 1883. Ведь, если датировка “углекопов” – 1880 – верна, а Стоун верно описывает время действия в своём произведении, то прошло очень немного времени с отъезда Ван Гога из шахтёрского посёлка и процитированными неницшеанскими мыслями. – Так вот не писал настоящий Ван Гог таких слов, неуместных со стороны ницшеанца, вскоре после упомянутого отъезда.
Так что… Стоун достаточно эклектично представляет себе душу своего персонажа. И я, пожалуй, перестану реагировать на его проколы. Это будет лишнее. Что-то Стоун, возможно, почувствовал верно, и именно на том надо останавливаться. Ибо я ж пишу ради того, чтоб читатель лучше понимал реального Ван Гога.
Правда, и реальный Ван Гог – не машина ж… Может, и правда тренировки ради надо не всё себя да себя выражать, что ни рисуешь, а и просто упражняться в похожести рисунка на натуру. Стоун же описывает учащегося Ван Гога…
А вот опять эта тайна… Как и при встрече с Питерсеном.
“Есть там что-то неверное в самой основе. А что именно - я сразу не могу и сказать”.
Это слова знаменитого гаагского критика.
Или Стоун подсознательно имеет в виду не похожесть на натуру, о которой он столько распространялся, а выражение себя?..
Нет. Вот слова маститого гаагского художника:
“Наброски у тебя топорные, но в них есть правда. В них есть жизненность и ритм”.
Это не ля-ля Стоуна?
Не знаю…
В “Углекопах”-то ритм был…
“…грубая, неистовая страстность, которая чувствуется в его рисунках…”
Ну посмотрим на тех же “Углекопов”.
У двух центральных девочек и той, что через одного мужчину впереди


ноги согнуты не в коленях, а гораздо выше. У последней женщины

колено, по-моему, ниже нормы. Полная чушь с точки зрения анатомии. Но столь идейно важная, обсуждённая выше, одинаковость, ритм от этого только подчёркиваются. Тихий ужас дурной бесконечности бьёт по вашему подсознанию. Неискушённому зрителю постичь это сознанием, по-моему, невозможно, потому что и сам Ван Гог это неосознанно же и нарисовал, и так же неосознанно замаскировал. Правильным расположением коленей у соседних мужчин.
Все эти разговоры стоуновских художников про характерность шахтёров, крестьян и т.п. низов общества есть просто неосознаваемое, наверно, самим Стоуном прикрытие пристрастия к крайней необычности. А оно есть признак сверхреволюционного (ницшеанского) неприятия плохого, плохого, плохого мира. То ли Стоун, то ли Ван Гог не заметили ещё, что никчёмность обычной жизни душит ницшеанца не только тогда, когда перед ним жизнь угнетённых низов.
Во всяком случае, все коверкания натуры в следующем веке всякими кубистами, абстракционистами и другими индивидуалистами начались с коверкания Ван Гогом этих вот коленей.
Гм. Появилась Кэй. Двоюродная сестра. Красивая и душевная. Овдовевшая. “…грубая, неистовая страстность, которая чувствуется в его рисунках…” Как это соединится?
“Ему была нужна любовь: любовь сгладит острые углы, смягчит грубость его рисунков, придаст им жизненность, которой им недостает”.
Хоть это и внутренний монолог Винсента, но я надеюсь, что Стоун берёт разбег-полёт для нового падения-страдания своего героя, для неприятия им этого мира.
Читаю дальше, и, похоже, так и будет. А я представил себе читателя этого моего опуса… Если он ещё и читал Стоуна… Насколько ему жалко было стоуновского Ван Гога, настолько отталкивать должен я, холодный аналитик, как дрыгающихся приколотых жуков, рассматривающий автора и его персонажа.
А тут мелькнул и новый раздрай: не покупают вангоговских рисунков. Оно понятно: публике ещё диким представляется ницшеанство. Но Стоун гонит сюжет в ложном направлении.
“Он с новым рвением принялся за работу; и хотя он чувствовал, что его руке еще недостает твердости и мастерства, в нем жила непреоборимая уверенность, что время поможет ему добиться своего и в работе, и в любви к Кэй”.
Вы ж понимаете, что как только будет мастерство, так пропадут экстрем-искажения натуры, и исчезнет художник-экстремист, которого за умение выразить такое диво, как экстремизм, в будущем и станут ценить все: и индивидуалисты, и коллективисты (цивилизованные, конечно, ибо только для них прекрасное и красивое – это разные вещи).
“Нужно время, чтобы преодолеть неуклюжую тяжеловесность рисунка и уловить истинный дух брабантцев, - тогда можно будет и уехать”.
Ложный ход – про рисунок, и вполне ницшеанский размышлизм – про необращение внимания на жизнь: отец-священник выгоняет его из дому, за тягу к Кэй.
А вот и прямой ход: Винсент сунул руку в пламя свечи, чтоб ему дали поговорить с Кэй. Вот эт-то да! (Ну что ницшеанцу действительность… Её почти что нет!)
Молодец Стоун!
В Гааге.
“Нужно только научиться как следует рисовать человеческую фигуру, все остальное придет само”.
Старая песня про ложный ход.
“…брабантские рисунки. Он знал, что продать их не удастся, и прекрасно видел теперь все свои промахи, но в этих набросках чувствовалось нечто от самой природы, и сделаны они были с истинной страстью”.
То же.
Интересный момент (уже не впервые мелькавший): для хорошего пейзажиста важно-де уметь хорошо рисовать человеческую фигуру.
Это может показаться странным. Но не тому, кто знает, что реальный Ван Гог славен очеловечиванием растений. А это ж – один из путей крайне деформировать натуру. Крайне, подчёркиваю. И – боюсь, надоел уже – тем ведь обеспечивается радикальное отрицание действительности. (При одновременном переживании… творческого счастья, как это ни удивительно. Не его ли имел в виду Стоун, называя свою книгу “Жажда жизни”? Совсем не о той, мол, жизни речь идёт, о какой может думать нетворческий человек.)
“- Покажи-ка мне эти этюды, - сказал Мауве.
Беглым взглядом он окинул акварели и изорвал их в мелкие клочки.
- Держись своей резкой манеры, Винсент, - сказал он, - и не старайся угодить любителям и торговцам”.
А реальный Ван Гог таки отступал от себя - в духе ложных ходов сюжета описывающего его жизнь Стоуна. Вот. Мне думается, это прототип того, что не порвал стоуновскому Винсенту стоуновский Мауве. Единственно, что меня смущает, это что нарисовано это в Гааге в сентябре, тогда как по Стоуну Винсент приехал в Гаагу зимой.

Берег с гуляющими людьми и лодками. Акварель. 1882.
Разве что это не тот сентябрь, что был до зимы 1882 года, а тот, что наступил после зимы, весны и лета 1882-го. Посмотрим, где по Стоуну окажется Винсент в тот сентябрь.
Ничего тут нет от “резкой манеры”. Вполне жизнеутверждающая картинка в духе обычного смысла стоуновского названия “Жажда жизни”. И я не понимаю, почему ни одну, где-то читал, картину реальный Ван Гог за всю жизнь не продал. Эту вот вполне могли купить.
Жизнь сложна и не вписывается в трафареты.
А вот, наконец, произведение с названием, обсуждаемое Стоуном, так что я могу не гадать, о чём он пишет. И дай мне бог найти следы ницшеанства тут.
“"Скорбь". Это была женщина, из которой выжаты все соки жизни. Внизу он написал строчку из Мишле <…> "Comment se fait-il qu'il y ait sur la terre une femme seule desesperee?" ["Как это могло случиться, что на свете живет такая одинокая, отчаявшаяся женщина?" (фр.)]”.
Ну что я могу сказать?.. Признак Абсолюта, необходимого для ницшеанства, есть, во-первых, безусловно, в словах “на свете”, во-вторых, в обнажённости фигуры на фоне природы, придающие – и то, и то – экзистенциальный тон изображённому. Отсутствует другая персона, виноватая в жалкости первой. Это наблюдение подтверждается вопросительным предложением Мишле. Отсюда можно начинать рассуждать, что женщина сама и виновата в своей судьбе. Не хозяйка своей судьбы оказалась. Тогда, правда, не годится название “Скорбь” как слишком сильное и призывающее зрителя к сильной эмоции – сочувствию. Но “Скорбь” - это Стоун придумал. На самой вещи написано: “Sorrow”. Голландско-русские словари (3 из 4-х) переводят это: “Печаль”. У самого Стоуна на английском (тоже “sorrow”, перевод – “скорбь”) можно игнорировать, так как Стоун нечётко ощущает действительного Ван Гога. А печаль – уже эмоция послабее, пофилософичнее. Но всё равно ещё далеко от дистанции, которая необходима между автором-ницшеанцем и лишенцем-персонажем. А есть ли что, что б выводило зрителя из себя, что б доводило его до состояния вот-вот взрыва, способного уничтожить этот мерзкий мир? Сильное переживание отвратительности от чего-то тут возможно? – Вполне. От этих висячих грудей, от этих растрёпанных волос, от этих страшных пальцев рук. Особенно груди отвращают. Они и нарисованы соответственно – ломаной линией. Ухо – тоже. Колтун в волосах – тоже.

Печаль. 1882.
Стоун сильно мешает такому восприятию изображения. Христина, зарабатывающая стиркой и проституцией, явилась доброй феей Винсенту. А рисовать разбираемую вещь он начал после буквально спасения ею его от голодной, возможно, смерти. Оттого и это название – “Скорбь”. Жалеет, мол, её Винсент.
Однако, можно думать, что это очередной у Стоуна прокол.
“Я рисую реальную жизнь, нужду и лишения”.
Ну, это старая песня. По-моему, Стоун сбит с толку теми, кто считает Ван Гога реалистом. “Печаль” уж скорей символистская, чем реалистическая. Голыми люди не сидят в поле на пнях. А реализм же – это открытие чего-то социального, что ещё социуму не известно. Так какое ж тут открытие, когда вопросительное предложение в название, считай, включено. Социального ответа на вопрос “как” как раз и не дано. Если ответ и подразумевается, так какой-то метафизический: Зло царит в мире. А это ж – не социальное, значит – не реализм.
“Мне надо рисовать натуру так, как вижу ее я сам”.
И я посмею после таких слов подумать, что Стоун мог думать про Ван Гога, что он реалист!?.
“Я хочу своими рисунками указать людям на то, что достойно внимания и что видит далеко не всякий”.
Экий просветитель.
“Он [Винсент] вышел из мастерской [учителя] обновленный, улыбаясь при мысли, что человек, который нанес ему самый тяжелый удар за всю его жизнь, был единственным, кто научил его сносить удары с покорностью и смирением”.
Ну что делать с этим Стоуном? Опять это артистизм писателя? То одно напишет, то противоположное…
“Если человека могут убить голод и страдания, значит, он не заслуживает спасения”.
Это Винсента поучает очень богатый художник, у которого Винсент просит в долг двадцать пять франков, так как ему нечего кушать.
Смешно?
Смешно. Но в этом что-то есть, если получиться должно такое исчадие, как ницшеанец. (Ибо он вряд ли уже получился, судя по коленям “Углекопов” и грудям “Печали”.) Вот только этот богатенький у Стоуна говорит, что так было всегда. А я сомневаюсь, что именно так всегда было. Тот же Левитан…
“Ну, а теперь ступайте да съешьте по дороге миску бесплатного супа в столовой для бедных”.
А вот это интересно. Оказывается, в той Голландии нельзя умереть с голоду. По крайней мере, в крупных городах. И если Винсент голодает, то из-за индивидуализма: нельзя давать себя кормить чему-то коллективистскому – индивидуализм рухнет. Это хуже, чем потерять Бога. (По Стоуну, во всяком случае.) Помощь конкретных шахтёрских жён, каждый раз индивидуальная, - да (он до того персонально каждой помогал), помощь папы – да (он когда-нибудь будет гордиться сыном), брата – да (он потом дорого продаст шедевры Винсента), временной сожительницы – да (она тоже уже от него получала вспомоществование). От кого угодно, но не некой организации. Только лично: ты – мне, я – тебе.
О. Временная сожительница обещает стать женой… Любовь… Безрассудная, как и полагается. И всё-таки.
Это ж должно убить рождающегося ницшеанца…
Что будет?
Пока стало ещё одной причиной непокупки у него его работ. Благо брат простил. Но всё равно – плохо (в особом смысле, нечеловечном).
Я думаю, Христина умрёт при родах.
Не умерла. Зажил семьёй.
“…теперь у него появился новый, более реальный и осязаемый бог, новая религия, сущность которой можно было определить несколькими словами: фигура работника, борозды на вспаханном поле, кусок песчаного берега, моря и неба - это серьезнейшие темы, столь трудные и в то же время столь прекрасные, что стоит не задумываясь посвятить всю свою жизнь тому, чтобы выразить скрытую в них поэзию”.
Это – идеал обыкновенности. Вполне себе мещанский. Конец ницшеанцу.
А вот что? Отрезвление? Пришёл тот богатый, что учил его ницшеанству и поиздевался, назвав их святым семейством:
“…висело маленькое зеркальце. Винсент увидел в нем Христину, себя, ребенка и с ужасающей ясностью взглянул на все это глазами Вейсенбруха... Ублюдок, шлюха и добросердечный благодетель!
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Винсент вновь взглянул на свою семью со стороны, словно издалека. Сейчас он смотрел на нее глазами своего сердца.
- Не плачь, Син, - сказал он. - Не плачь, дорогая. Подними голову и вытри слезы. Вейсенбрух был прав!”
В каком смысле?
“Меня воскресило сознание, что я кому-то нужен”.
Бр.
Как человек, а не художник.
Это объяснение с братом. Тот – за новых художников и против этого вот брака. Договорились, что свадьбы не будет, пока Винсент не станет зарабатывать.
А пока он перешёл к живописи маслом. И я боюсь, что нацелен он, по Стоуну, на обыкновенность. Ну, разве что, остаётся надеяться, что учебные задачи всё-таки могут заглушить страсть самовыражения. Что и отражено Стоуном…
Или там не только учебные?..
“глаза его все острее схватывали в жизни яркое, живописное”.
Каша.
Уже 5 картинок продано. Не поймёшь, каких.
“…он каждый день бродил по дюнам, стараясь уловить изменчивый облик моря и неба”.

Пляж в Схевенингене в бурную погоду. 1882.
“…Схевенингена. К берегу причаливал рыбачий баркас. У моря, близ каменного столба, стоял деревянный навес, под которым сидел дозорный. Завидев подходившее судно, дозорный махнул большим флагом. Вокруг дозорного толпились ребятишки. Через несколько минут после того, как он махнул флагом, к нему подъехал человек на старой кляче, чтобы подтянуть якорь к берегу. По песчаному склону из деревни встречать рыбаков бежали мужчины и женщины. Когда судно приблизилось, человек, сидевший на лошади, въехал в воду и подтащил к берегу якорь. Затем молодые парни в высоких резиновых сапогах стали переносить рыбаков на берег, и каждого из них толпа приветствовала веселыми криками. Когда все рыбаки очутились на суше и лошади вытащили баркас на берег, толпа, растянувшись, подобно каравану, над которым, словно призрак, маячил верховой, поднялась на песчаный склон”.
Никакого ницшеанства…
Бытие определяет сознание. Брат, Тео, регулярно шлёт деньги, семья живёт-поживает. Винсент, как зеркало. Что видит, то рисует. Ну с какими-то характерными для данного “зеркала” искажениями… Вода – не вода, конечно, а так сказать вода… Облака – не облака, а так сказать облака…
И я б не сказал, что у Ван Гога это деформация действительности для самовыражения.
Нет, любое самовыражение немыслимо без искажения действительности. Упоминавшийся Рембрандт, погружая своих стариков в густой мрак и делая их лица прямо самосветящимися, тоже, уверен, на самом деле видел не то, что изобразил. Но от того, что он ТАК исказил реальность, получилось невероятное: озаряет, что он воспел Обыкновенное. Ведь мещанскому идеалу вообще редко когда везло, чтоб его выражали вдохновенно. А у Рембрандта – выходило. – Едва не шок переживаешь от этого свечения.
А вангоговский “Пляж в Схевенингене…” способен вызвать только пожатие плечами.
Ирвинг же Стоун нагнетает.
Если б его читать без оглядки на картины, может, и было б впечатление. Но я взялся читать не обычно…
Хо. Не мытьём, так катаньем…
Или семья, или живопись! При 150 франках от Тео.
Стоун всё-таки молодец.
“Христина с обоими детьми проводила его на вокзал. Они стояли на платформе и не знали, что сказать. Подошел поезд, Винсент сел в вагон. Христина стояла, прижимая малыша к груди и держа Германа за руку. Винсент смотрел на них, пока поезд не вышел на сияющий, залитый солнцем простор, и тогда женщина, стоявшая на закопченной платформе, скрылась из виду, скрылась навсегда”.
Стоун всё-таки молодец… “навсегда”… Именно так и должен поступать ницшеанец: как ребёнок – забывать.
Но и не молодец Стоун тоже: тяжесть же, предчувствую, будет у него тянуться и дальше. Ну в чём-то новая, но – тяжесть. А ребёнок и вчувствовавшийся в него автор должны б играючи идти по жизни.
Впрочем, я понимаю тяжесть. Ван Гогу ж надо было повернуть человечество к заменителю христианства. Не меньше. Открыть, как жить, - если не в, то при, - этом безумном, безумном, безумном мире Зла. Жить не ожиданием избавления на том свете, а надеждой на иной свет. И Ван Гог его таки достиг. Материалистически – это вечная жизнь в своих зрителях. Раз. И после него (вообще после постимпрессионистов) ницшеанство постепенно стало доминирующим идеалом во всём мире и вот уж второй век доминирует. Два. Доминирует оно если и не среди большинства человечества, то среди большинства людей культуры и искусства. Дойдя до маразма, но всё же продолжая доминировать.
“Однажды Винсент увидал ветхий станок из зеленовато-коричневого дубового дерева, на котором была вырезана дата - 1730 год. Рядом со станком, у окошечка, из которого была видна зеленая лужайка, стоял детский стул. Ребенок, сидевший на нем, целыми часами зачарованно глядел на беспрерывно снующий челнок. Комнатушка была жалкая, с земляным полом, но Винсент почувствовал в ней какое-то безмятежное спокойствие и красоту и попытался передать это на своих полотнах”.
Так сюсюкает Стоун, когда теряет (я надеюсь, просто теряет), в чём перец Ван Гога. А вот, что пишет сам Ван Гог какому-то Раппарду:
“Вот что я хотел этим выразить: эта чудовищная черная махина из грязного дуба со всеми своими палками так резко контрастирует с окружающей сероватой атмосферой, что кажется, будто в центре ее сидит черная обезьяна, домовой или привидение, который грохочет всеми этими палками с раннего утра и до поздней ночи. Я обозначил этот центр, поместив туда подобие призрака ткача, обозначив несколькими мазками и пятнами то место, где этот призрак сидит. Разумеется, я не мог принимать всерьез пропорции его рук и ног” (http://www.printdigital.ru/vangogp5.php).
Эти экстремистские слова: “чудовищная черная махина”, “резко”, “черная обезьяна, домовой или привидение”… Эти отстранённые: “эта”, “этот”… Это агрессивное лишение лица индивидуальности… - О-о-о! Тут ницшеанец явил себя во всей красе. Правда, в словах – более, чем в изображении. В словах чувствуется яростное неприятие этого мира, мира Зла.

Ткач у станка. Холст, масло. 1884.
В картине это почувствовать труднее. Нужно сделать затемнение в вашей комнате, чтоб увидеть, что одна нога в клумпе (в деревянном остроконечном шлёпанце) поставлена на какой-то рычаг внизу станка.

А человек сидит. И вот у стоящего взрослого человека от его макушки до пятки 7,5 голов, а у Ван Гога у сидящего – 6,5! Когда короткофокусным объективом фотографируют человека снизу, то чем что выше, тем то короче. Вот как бы так и сделал Ван Гог. Причём уже осознанно (словами написал). Придаток, мол, машины – ткач. И это – не жизнь! С восклицательным, мол, знаком.
И что – вместо?
Пусть страсть искажений и преувеличений подскажет.
Во всяком случае, в области культуры Ван Гог оказался гораздо более успешным, чем Маркс в области политэкономической.
М-да. Новая любовь… В Нюэнене. Было ли это вправду, или для извивов Стоуна нужно…
Вуй. Какая экзальтированная любовь! У кладбища! Не этого ли?

Кладбище. 1884.
У неё, в тридцать девять лет, последний шанс. Она решила убить себя в сорок, если не полюбит. В первый раз в жизни! У него… Его первый раз так любит женщина. – Всё – абсолюты…
Но любовь – миг, и жизнь – миг. Какая разница?
“Они сидели не шевелясь. Неподалеку было крестьянское кладбище. Столетие за столетием крестьяне ложились на вечный отдых в тех самых полях, которые они обрабатывали при жизни. Винсент стремился показать на своих полотнах, какая это простая вещь - смерть, такая же простая, как падение осенней листвы, - маленький земляной холмик да деревянный крест. За кладбищенской оградой зеленела трава, а вокруг расстилались поля, где-то далеко-далеко сливаясь с небом и образуя широкий, как на море, горизонт”.
Нет, тут не миг, тут картина Вечности.
Наджизнь.
Карандашный набросок того, что ниже чёрного массива представляется воплощением какой-то нереальности – так всё чуть только намечено. Было и – нет. Жил кто-то и – нет их. Что жили, что не жили… Ценить ли абы какую жизнь?
Импрессионисты ответили: да! и – вплоть до мига жизни. Но был ли готов принять такой ответ Ван Гог, когда он узнал живопись импрессионистов?
Нет, конечно! Он был готов лишь принять их революционную технику (раздельные мазки несмешиваемых красок) – за своеволие. И он принял то своеволие, добавил своё и – рисовал мир, где он один повелитель. Каждого квадратного сантиметра полотна. Это была наджизнь!

Равнина в Ауверсе
“…а вокруг расстилались поля…”
Раз уж я невольно переметнулся к позднему Ван Гогу, то вряд ли стоит дальше описывать моё предвзятое чтение книги Ирвинга Стоуна. Зачем? Я ж выяснил, что Стоун удачно показал, как трудно повернуть человечество к другой жизни. Сколько путаницы в себе самом.
Я хочу лучше перейти к совсем парадоксальному.
Как Ван Гог, по большому счёту глядя, жил у бездны мрачной на краю от голода, так живёт и современное человечество, большинство, только не голодая, а перепотребляя, отчего и погибнет в глобальной экологической катастрофе, если не перейдёт к другой жизни, к коммунистической, где разумные материальные потребности и неограниченные духовные. Как Ван Гог нашёл, чем другим жить, - искусством, - чем обычные люди, так должны б и люди будущего коммунизма – жить искусством. Творцами или сотворцами: зрителями, читателями, слушателями. Это отвратит их от обычной жизни, принуждающей. В искусстве, этом царстве свободы, человек обретёт, наконец, максимум свободы, к которому он стремился со своего возникновения в человеческом качестве.
27 июня 2013 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.topos.ru/article/iskusstvo/kak-trudno-povernut-chelovechestvo-k-drugoy-zhizni-van-gog
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |