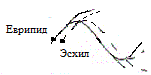
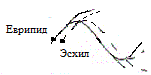
С. Воложин
Еврипид. Ифигения в Авлиде
Художественный смысл
|
Древнегреческая трагедия дальше расцветала в трагической, предсмертной борьбе древнегреческой демократии с олигархией. |
Вред одной категории Бахтина на примере Эсхила, Еврипида и современности.
Смысл этой категории: “плодотворность временного отстояния интерпретатора от эпохи создания произведения” (Энциклопедия культурологии). А её название – большое время. Мол, ““большое время”, разделяющее события творчества и рецепции, “воскрешает” и при этом непрерывно преображает забытые, “умершие” и погребенные в “авторской” эпохе, в “малом времени” культурные смыслы” (Там же).
Так вот нет! Например, коллизия, родившись в Древней Греции выродилась в современной драме в то, чем является ритм и рифма для современной же поэзии. Их может теперь содержать и плохое, нехудожественное произведение, а его всё равно будут называть драматическим произведением (раз в нём есть коллизии) или стихотворением (раз в нём есть ритм и рифма). Их (коллизии, ритма, рифмы) собственный смысл умер.
А принятие концепции Бахтина открывает вроде бы теоретическое разрешение игнорировать художественный смысл произведения, созданного в прошлом, при интерпретации его на сегодняшний лад. Например, при экранизации, или при постановке в театре. Вольная волюшка! Что хочу, то и ворочу!
Появилась интересная идея: что древнегреческая трагедия расцвела и дальше расцветала в борьбе с древнегреческой демократией.
Интересно и как идея возникла.
Если расцвет проявился как противопоставление простым страданиям демоса сложных, противоречивых страданий аристократов (см. тут), то откуда браться энергии дальнейшего расцвета трагедии, если демократия уже победила?
Лихачёв сформулировал такой закон: “литература тем больше передаёт энергии действительности, чем больше её получает от действительности (особенно в периоды нависающих перестроек)”, - с такой сноской: “Этим, кстати, на мой взгляд, объясняется необычайный подъём литературной деятельности (и не только литературной) в начале ХХ века” (Лихачёв. Очерки по философии художественного творчества. С-Пб., 1996. С. 50). – Тот же серебряный век русской литературы, например. Не от масштабного ли он выхода на историческую арену России масс, требовавших демократии? И не от аристократического ли противостояния этим требованиям? Тот же акмеизм, скажем…
Вот не то же ли и в Древней Греции после Эсхила?
Возникло то, что называется коллизией. Не то, когда каждый из двух стоит на своём, а когда от взаимовлияния “складывается новая, неожиданная ситуация, о которой ни один из ее участников не мог и предполагать в начале” (http://teatr-lib.ru/Library/Kostelyanets/Mir_poezii_dramaticheskoy/).
“Еврипидовская “Ифигения в Авлиде” в этом смысле примечательна в высшей степени. Исходная ситуация там, как известно, такова: по пути в Трою [отнимать соблазнённую и увезённую в Трою жену Менелая] греческие войска застряли в Авлидском порту — попутного ветра нет и не будет, покуда Агамемнон [старший брат Менелая] не принесет в жертву Артемиде свою дочь. Царь, как он о том сам сообщает в прологе, вопреки своей воле, под сильным нажимом Менелая, крайне заинтересованного в походе на Трою, принял условия Артемиды. Обманным путем, якобы для того, чтобы отдать ее в жены Ахиллу, Агамемнон вызвал дочь в Авлиду. Но затем он передумал и отказался от “позорного решения”.
Однако письмо в Микены, отменяющее ранее посланный Ифигении вызов, перехватил Менелай. Младший брат набрасывается на старшего с упреками и бранью. Не жалея черных красок, Менелай рисует Агамемнона карьеристом; он льстил народу, покуда ему это было нужно, а затем забыл про народ и друзей, способствовавших его успеху. В трудный момент, когда надолго застрявшие в Авлиде войска возроптали, Агамемнон и вовсе потерял присутствие духа. По словам Менелая, его старший брат буквально ожил, узнав, что от него требуется всего лишь пожертвовать дочерью, и легко согласился пойти на такую сделку:
Сам, ничем не принуждаем, написал, чтоб Тиндарида
Ифигению прислала — мол, невесту для Пелида [Ахилла].
Теперь же Агамемнон позорно и предательски меняет решение. Расплачиваться же за это его малодушие, недостойное государственного мужа, должна Эллада — ее войска, полные благородной воли к победе над варварами. В ситуации, так обрисованной Менелаем, царь предстает весьма отталкивающей личностью.
Но эти аргументы разлетаются в прах, когда Агамемнон, в свою очередь, обнажает убожество представлений брата о жизни и людях:
В гордом брате жажда славы раздражает Менелая:
Он бывает счастлив, только жен красивых обнимая;
Доблесть он считает шуткой, разум, честь — ему забава.
О спартанец, пошлость вкуса обличает низость нрава…
Как видим, Агамемнон не только защищается, но и нападает. И Менелай сразу же предстает перед нами человеком, погрязшим в своих весьма низменных заботах. Агамемнон не видит ничего предосудительного в отказе от ранее принятого ошибочного решения. Желание сохранить жизнь дочери он мотивирует достойным образом:
На меня не полагайся… Не зарежу голубицы,
И тебе я не помощник в исправлении блудницы [жены давшей себя соблазнить и украсть],
Чтобы мужа утешала, оставляя мне на долю
Над пролитой детской кровью дни и ночи плакать вволю.
Агамемнон тоже, как видим, не избегает сильных слов и резких определений. Высказав свою точку зрения, каждый из братьев остается при своем. Спор этот, несомненно, является предельно острым и беспощадным. И однако не только это, не накал страстей делает его спором драматическим в подлинном смысле слова.
Первая и только на поверхностный взгляд самая острая часть сцены Агамемнон — Менелай строится на том, что каждый из спорящих не способен внимать другому. Исчерпав все свои доводы и ничего не добившись, каждый из них готов отказаться от дальнейшей полемики.
Все сказал тебе, Атрид [это как бы отчество братьев: Агамемнона и Менелая], я речью краткой и прямою.
Вразумил — тебе же лучше. Нет — и сам дела устрою, —
заявляет Агамемнон. В свою очередь и Менелай, поняв, что новые усилия с его стороны ни к чему не приведут, приходит к аналогичному решению:
Ступай, предатель братний… Я иные
Пособия придумаю, друзей
Найду иных.
Менелай хочет одного, Агамемнон — прямо противоположного. Каждый в своих хотениях неумолим: когда сталкиваются неуступчивые и язвительные герои, столь упорно не желающие пойти друг другу навстречу, то, казалось бы, такое столкновение “действия” с “противодействием” и должно нести в себе большой заряд драматизма.
Однако дальнейшее течение этой же сцены ведет нас к иному, более глубокому пониманию дела и к иным представлениям о природе драмы и драматического действия. Бесплодное противостояние братьев обрывается неожиданным обстоятельством, оно придает действию новое направление и сообщает ему более глубокий драматизм.
Когда братья уже готовы разойтись, им мешает это сделать вестник: оказывается, Ифигения вместе со своей матерью Клитемнестрой и братом Орестом уже прибыли в Авлиду, уже успели своим появлением всполошить ахейское войско и возбудить в нем толки, предположения и ожидания.
Сообщение вестника меняет ситуацию коренным образом. Неуступчивый и непреклонный Агамемнон сразу же превращается в человека, подавленного неотвратимой бедой. Он очень отчетливо представляет себе и рисует Менелаю картину своей предстоящей встречи с женой, дочерью и сыном, а затем и картину неизбежной гибели Ифигении. Из его уст вырывается проклятье соблазнителю Парису и распутнице Елене. Но и с Менелаем происходит неожиданная перемена, он произносит вовсе неожиданные слова:
Дай руку мне, и помиримся, брат.
Он, Менелай, отступает, уступает, отказывается от своих требований, недавно столь агрессивных. Однако теперь и Агамемнон, протягивая руку, делает еще более неожиданное заявление:
Бери, твоя победа, я ж — несчастен.
Вот с этого момента действие приобретает подлинно драматическое напряжение. Если перемена в позиции Менелая вызвана пробудившимся в нем состраданием к Агамемнону, то последний изменил свою позицию отнюдь не под воздействием младшего брата, а под напором обстоятельств, неотвратимость которых он успел осознать.
Менелай, однако, продолжает теперь с новой настойчивостью отстаивать свою новую позицию. Если поверить Менелаю, Эллада вовсе не так уж нуждается в смерти Ифигении, как он это запальчиво утверждал совсем недавно. Оказывается, он тогда заботился не об интересах Эллады, а о своих личных.
О смерти Ифигении для выгод
Моих прошу не помышлять.
Еще недавно видевший в отказе Агамемнона от прежнего решения нечто постыдное и недопустимое, Менелай теперь не находит ничего плохого в перемене, произошедшей в нем самом:
Перебороть в горниле состраданья
И вылиться в другую форму — мне
Не стыдно, Агамемнон, нет, нисколько!
О! Я во зле не так закостенел,
Чтоб надо мной права утратил разум.
С не меньшей запальчивостью, чем ранее, но с гораздо большей человечностью опровергает он теперь свои прежние доводы. Пересмотр, переосмысление, переоценка героем своих взглядов и своего поведения — один из неиссякаемых источников драматизма, к нему уже в античности обращались друг на друга не похожие драматурги: Эсхил, Софокл и Еврипид.
Как ни вразумлял Агамемнон своего брата в начале сцены, это ни к чему не приводило. Но в новой ситуации, глядя на вконец подавленного, плачущего Агамемнона, представляя себе, как ничего не подозревающую Ифигению ведут на заклание, — Менелай круто меняет свою позицию.
Теперь все, казалось бы, складывается к лучшему для Агамемнона и Ифигении. Но это только так кажется, ибо дело уже совсем не в Менелае. Слова Агамемнона “твоя победа” вовсе не покрывают сложности ситуации. На деле же и Агамемнон и Ифигения побеждены обстоятельствами. Представляя себе все возможные последствия появления Ифигении в Авлиде, царь понимает, что бессмысленно пытаться спасти ее от смерти.
Мне больше нет возврата, и ножа
От дочери я отвратить не в силах.
Менелаю дело представляется не столь безвыходным. Вполне наивно он спрашивает:
Что говоришь? Да кто ж велит тебе
Убийцей быть тобою порожденной?
Раз он, Менелай, не велит, то вполне возможно, так ему кажется, все уладить. Войско повелит, войско потребует, — поясняет Агамемнон.
Еще недавно упрекавший Агамемнона в неблагодарности народу, Менелай теперь заявляет:
Ты чересчур, Атрид, боишься черни.
Дело, однако, не только в “черни”, но и в жреце, знающем о требовании Артемиды, и в лукаво честолюбивом Одиссее. Тот непременно встанет во главе войска и прорвется к Ифигении по трупам ее защитников. Все это с беспощадной трезвостью Агамемнон объясняет недальновидному брату.
Когда братья враждовали и противодействовали, ситуация обострялась тем, что они не давали друг другу спуску. Еврипид прекращает ссору в момент, когда она уже начинает топтаться на месте. Во второй половине сцены братья сдают свои позиции и как бы движутся навстречу друг другу.
Какая из этих двух частей более драматична? Первая, заполненная бранью, оскорблениями, угрозами братьев, неумолимо и твердо стоящих каждый на своем, или вторая? Неподвижный, ограниченный Менелай, до того всецело занятый собою и своей Еленой, оказывается способным понять чужую ситуацию и почувствовать чужое горе. Перед нами предстает новый Менелай. И это не принижает его, а только возвышает в наших глазах. Подлинно драматической сцена становится тогда, когда братья перестают упрямо противодействовать друг другу, когда происходит перемена в их позициях и в отношениях между ними” (Там же).
Аристократы на сцене перед зрителями выглядят шикарно сложными в своих страданиях. Демос в жизни, понимай, мог страдать только пошло: от материальной нужды, от которой завоёванная с его помощью демократия, его освободила. Аристократы, в жизни политически побеждённые в демократических Афинах, выглядят на сцене моральными победителями перед пошлым, низким демосом.
(Это некая аналогия противостояния теперешних продвинутых представителей среднего класса, в норковые шубы одетых демонстрантов с Болотной, – собравшимся им в противовес работникам “Уралвагонзавода”. Лживость первых только в том, что те называют себя демократами, когда для древнегреческих аристократов, не стесняющихся себя называть аристократами, утончённых Агамемнона и Менелая, противостоящие им носят имя “черни”.)
Но.
Надо не забывать, что в борьбе всегда есть две главные стороны. И как следствие выхода масс на арену истории возникает как аристократическая реакция на них, так и плебейское приятие. И вот наряду с акмеизмом является Горький с “Песней о Соколе” (1899) и “Песней о Буревестнике” (1901) – романтик. И – реалист, когда поражение революции его отрезвляет: “Мать” (1906).
Так что может быть истиной и прямо противоположная первоначальной мысль: что древнегреческая трагедия дальше расцветала в трагической, предсмертной борьбе древнегреческой демократии с олигархией.
Для этой мысли достаточно, чтоб победившая демократия успела глубоко переделать демос, сделать его аристократическим прямо…
И так оно и оказалось при взгляде на исторические реалии!
“В ту пору у афинян вошло в обыкновение, что гражданин должен жить для государства” (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eger/07.php).
(Опять не то, что норковые демонстранты на Болотной. У тех пафос противоположный, либеральный: “Человек свою программу строит на том, что он ставит человека во главу угла. Что хватит говорить о какой-то абстрактной мощи государства, давайте мы наконец-то инвестиции в человека сделаем, дадим защиту от произвола властного. У нас всегда все институты работают на защиту государства от человека, а не наоборот” Ирина Прохорова - http://www.1tvnet.ru/content/show/debati-irini-prohorovoi-i-nikiti-mihalkova-tekstovaya-rasshifrovka_08814.html .)
Не таким был Еврипид:
“Еврипид был патриотом родного полиса и неустанно подчеркивал превосходство демократических Афин над олигархической Спартой” (http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/losev/evripid.htm).
А тут как раз разразилась череда войн между ними (в 431 г. до н.э.). За 24 года до создания “Ифигении в Авлиде” (407 г. до н.э.). И Афины были численно слабее Спарты. Было отчего пылать Еврипиду. И вот в его произведении одна коллизия следует за другой. Ахилл, весь для войны созданный, под влиянием героизма Ифигении превращается в противоположного человека, для которого личное счастье выше долга перед родиной. И, главное, сама Ифигения. Начав со счастья выйти замуж за Ахилла, она приходит к самопожертвованию во имя родины: нельзя варварам прощать бесчестье Эллады. – Вот он, закон Лихачёва… И страх, и радость от нависающих общественных перемен – рождают художественность.
Вернусь к тому, из-за чего я завёл этот разбор.
Коллизия есть другое название противочувствия, абсолютного признака художественности, приводящего к катарсису от столкновения противоположных чувств. При каждом появлении коллизии в ходе эсхиловского представления каждый миникатарсис от неё, если его осознать, означал высокое душевное достоинство людей, приверженных олигархическому общественному устройству, богачей (см. тут). При еврипидовском представлении это уже был другой миникатарсис, осознание которого отдаёт преимущество демократическому общественному устройству. А кончилось тем, что коллизия для драмы стала значить то же, что значить стало для поэзии противоречие фразирующего и тактирующего произнесений стихов. То есть признак художественности коллизия утратила, что-то значить – перестала. Оставшись понятием эстетическим. (Если договориться разнести значение “художественное” и “эстетическое”. В самом деле, красота может отсутствовать в художественном (кубизм). А рифмоплёта [красиво ж пишет] аж не хочется называть поэтом.)
Тогда лишний раз подтвердится, что художественность предполагает наличие лишь ценностных противоречий, а не безразличных.
6 июня 2013 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/152.html#152
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |