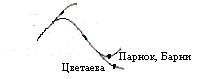
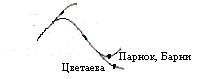
С. Воложин
Цветаева. Байрону. Подруга. Легкомыслие.
Художественный смысл.
| Невыразимый иначе чем противоречиями элементов произведения идеал художника – противочувствия в душе читателя – катарсис от столкновения противочувствий – осознание катарсиса (открытие художественного смысла или идеала художника). |
Демонизм Марины Цветаевой
Граждане! Рассудите вы меня с Фридой Гинтс (
http://zhurnal.lib.ru/f/frida_l_g/strashnyjdar.shtml)…Ну вот она пишет: “…
в Цветаевой нет … всерьез воспринятого демонизма романтиков ХIХ века (Лермонтов, Байрон, Гейне)”.Я не знаток Цветаевой… Не смею, вроде, возражать… Но. В стихотворении под названием “Байрону” можно б, казалось, обнаружить это “
не всерьез”? А там же, наоборот, все всерьез.БАЙРОНУ
Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы
И богом для людей.
Я думаю о том, как Ваши брови
Сошлись над факелами Ваших глаз,
О том, как лава древней крови
По Вашим жилам разлилась.
Я думаю о пальцах, очень длинных,
В волнистых волосах,
И обо всех - в аллеях и в гостиных -
Вас жаждущих глазах.
И о сердцах, которых - слишком юный -
Вы не имели времени прочесть,
В те времена, когда всходили луны
И гасли в Вашу честь.
Я думаю о полутемной зале,
О бархате, склоненном к кружевам,
О всех стихах, какие бы сказали
Вы - мне, я - Вам.
Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз...
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.
24 сентября 1913, Ялта
Ведь, казалось бы, в глаза бросается “
всерьез демонизм”: “богом для людей” - уж куда серьезней… В аврамистских религиях выше Бога нет ничего. Но в них Бог – благ, а не демоничен. И демон в них – ниже Бога. А у Цветаевой – равен. Как в зороастризме. Столь чтимом Ницше (любимце Цветаевой). Как в зороастризме, чтимом Ницше в пику христианству (столь Ницше же презираемым).Неужели моему читателю, привыкшему, что я не признаю художественным выражение “в лоб” пафоса, двигавшего пером поэта, неужели бдительному моему читателю удастся меня поймать. Неужели мне прийдется,- приняв, что Цветаева таки художник, а не публицист,- согласиться, что раз она в стихотворении “Байрону” “в лоб” говорит о демонизме всерьез, то не “в лоб” - как раз и будет разговор о нем не всерьез.
Нет. Я поупрямлюсь.
Тут не “в лоб” говорится о той серой, пошлой, буржуазной действительности, что воцарилась в начале XIX века после революционных бурь, пробивавших дорогу этой буржуазности. А может, и об успокоившемся после революции 1905 года российском обывательском болоте. Тут “не в лоб” говорится об обыденной внешней жизни, от которой Байрону в свое время пришлось убежать в необычайную жизнь внутреннюю, не считающуюся со внешней, пусть это и аморально. Убежать в исключительное, в из ряда вон выходящее, во вседозволенное, в демонизм.
И актуальность такого же противостояния и для Цветаевой можно усмотреть в ее оценке его как вековечного. А вековечность поэтесса как раз вводит вполне художественно: противоречием обращения к Байрону, как к живому (во всех, кроме последнего, четверостишиях), и обращения к нему, как к мертвому, как к “горсти пыли, оставшейся от губ и глаз”, в последнем стихе. Столкновение этих противоречий и дает вечность. Высшую инстанцию, в которой пребывает демонизм.
Вот вам и “не всерьез”…
Почитав о Цветаевой, можно даже покрепче пример ее демонизма обнаружить.
15
Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать — куда Вам путь
И где пристанище.
Я вижу: мачта корабля,
И Вы — на палубе...
Вы — в дыме поезда... Поля
В вечерней жалобе —
Вечерние поля в росе,
Над ними — вороны...
— Благословляю Вас на все
Четыре стороны!
3 мая 1915
Думаете, кого это лирическое “я” стихотворения благословляет, предвидя разлуку? – Любимую. – А каков пол этого лирического “я”? – Судя по другим стихотворениям цикла “Подруга”, пол женский. Прототипами обоих женщин являются: для “я” - Цветаева, для подруги – София Парнок. Вторая первую соблазнила и бросила. София неминуемо должна была бросить Марину из ревности, так как Марина хотела еще ребенка и, следовательно, мужа.
Когда София Парнок умерла (в августе 1933 года) и это стало известно в Париже Цветаевой, отвергнутой в то время лесбиянкой Натали Барни, наша поэтесса (в 1934 году) второй редакцией эссе “Письма к амазонке” (к этой Натали) создала как бы эпитафию своей первой лесбийской любви. Двойственную эпитафию, как двойственно и название упомянутого цикла: “Подруга” и “Ошибка”. И “Парнок вовсе не умерла для Цветаевой после смерти их любви” (Диана Левис Бургин http://elles.wallst.ru/person/tsvetparn/mtspar09prn.html#010), и является “ошибкой молодости” (там же).
Так то же мы видим и в стихотворении двадцатилетней давности: “на все четыре стороны” посылают в сердцах, а у Цветаевой… “Благословляю Вас”
.Противоречие.
В чем художественный смысл этого противоречия? – По-моему, в демонизме. Но - очень сложном.
Ведь что такое лесбийская любовь для такой Барни или Парнок? – Это нечто утонченное, изысканное. (Свой идеал люди всегда склонны именовать замечательными словами. Как бы низок, например, он ни был.)
Парнок:
Отпустить на волю, из сердца вылить
Струнные звоны.
Не забыла, видно, я в этой жизни
Незабвенных нег незабвенных песен,
Что певали древле мои подруги
В школе у Сафо.
Барни:
Если я иногда краснею, то только от удовольствия.
Отрешенность — героизм посредственности.
Слово “неестественно”, естественно, вышло из употребления, но признаем, что ничто так не противоестественно, как однообразие, которое пытаются насадить.
Единственный анархист — природа.
Так если принять, что обычные лесбиянки – естественно себя ведут, как животные (хоть у животных, может, и нет таких извращений), то они, эти обычные лесбиянки – с точки зрения сверхчеловеков, суперменов, супервуменш-лесбиянок – тоже посредственности, серость и т.п. А вот необычные…
“
Иметь все сказать — и не раскрыть уст, иметь все дать — и не раскрыть ладони. Сие — отрешенность, которая именуется Вами мещанской добродетелью и которая — мещанская ли, добродетель ли — есть главная пружина моих поступков. Пружина? — этот отказ? Да, ибо для подавления силы нужно бесконечно большее усилие, чем для ее проявления — что не требует никакого. В этом смысле всякая органическая деятельность есть вещь пассивная и всякая зрячая пассивность — действенная (излияние — подпадание, подавление — повелеванне). Что трудней; сдерживать скакуна или дать ему ходу, и коль скоро мы — тот же скакун — что из двух тяжче: сдерживаться или дать сердцу волю? Дышать или не дышать?Помните детскую игру, где вся слава достается тому, кто дольше всех просидит в закрытом сундуке? Жестокая и далеко не мещанская игра.
Действовать? Дать себе волю. Каждый мой отказ я ощущаю землетрясением. Самоё я — сотрясающаяся земля. Отказ? Окаменевшая борьба
” (М. Цветаева. Письмо к Амазонке http://elles.wallst.ru/person/?id=3#0001).И что ж это такое – землетрясение, сотрясающаяся земля, бесконечно большое усилие, повелевание, не дышать – как не демонизм?
Во вроде-бы-мещанстве, в выходе замуж, чтоб иметь ребенка, заявляется совсем не иудеохристианское богоугодное дело: плодитесь, размножайтесь. А некое недотягивание до гордыни демонического идеала.
“
“Как хотелось бы иметь ребенка — но не от мужчины! Веселый вздох юной девушки, наивный вздох старой девы и даже, порой, безнадежный вздох женщины: — Как хотелось бы ребенка — но только моего!” [Слова Цветаевой].Вот он в чем вопрос! В неимоверной гордыне, в противоречии всему естеству человеческой природы, в наивысшем пупизме (от выражения: “Я — пуп земли”). Вселенная, в центре которой стоит один человек, существует только в его голове. А внешняя Вселенная лишь мешает и раздражает. “В моей вселенной все должно быть по моему,
иначе — неправильно устроен мир, несправедлив Бог, злы люди”, — говорит себе эгоист” (Николай Доля http://elles.wallst.ru/person/?id=5#0024).Вот это и есть тот пафос, “в лоб” выраженный в цветаевском эссе 30-х годов (произведении не художественном, а полуфилософском), который не “в лоб” выражался еще в 1915-м, выражался столкновением “Ошибки” и “Подруги” в разновременных названиях одного и того же цикла стихотворений, выражался столкновением благословения и посылания подальше вот-вот бросящей “я” любовницы.
Скажете, слишком сложно, а главное, притянуто?
Так я вам социологическую подпорку приведу. И – аналогию. С Ахматовой.
Это было начало ХХ века, века прогресса. В России революция (1905 года) была и прошла, в чем-то страну изменив и приспособив к этому прогрессу. “
К тому времени,- пишет Коржавин,- часть публики начала терять интерес к политике - тот “политический мистицизм”... который до этого был основой духовной жизни почти всей русской интеллигенции; идея светлого будущего мало-помалу обнаруживала свою скудость. А раз так - захотелось счастливого настоящего, да такого, которое было бы способно наполнить жизнь не меньше, чем отмененное царство справедливости. Престижность героизма и жертвенности кое-где сменилась престижностью изысканного вкуса, культом красоты и изящества, богатства страстей и душевной сложности… единственное, что еще оставалось неосвоенным и неприрученным (и потому представляло интерес), был “мир страстей”… Не о сложности человеческих ситуаций речь, а только о безграничном праве неповторимых личностей на самовыражение и самоутверждение. А это само вело к необходимости такой личностью быть, во всяком случае претендовать на силу чувств, при которой “все дозволено”. В поэзии эти претензии проявились неве-роятной “поэтичностью” (разными видами внешней экспрессии) и утонченностью (форсированной тонкостью)... Были люди - самоубийством кончали, если выяснялось, что не выдерживают экзамен на исключительность.В сущности, это “ницшеанство”, печать времени...
”Вот таким ницшеанством вдохновляемая Ахматова пишет:
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.
Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
О как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
И вводит различие между лирическим “я” и “той”. Как разницу видит Цветаева между собой-лесбиянкой и лесбиянками Барни, Парнок.
“
Цветаева считала поэзию своей настоящей внутренней жизнью, защитой от ежедневной рутины (быта)… В противоположность ей Барни, которая вовсе не бежала от жизни, а скорее от искусства, временами ленилась писать и говорила о себе: “Если у меня есть честолюбивое желание — так это превратить самое жизнь в поэму”. Содержание этой предполагаемой поэмы в афористической форме выражает другое, самое известное высказывание Барни: “Для меня существуют только одни книги — это женские прелести” [или “женские взгляды” — в оригинале игра слов: “My only books/were women's looks” — прим. перев.]… В противоположность Барни, Цветаева так часто и так красноречиво писала о своих неудачах и разочарованиях в любви, что можно ее заподозрить в особо вдохновляющем воздействии на нее любовного мученичества, которое она проецировала на тех, кто был воплощением созданной ею мифологической лесбийской Амазонки, в частности, на Барни” (Диана Бургин). И Диана Бургин психологически резонно предполагает наличие связи в голове у Цветаевой между Парнок и Барни: “Поскольку Барни была, насколько известно, в жизни Цветаевой предпоследней попыткой литературной подруги, попыткой, завершившейся столь же плачевным результатом (хотя и по иным причинам), как и ее первоначальная и исходная “ошибка” с Парнок, неудивительно, что Барни выступала лишь в роли внешнего адресата “Письма к амазонке”, а внутренним и, возможно, истинным адресатом была первоначальная подруга-ошибка, София Парнок, с которой Цветаева имела первый опыт вполне реализованных лесбийских отношений в 1914—1916 г.г.”.Так что…
Я надеюсь, что поколебал ваш скепсис.
Попутно обрисовались другие расхождения Фриды Гинтс с истиной.
Она, например, пишет: “
Цветаева ждет, но, увы, не находит спутников по судьбе… ищет духовных сподвижников, страдает от разочарования в ближних, рвется сердцем к дальним”.Согласитесь, что Диана Бургин пронзительнее видит Цветаеву: быть счастливой – пошло, и не вдохновляет Марину Цветаеву (что, кстати, вполне в духе демонизма).
Гинтс: “
Сегодня о ее творчестве спорят и говорят много. Но все домыслы и суждения часто разбиваются о нее саму - такую пронзительно очевидную, всем доступную…”Ничего себе очевидная и доступная!.. Вы только что видели. Я уж не говорю, что о ее лесбиянстве долго вообще умалчивали.
Гинтс: “
Цветаева сказала о себе самой слишком много, сумела не раскрыть главной пленительной тайны. Это тайна крылатости”.А по-моему, тайна элементарна: наличие идеала – демонического. Есть идеал – хочется его выразить. И – полетел творец. Нет идеала – мямлит, а не поет, бредет, а не летит.
Гинтс: “
Что же определяет сущность цветаевского поэтического творчества? Прежде всего искренность и уникальность ее оценок, жестов, поведения, судьбы в целом”.Неправда! Искренни – все настоящие. А демонизм, даже доведенный до парадокса, является типичным для поэзии русского серебряного века. Даже кончавших с собой в нем было, чего доброго, больше, чем в любом другом веке.
Гинтс: “
Романтизм ее творчества возрос на оригинальной философской почве”.Ну, вряд ли ницшеанство в ХХ веке – это оригинально даже для России.
Гинтс: “
Настроение поэтессы, ее ориентированность на одинокое избранничество, неизбежная отверженность от "мира сего" объясняются… и сложившейся в начале ХХ века предгрозовой революционной ситуацией”.Как раз наоборот. Послегрозовой. Пошлостью прогресса после революции 1905 года. Потом бунт ухода в себя так по инерции и пошел по десятилетиям.
Гинтс: “
В желании утвердить себя ценой поступка, шокирующего благовоспитанную светскую публику, Марина Цветаева схожа с ранним Владимиром Маяковским, поэтом-бунтарем, городским глашатаем-пророком, уличным хулиганом - из презрения к сытым буржуа. Разница между ними, пожалуй, в том, что Маяковский, прибегая к эпатажу, разрушает мир вокруг себя; Цветаева же, напротив, создает внутри себя свой, никого туда не пуская”.Опять все – ну, почти все – напутано.
Ранний Маяковский был в отчаянии от поражения революции 1905 года. Он был в отчаянии от разочарования в ее идеалах культурной публики. Но не обращаться к ней не мог. (Может, другой публики у него тогда не было.) И, обращаясь, он, революционер по социальному идеалу, естественно, публику злил, в том числе и эстетически. И она не могла его не запомнить потому
. А ему то и нужно было. “Чинная чиновница ангельской лиги” воленс-неволенс передаст пророческие речи своим детям, те – своим. И социальный идеал революции не погиб бы в веках. И на большее Маяковскому – в его отчаянии, вы только представьте: в отчаянии – и рассчитывать не приходилось. Ведь сами социальные революционеры на новую – через год-два - революцию не рассчитывали. Маяковский же, в своей горячности, и вовсе только на сверхбудущее тогда надеялся. Потому у него - не только презрение к сытым буржуа, но и желание их пронять все же. Хоть скандально. Оттого и крик до срыва голоса. И только кажется, что он разрушает мир вокруг себя. На самом деле он его строит для сверхбудущего. В других. И для других (http://art-otkrytie.narod.ru/prigov.htm).А Цветаева – только для себя и только для сей минуты. И только внутри себя. А на других ей наплевать. И утверждать себя среди них вовсе и не нужно. Даже насмешка над ними нужна ей для себя, а не – чтоб их позлить.
Легкомыслие!- Милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнул смех,
Ты мазурку мне вбрызнул в жилы.
Научил не хранить кольца,-
С кем бы Жизнь меня не венчала!
Начинать наугад с конца
И кончать ещё до начала.
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни где мы так мало можем...
-Шоколадом лечить печаль,
И смеяться в лицо прохожим!
3 марта 1915
“Шоколадом лечить печаль…” Это противоречие как раз своей противоречивостью и говорит о том, что процитировать нельзя и ради чего все сочинено. Оно говорит о строительстве внутреннего мира. Где лирическое “я” - царь. Гнущийся, как стебель, внешне, но, как сталь, несгибаемый внутренне. Это стихотворение выражает мировоззрение демоницы. Во внешней жизни она может идти по головам и судьбам. Например
, по судьбе того, с кем повенчана…Фрида Гинтс цитирует строки о стебле, стали и жизни как “в лоб” выраженный идеал поэтессы, трезвого человека в реальной действительности: “
вот желанный предел поэта. Это достигается ценой нечеловеческого напряжения сил. Это - стремление к тому, что люди обычно считают невозможным или несбыточным”. Понимай, где хитростью, где упорством – переиграть все-таки жизнь! Сделать обычно несбыточное!Но идеал-то художника из художественного произведения процитировать нельзя. Героиня-дипломат – получился идеал Цветаевой у Фриды Гинтс. А это ж неправда.
Но… Бывает у людей какая-то странная способность: говорить-говорить-говорить ерунду, а в общем создавать верное впечатление о предмете говорения. В итоге Фрида Гинтс правильно,- если я заработал своими тремя микроразборами право судить,- понимает Цветаеву. И можно только благодарить автора эссе за частные ошибки, спровоцировавшие меня заподозрить их именно в ошибочности, взяться проверить и тем познакомиться с поэтессой.
08 февраля 2005 г.
Натания. Израиль.
Обсуждение
Граждане! Впервые я получил возможность и конструктивно и с филологом обсудить свою работу. И не могу пройти мимо этого. И – вот - публикую. Пусть читатель нас судит. Ведь для меня важна не моя правота, а объективная истина. Вдруг филолог в чем-то права (это женщина). Знайте.
А поскольку мне кажется, что я ее победил, то пусть она останется неназванной.
Переписка велась электронно. Ее текст я выделяю курсивом.
Скажите, Соломон, что заставляет человека сесть и создать текст, подобный Вашему, а? И к тому же - по Цветаевой я не специалист, но, извините за грубость, то, что Вы, уважаемый Соломон, пишете о Парнок - дико неадекватною. И в литературном, и в психологическом плане. Не всякую пошлость следует доверять бумаге.
Уважаемая госпожа!
Я вам могу сказать, что заставляет меня писать. – Желание проверить, что принцип художественности Выготского работает, вот, на очередном художественном произведении.
А вот если б вы объяснили мне, в чем вы видите неадекватность и пошлость о Парнок…
Я признаю, если скажете, что я темный (я действительно считаю себя посланцем темноты в страну культуры). И я пойму, что вы, может, в принципе не мыслите с таким обсуждать такое.
Но вы еще, мне кажется, и в принципе против того, чтоб об искусстве писали неспециалисты.
Я б и не писал, ибо нет у меня филологического образования. Но что делать, если филологи, 99,9% их, игнорируют открытие художественного смысла конкретного произведения. Вот вам и второе обоснование, почему я написал и эту статью, и вообще все, что ни написал.
Спасение утопающих оказалось делом рук самих утопающих.
Так что вам,- а вы, я понимаю, специалист, пусть и не по Цветаевой,- грех меня упрекать даже в чем бы то ни было.
Мне хочется думать, что вы не ханжа и не потому на меня напали, что я половые извращения обсуждаемых поэтесс не обошел стороной.
Мне не хочется думать, что вы человек слабодушный и не довольны мной за то, что я демонизм стараюсь понять.
Поэтому у меня есть маленькая надежда, что вы вступите со мной в конструктивный разговор.
Я вам могу пообещать, что если вы мне докажете мою неправоту, я сниму статью с сайта.
Уважаемый Соломон!
Спасибо за отклик, с удовольствием вступлю в "конструктивный - по возможности - разговор"!
Рассуждать о Вашей или моей "темноте" не собираюсь. Не против того, чтобы об искусстве писали неспециалисты, так как не понимаю, как это "специалист в искусстве". Лучше всех об искусстве сказал Бродский, да: "Я думаю, это от Бога". Я себя, как уже говорила, специалистом не считаю, несмотря на наличие филолог. образования. Но о Софье Парнок мне приходилось писать.
Про игнорирование худ. смысла специалистами - это часто случается, но не в варианте Фриды (принципиальное мое убеждение).
Да и я ж согласен.
Я, может, поступил, как привязчивая злая собака, покусав ее за ошибки. Я признаюсь, что сделал это для интересности для читателей. Скучно, когда тишь да гладь. Вот, чтоб их соблазнить, я и… Но я же и признал, что “В итоге Фрида Гинтс правильно,- если я заработал своими тремя микроразборами право судить,- понимает Цветаеву”.
Пошлостью я привыкла величать расхожее - слишком расхожее - мнение, слишком недоказуемое, слишком - априори.
Черт! Мне не хочется соглашаться. Расхожее не равно недоказуемому, расхожее не равно априори, недоказуемое не равно априори. Вы это и сами знаете.
(Я пишу, не читая, что там у вас ниже. Попробую “протелепать”, что расхожее это то, что легко завоевывает широкую популярность. По нашим гадким временам – всякая порнография, например, и смакование пусть и здоровой антипатии к половым извращениям, но все же
с удовлетворением, скажем так, любопытства низкого в себе. – Так у меня, по-моему, этого нет. Если я взялся отличать достижимое сладострастие, пусть и лесбиянское, от того же, но труднодостижимого, труднодостижимого из-за препятствий, чинимых работой иного духа, чем в первом случае, то разве это так уж интересно толпе? Теперь посмотрю, что вы пишете дальше.)И то, что я читаю у Вас - о Парнок - расхоже. А жаль. Постараюсь объяснить.
Никоим образом не раздражена тем, что Вы пишите о "половых извращениях поэтесс". Но принципиально не считаю ЭТО извращениями, противоречием всему естеству человеческой природы.
Так. Сел в лужу со своими угадками. Но опять попробую возражать, не читая дальше (а то боюсь запутаться).
Соглашаясь с вашим последним предложением, хочу в чем-то и возразить. У человека действительно бывает гораздо больше проявлений, чем у животных.
Слово “извращения” в статье у меня применено один раз и применено для отличия человека от животных. Животные настолько рационально устроены, что – я точно не знаю, не зоолог – почти не делают в половом отношении того, что не необходимо для размножения. Почти. Обезьяньи самцы известно, чем занимаются… Да и, может, это оттого, что им скучно в клетке зоопарка. Про самок что-то не слышал, да и не видел.
И все-таки вряд ли можно утверждать, что для человека нет различий между нормой и отклонением от нее.
Понятие “норма” - социальное, социологическое и даже идеологическое. С этой стороны лесбиянство меня и интересовало.
Это тема отдельная, может и не надо сейчас мне ее поднимать... Просто, чтобы признать нечто извращением надо быть твердо убежденным в наличии нормы. А я не убеждена.
Лесбийская любовь - о Барни не берусь судить, мало приходилось ее читать, но для Парнок - не "нечто утонченное", а источник мучения…
Знаете, я хочу и покаяться, и защититься.
Покаяние мое такое. Я не знаю Парнок. Но моим предметом была Цветаева. Я рискнул, чтоб не слишком отвлекаться, относительно Парнок в общем положиться на Диану Бургин. Кое-что из ее слов не взял в кавычки. “Нечто утонченное” - из того разряда.
Но так как я люблю не быть голословным, то я пробежал глазами одно-два стихотворения Парнок и процитировал из одного кусочек, как мне казалось, соответствующий “утонченному”. Слова
“Отпустить на волю”, конечно, предполагают, что неволя суть источник мучения. Но, согласитесь, во-первых, что источником мучения оказывается то, что обычные люди называют нормой, а не, как вы говорите – лесбийская любовь. Во-вторых, слова “Струнные звоны”, “Незабвенных нег”, “незабвенных песен” скорее имеют отношение к утонченному, чем к мучению. Да и ассоциативно Сафо,- у меня, по крайней мере,- связывается тоже не с мучением, а с утонченностью (хоть я Сафо не читал, а только – о ней, и немного).Так что для читателя моей статьи, непосвященного, я был бы более убедителен, чем вы, если б он прочел эти ваши слова: “источник мучения
”.И мы с этим гипотетическим читателем дальше ваше письмо еще не читали…
(Да. Вы можете мне попенять, что я отступил тут – и в статье, и в данном письме - от себя и удовлетворился восприятием Парнок “в лоб”. Тут я поднимаю руки вверх. До чрезвычайности тяжело держать себя в ежовых рукавицах Выготского. Виноват. Спасовал. Но неужели не “в лоб” тут как раз и прячется “источник мучения”? – Ой, вряд ли.
Теперь стану читать дальше.
)…и единственный способ жизни, дыхания, реализации всего того, что - не Богом ли заложено? Не природой ли дано?. .
А почему б вам тут не согласиться с Дианой Бургин и Цветаевой, что подчиняться тому, что дано природой – естественно и легко, а не мучительно? Это действовать по линии наименьшего сопротивления. А?
Это не идеал, ни низок он и не высок - это реальность.
И почему не согласиться со мной, что естественность – тоже может быть в ранге идеала? Идеалы ж разные бывают: легко и трудно достижимые. Естественное – легко достижимо.
И СП пыталась с ней бороться…
Неужели вы сможете мне доказать, что в процитированном мною стихотворении выражена борьба?
Я не хочу с вами спорить в биографическом плане.
Но не согласитесь ли вы со мной, что искусство это не жизнь. А биография – лишь ПОДСОБНЫЙ материал для исследователя художественного смысла конкретного произведения искусства.
…вогнать себя в "норму" - брак ее с Волькенштейном и был этой попыткой. Потом пришло понимание, что, как ни банально, - от себя не уйти:
Без оговорок, без условий
Принять свой жребий до конца... (С. 418)
“В лоб” (увы, опять “в лоб”) понимаемые, эти слова тоже явно относятся к достижимому идеалу, а не к труднодостижимому.
(Вы обратили внимание на синусоиду перед статьей и на поименованные точки на той синусоиде? Они наглядно иллюстрируют разницу идеала достижимого – Барни и Парнок - и труднодостижимого – Цветаевой.)
(Я по-прежнему не читаю то, что написано у вас дальше.)
Но эстетством любовь для нее не была никогда. Больше того, она для С. - источник постоянного самобичевания. Тесты выбираю почти наугад:
О, темный, темный, темный путь,
Зачем так темен ты и долог?
О, приоткрывшийся чуть-чуть,
Чтоб снова запахнуться, полог!
Себя до Бога донести,
Чтоб снова в ночь упасть, как камень,
И ждать, покуда до кости
Тебя прожжет ленивый пламень!
(311)По Выготскому дразнение, грубо говоря, это и есть психология эстетического. Так здесь оно, пожалуйста, ЕСТЬ. Мне вспомнился кусок из какого-то фильма с Фернанделем. Он обнимает красотку. Она ждет поцелуя, закрыв глаза. А он водит губами на сантиметр от ее лица и не целует. Так она аж завизжала от возбуждения. Что-то типа: “О! Как это ты делаешь!”
Мужчины женщин обычно удручают своей целенаправленностью и торопливостью. Так если лесбиянки выгодно отличаются от мужчин в этом отношении, то эти стихи как раз и передают этот плюс. Тут плюс, а не минус, как вы утверждаете.
Там еще такие строчки есть:
Как от беременной жены,
Терпеть причуду за причудой
Я, мужчина, имеющий двоих детей, понимаю эту тягость как в общем положительную. Потерплю. Зато наследник будет.
.....
Так падает капля, пока не проест
Гранита, так червь точит душу...
У каждого грешника в мире свой крест,
А мне - эти речи слушать...
Не кощунствуй, пожалуйста!
Лучше пей, сквернословь.
Не по страсти - по жалости
Познается любовь.
"Люблю!" - повторяет зубастым ртом,
Повторяет и смотрит в оба.
Так глухо падает первый ком,
Ударяясь о крышку гроба.
(384)Если сходу, то тут лирическое “я” наткнулось в лице партнерши на некую противоположность упомянутого героя Фернанделя.
Что ж, даже у достижимого идеала есть свои трудности достигания. Не та партнерша попалась.
…..
О, как мне этот страшный вживень выжить,
Чтоб не вживался в душу, мысли, в кровь?
Из сердца вытравить, слезами выжечь
Мою болезнь, ползучий рак - любовь?
(414)Это песня о неразделенной любви. Как писал Гуковский “
эмоция в искусстве - тоже идея, ибо эмоция дана не как самоцель, а как ценность: положительная или отрицательная,- как эмоция, подлежащая культивированию или, наоборот, подлежащая вытеснению. Тем самым произведение содержит оценку эмоций, а значит и идею эмоций”. Так конечно же идеал данного стихотворения – разделенная любовь. Труднодостижимость оценивается, как негативное. Значит, достижимое – позитивное. Не так, как у Цветаевой......
Прости, что я, как гость непрошенный,
Тебя не радую,
Что я сама под страстной ношею
Под этой падаю.
О, эта грусть неутолимая!
Ей нету имени...
прости, что я люблю, любимая,
Прости, прости меня!
(С.422)Вот это стихотворение мне что-то не удается интерпретировать. Вы уж простите раз.
СП вообще - сплошная тоска:
Это еще не значит, что у нее не тоска по легко достижимому идеалу, отличному от цветаевского.
Нет мне пути обратно!
Накрик кричу от тоски...
(418)Это стихотворение тоже не могу растолковать. Но и растолкованных хватает.
Про роман МЦ и СП писать, или, по крайней мере, писать с уверенностью в своей правоте, считаю пошлостью, потому что здесь все зыбко, все недоказуемо: письма сожжены, дневники СП утрачены. Собственно основная моя претензия к Диане Бургин в том, что она биографию пытается вычитать из текстов.
Черт! У меня не осталось впечатления, что цель Дианы – биография. А проверять не хочется. Зато хочется поверить, что Диана опирается на тексты произведений в исследовании, посвященном художнику. Это принцип, взятый мною на вооружение. Я очень враждебно отношусь к биографизму. Сошлюсь опять на такой авторитет, как Гуковский: “
Можно не до конца открывать себя (вольно или невольно), можно искажать самого себя - в письмах, в разговорах, в декларациях, в личных поступках, но никоим образом не в творчестве, если иметь в виду подлинно ценное творчество, не терпящее ни грана лжи: из лжи никогда не рождается ничего ценного в искусстве”.Это соблазнительно, но бесперспективно. Согласитесь, текст живет по своим законам и, даже и, будучи навеян реальностью, дистанцируется от нее.
Конечно.
Поэтому говорить, что СП соблазнила и бросила МЦ на основании текстов, типа "Этот рот до поцелуя твоего был юн" и "Счастлив, кто тебя не встретил на своем пути" - некорректно.
Пожалуй, да. Если Бургин не имеет достаточно доказательств. И я виноват, что ей доверился. Но, по большому счету, разве моя доверчивость так уж наказуема? Я-то хлопочу об истолковании произведения, а не биографии. Ведь из текста стихотворения, вырванного из цикла, не ясно, что речь о лесбийской любви. А если я применил слова “соблазнила и бросила”, то читателю много-много становится ясно. Я о нем хлопочу. Тонкости, как там было с бросанием прототипов, ведь не важны. Важно, что происходит с персонажами произведения.
Этот роман тайной останется. Про него, к сожалению, слишком много пишут…
Так тем паче я достоин снисхождения.
…начиная со Швейцер и Саакянц, и все в одном варианте: мол, опытная С. соблазняет романтическую Марину, терзает ее, а затем то ли бросает, то ли Марина от нее - к Мандельштаму и к Эфрону. А там много тоски и много любви, и роли распределять я бы повременила.
Нет. Вы не можете не признать, что у меня центр тяжести не в биографии.
Хотя бы потому, что есть Маринино "Соню я люблю, и это навсегда" и Сонино: "Но я простила ей"
.Что касается "Незабвенных нег незабвенных песен", - здесь суть не в утонченности той или иной формы любви, а в литературном кредо.
Не угадываю, о чем это вы будете писать дальше… Стихотворение-то, да, об искусстве. Но разве я не вправе толковать его расширительно – как еще и о том жизненном, что вдохновляет это искусство – достижимой телесной радости жизни?
СП была убеждена - в 10-е годы, по крайней мере, в собственной - литературной - укорененности в Золотом веке ("мы - те, кому доверено печальное счастье быть последними в роде" - СП) и - далее - в античности.
А античность, писал Чаадаев, имела грязный идеал красоты… Что-то в этом роде. Не имею возможности цитировать.
Отсюда:
Чудится деве: она домечтает мечты твои, Сафо,
Недозвучавшие к нам песни твои допоет...
(296)Для нее принципиальна - душа. А душа - она вне пола.
Душа-то, может, и вне пола. Но я ж и не свожу к полу, а тоже хлопочу о кое-чем духовном – об идеалах и их отличии друг от друга.
И вот еще. Вторгаясь вовсе не в свою область - про предмет Вашего с Фридой спора.
У меня создалось впечатление, что вы абсолютизируете какие-то вещи.
Есть грех. Психологическая основа художественности (дразнение, катарсис) это нечто из области естествознания. Оно вне истории искусства, внегуманитарное.
(Хотя может это и адекватно цветаевкой абсолютизации). Почему прорыв в вечность - обязательно демонизм.
Вас не устроит, если скажу, потому что это однопорядковые величины?
Прорыв в вечность есть обретение души. И жизнь внутренняя, которая НАД внешней - обретение души.
Те, кто считается с внешним, не солипсисты, тоже имеют душу. Но не такую. А солипсисты не считаются ни с кем, ни с чем вокруг. Чем не демонизм?
Не демонической ипостаси, а человеческой души, своего пути, выбора.
Ну да. А есть и другие люди. Они счастливы, СЧАСТЛИВЫ чувствовать себя частицей огромного. Родины, например.
Вот я, будучи конструктором, испытывал наслаждение от уничтожения своего личностного выбора под влиянием умения все обосновать требованиями к конструкции, к производству этой конструкции и т.д. – миллион требований. А я все учел. И ничего не допустил как отсебятину.
А
"Хочу у зеркала..." - это, боюсь, не демонизм, а усталость. И бесконечное усилие - повседневность. Усилие быть собой, нести свою душу. Да, правда, я, чем дальше перечитываю Ваш текст, тем более уверяюсь: это подмена терминологии. Т.е. там, где у Вас - демонизм, так у МЦ - всего лишь реальность каждого дня. Не критическая ситуация, не выверты декадентского сознания, а только правда повседневности. Печаль ведь действительно только шоколадом и лечится.Это если внутреннее перевешивает внешнее. А как Цветаева романтик (романтик же эгоист, если одним словом и в моральном плане), то да, шоколадом.
С уважением…
P.P.S
. Все стихи СП цитирую по изданию Sub rosa: Аделаида Герцык, София Парнок, Поликсена Соловьева, Черубина де Габриак. - М, 1999. В Интернете они изданы в проекте Silverage.Спасибо, что не пренебрегли посланцем темных.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |
Отклики в интернете |