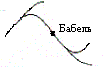
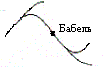
С. Воложин
Бабель. Одесские рассказы.
Конармия. Другие рассказы.
Художественный смысл
| Грязнули евреи, зверские конармейцы… Их любит Бабель – во имя теперь уже все-таки светлого и исторически близкого будущего. |
Первая интернет-часть книги “О художественном смысле произведений Бабеля”
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИСКУССТВА
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
-----------------------------------------------------------------------
С. Воложин
О художественном смысле
произведений Бабеля
Одесса 2003 г.
Предисловие,
постоянно-переходящее
к каждой книге данной серии
- Миссия есть у каждого... Самое интересное... что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия...
“Хрустальный мир”. В. Пелевин
Моя миссия, по крайней мере в этой серии книг, заключается, видимо, в том, чтоб дать как можно больше примеров применимости Синусоиды - я это так называю - идеалов (с инерционными вылетами вон из нее), идеалов, которыми одушевлены были творцы произведений искусства при их создании, для выявления художественного смысла этих произведений.
Я было пробовал когда-то поделиться своей находкой: послал материал в центральную газету, в толстый журнал... - Не взяли. Сделал принтерные самоиздания (по паре экземпляров) нескольких работ и подарил их одной-другой библиотеке. - Взяли. Но - в отделы рукописей, и вещи не попали в общие каталоги. Напечатал несколько статей в местных газетах. - Но там не развернешься. И никто не понял, на какой системе все у меня базируется. Издал кое-что, крошечными тиражами, для библиотек. - В общие каталоги попало, но никто их там не ищет.
Нет. Надо - как в кибернетике: для надежности передачи информации обеспечь ее избыточность.
Когда-то я писал и думал: будь у меня сто жизней - я бы всю историю искусств построил по Синусоиде с ее вылетами....
Вот и надо внушить ту же мысль печатно, количеством моих применений такой Синусоиды.
Правда, я не мог это издавать сразу после написания, а теперь уже не полностью согласен с самим собой, прежним. - Ну, зато видна эволюция от книги к книге. Может, это даже и лучше для усвоения.
ОТКРЫТИЕ БАБЕЛЯ
ДЛЯ СЕБЯ
И ДРУГИХ НЕВЕЖД
Предисловие к самиздатским экземплярам 1995 г.
Бабель... Одесса... Насколько связаны эти собственные имена! Писатель родился в этом городе, здесь начал сочинять (по-французски). Одесса же в те времена была частично французским городом. Бабель родился в год столетия ее. Соответственно - столетний юбилей писателя входил в 1994 году как составная часть празднования 200-летнего юбилея города. Одесса вдохновила его на лучшие произведения, их перевели на десятки языков. И в результате иностранцы говорят, что Одессу в мире теперь знают в первую очередь потому, что о ней писал когда-то Бабель.
В мире разразились новейшие революции, малокровные. И “поведение” Одессы в них дает еще один повод связать город с Бабелем. Пафос его творчества, рожденный на излете революции, это снисходительность к настоящему во имя будущего. А такая черта Одессы, как терпимость, родилась от еще более давнего социального катаклизма.
Одесса - дочь Великой Французской революции, вернее реакции на ее кровавые ингуманистические залеты. Тогда устали от взаимного противостояния и якобинцы и аристократы. Самые умные из последних поняли: революционеры были в чем-то правы, и грядущий, XIX, век будет веком если и не плебеев, то чего-то среднего между аристократией и низами. Вообще поняли, что извечную драму существования человека лучше разрешать без впадания в крайности.
Герцог де Ришелье, второй градоначальник Одессы, был одним из таких мудрецов и возглавляя обустройство города руководствовался антисословными и интернациональными принципами.
Что могло сцементировать в городскую общину колонистов из всей Европы и Малой Азии, беглых крепостных и помещиков, бежавших от революции аристократов и приглашенных ремесленников? Что могло нейтрализовать эту взрывчатую смесь из крайностей человеческого материала? - Искусство и смех, смех надо всем и над собой в первую очередь, - решил де Ришелье.
Это исторический факт - роль герцога в том, что в юном городе появился оперный театр, способный вместить треть населения, так что даже грузчики в порту распевали арии из итальянских опер.
И вот в том, что уже через 20 лет после возникновения города стали выходить в Европе книги анекдотов об одесситах - небезызвестная в Одессе Анна Мисюк в том видит тоже руку де Ришелье, вернувшегося во Францию. Он еще живя в Одессе позаботился о юмористической славе города, превратив в анекдот прежде всего себя самого. Аристократ, он вел себя так, что называется в высшем свете словами “дурной тон”. Он ввел его в моду, и это стало шармом города, его неповторимым лицом.
Психологически все очень понятно: исторические оптимисты, умудренные после крутых времен терпимостью, не боятся выставить себя в неприглядном свете.
Так поступает и само искусство со своими персонажами.
Искусство ведь - не жизнь, действующая на нас непреложно. И крайности в искусстве для того и вводятся, чтоб их изжить. Одессит же, в каком-то смысле, сам есть произведение искусства. Артист в жизни.
Де Ришелье, известный небольшой близорукостью, раскланивался, гуляя перед пустыми балконами: вдруг-де там - дама. Алексеев, демонстрируя московскому гостю, князю Долгорукому, изюминку Одессы, море, не стесняется - аристократ - сам сесть за весла лодки. Сам Долгорукий, подпадая под обаяние всеобщей игры, притворяется трусящим бурного моря, крутого берега, непереносящим неустроенность жизни в юном городе. А его радушные хозяева, наоборот, играют противоположную роль: мол, все в Одессе самое лучшее.
Все - по крайностям. И не всерьез. Потому что в среднем (а в среднем-то и соль) - все прекрасно.
Пушкину ничего не стоило назвать Одессу грязной и пыльной, потому что на его глазах начали мостить улицы камнем. Рассчитывал он, что город станет образцом чистоты? Нет, конечно. Но в среднем... все прекрасно. И Пушкин для одесситов стал своим.
Переехав жить в Одессу во время прибалтийской революции, я содрогнулся от нового окружения. А в результате - счел себя счастливым. Похоже - с прочтенным здесь впервые Бабелем. Я был шокирован контрастом между то физическим, то моральным уродством поголовно всех его персонажей и... светлым чувством, остающимся в душе в итоге чтения.
Почему это?
На ответ натолкнул Илья Эренбург в предисловии к бабелевскому томику своими словами по поводу рассказа “Карл-Янкель”: “
Он [Бабель]... верил в будущее...”И как молния вмиг освещает всю окрестность, так я вдруг понял каждую художественную деталь в его рассказах как производное его исторического оптимизма. И в том же - мне открылось - тайна обаяния Одессы.
“Ничего-ничего! - как бы говорят и Бабель, и Одесса, пребывая среди ужаса.- Все образуется”. Говорят и действуют.
Вот и я затеял, - играя на крайностях в структуре рассказов Бабеля, рискуя задеть сложившееся мнение о писателе или ваше, читатель, самомнение, - возвысить вас до ПОНИМАНИЯ художественного смысла произведений искусства и их автора. Затеял, потому что верю в вас.
Одесса. 1994 г.
Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня.
- Не может быть,- шептал я себе,- чтобы ты не был счастливее меня...
Бабель. “Карл-Янкель”.
“Одесские рассказы” вовсе не просты для понимания, как кажется, как, впрочем, и другие рассказы. Возьмем первый из “Одесских” - рассказ “Король” - о главе мафиозного клана в дореволюционной Одессе Бене Крике, Короле.
Цитирую и разбираю строку за строкой с самого начала, без пропусков.
“Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора...”
Одесса все-таки не село, а город. И свадьбу горожанам надо было б справлять в помещении. Но если справлять ее хочется шикарно, то есть со множеством приглашенных гостей, а состояние Бени Крика (хоть он и Король) увы... (дворца он не имеет), то справлять многочисленную свадьбу приходится во дворе.
“...столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу...”
Ну, положим, выхлопных газов на улицах тогда не было. Но неужели не было и пыли?
“...на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами - заплаты из оранжевого и красного бархата...”
Заплаты - дважды в одном предложении. Заплаты из бархата. Одним этим - уже все сказано. Лягушка тужится быть больше вола.
Одесситы умиляются одесским рассказам Бабеля, а он их по-одесски вышутил, по крайней мере некоторых, ибо некоторые, как и страна, так и не вылезли из своей, в общем, нищеты, а все тужились и тужатся сделать вид, что они лучше других, обманывая, впрочем, лишь себя.
“...Квартиры были превращены в кухни...”
Что ж, голь на выдумки хитра.
“...Сквозь закопченные двери...”
Интересно, после раннего средневековья в кухнях, обслуживающих не то чтоб царя, короля или шаха, а просто туза из высшего общества,- мыслима была такая антисанитария, как закопченные двери?
“...Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица..
.”Похоже на полупервобытный чум какой-то, юрту кочевников, курную крестьянскую избу, а не квартиру в третьем-четвертом городе Российской империи, Одессе. Да еще у кого? У Короля.
“...пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса...”
Вообще-то, кухню любого дела чаще стараются спрятать, чем выпятить... Но не Бабель. Ему нужно показать всю низость сущего, чтоб проникнуться горьким состраданием - ради энергии веры: будет - по-настоящему хорошо. Хотя бы уже потому - будет, что люди из поколения в поколение несут об этом мечту. И воплощают - в праздниках, в свадьбах, например.
“...Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы...”
Царила, традиционная, свиток, торы - какие высокие слова. Как отблеск тысячелетней мечты, как отсвет религии... тысячелетиями же и обманывающей веру и надежду.
“...традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая”.
Трезв и безжалостен Бабель. Но ему легко. Он писал “Одесские рассказы”, он живописал дореволюционные потуги плебеев на шик - в послереволюционное время, когда, казалось бы, появились солидные шансы на осуществление тысячелетней мечты плебеев достигнуть аристократического качества жизни. Пусть не сразу. Но скоро. Ибо достигнуто главное - исчезли те, кто социально выше других.
И потому Бабель так снисходителен к тому, еще дореволюционному пигмею, находившему удовольствие в немедленном попрании достоинства человека, еще меньшего, чем он.
“...Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню в сторону.
- Слушайте, Король,- сказал молодой человек,- я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...”
Он спросил... он отвел... Чувствуете, какая пластика, собственное достоинство, мерность, солидность? Хоть и молодой еще человек... Да и это “молодой человек”... Не мальчик на побегушках при влиятельной (раз и на Госпитальной она известна) тете Хане с Костецкой. И то, что он позволяет себе сделать вступление... И даже нерусское звучание этого вступления: я имею... Не его используют, а он имеет... Ничего, что это буквальный перевод с еврейского. Выглядит это - для свежего человека - важно.
И вот этого важничающего человека, конечно же, нужно перво-наперво осадить, перебить, да еще подловить тут же: не применяй, мол, речевые штампы (пара слов) - влипнешь, не уложишься в пару слов:
“...- Ну, хорошо,- ответил Беня Крик, по прозвищу Король,- что это за пара слов?
- В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...”
Пигмей Беня испытывает потребность немедленно обесценить полученную информацию, довольно серьезную для рэкетира, не то потуга на важность молодого человека приобретет основание:
“- Я знал об этом позавчера,- ответил Беня Крик.- Дальше”.
Молодой человек уничтожен. Беня - холодно лаконичен. Обманул он молодого человека или нет - не важно. Эффект достигнут: главенствовать - ежеминутно. Не впадая, впрочем, в неадекватную реакцию. Ибо тогда не поглавенствуешь. Так что надо милостиво позволить униженному продолжать.
“...Дальше.
- Пристав собрал участок и сказал участку речь...”
Молодой человек тоже не промах. Собрал участок... сказал участку... Мерность и солидность еще не слетела с него. Ну так и Королю, значит, надо продолжать его давить. И - он опять обрывает парня. Да еще демонстрирует ему свою пронзительную, достойную Короля, догадливость:
“- Новая метла чисто метет,- ответил Беня Крик.- Он хочет облаву. Дальше...”
А почему “ответил”? Потому, наверно, что молодой человек сделал артистическую паузу. Он уже вон сколько говорит, а самого главного еще не сказал: надо ж уметь себя подать в жестоком мире. “Поэтому,- быстро соображает молодой человек,- не удивляться надо догадливости Бени, а прощупать до конца его прозорливость”:
“- А когда будет облава, вы знаете, Король?”
Что ж, пигмей-король должен принять брошенный вызов: угадать. И если угадает - его верх, нет - обойдется
:“- Она будет завтра.
- Король, она будет сегодня”.
Молодой человек выиграл. Ну, так ущемить его хотя бы за молодость, тем более, нужны ж доказательства:
“- Кто сказал тебе это, мальчик?
- Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?”
С упоминания о тете Хане молодой человек ведь и начинал. Но в милостивом пренебрежении Король тогда не удосужился признать, что знает столь мелкую сошку, как владелицу, так сказать, информационного центра, внедрившую своих людей в полицию. Но молодой человек все же парень не промах. Он заставил-таки уважать, если не себя, то тетю Хану. Король опять уступает. Правда, все равно держит себя победительно-сухо.
“- Я знаю тетю Хану. Дальше”.
Среди королей вообще принято даже поражения изображать победами. И оставаться высокомерными. Беня хорошо вошел в роль короля налетчиков. Это его отстраненное “Дальше”...
Дальше молодой человек рассказал подробности обсуждения в полицейском участке. И вы думаете, получил благодарность?
“- Ну, иди,- ответил Король.
- Что сказать тете Хане за облаву?
- Скажи: Беня знает за облаву”.
Мелкой шушере, мальчику-курьеру, нечего знать, какие счеты внутри мафии (а тетя Хана, конечно же, ее звено). И - Беня не признается, что ему оказали крупную услугу.
Не правда ли, неприятный тип - этот Беня Крик? Двух слов подряд в простоте не скажет. Только он подчеркивает свое верховенство. Правда, среди обычной гонки самолюбий (среди одесситов, например) это не воспринимается скверным. Но со стороны, объективно, признайте - неприятно активный, агрессивный психологический тип.
Да и профессия - налетчик, по-нынешнему рэкетир - неприятная, мягко говоря.
Впрочем, это мы с вами, читатель, очень уж вжились в произведение на минутку. А вернувшись в действительность, вспомним, что тигр-то - бумажный, не страшный. Это “нарисован” он на бумаге - как живой. А “нарисованный”, он даже красив. По-своему.
Но... давайте опять вживаться в этот странный мир, который - если вы впечатлительны - заставляет содрогнуться. Бабелю,- для показа дистанции от этого тенденциозно утрированного мира,- надо нас мучать. Так окунемся же в компанию подобранных им для нас персонажей.
И тогда...
Опять: так же неприятны все герои “Короля”, да и всех других “Одесских рассказов”, да и вообще всего творчества Бабеля. Все герои и все ситуации.
Уродлива Двойра, сестра Бени, это ее свадьбу играет Беня Крик, Король. Жалок ее жених, щуплый мальчик. Мерзко, что этот мальчик куплен (а не женится по любви), куплен на деньги Эйхбаума, тестя Бени. Неприятен богач Эйхбаум, человек без чести, вошедший - ради еще большего вознесения над окружающими - в сделку с Беней Криком, породнившийся с ним, а еще в молодости,- подделавший завещание. А приятны ли разгулявшиеся на свадьбе сотрудники Бени Крика: Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух.
*
В рассказе “Любка Казак” кухарка и нянька Песя-Миндл еще и сводница, старший механик судна “Плутарх” мистер Троттибэрн еще и контрабандист, сама Любка столь жадна до бизнеса и денег, что плюет на своего годовалого младенца, да и прижила его - неизвестно с кем, и понять можно так, что для успеха в бизнесе не прочь - в свое удовольствие - не только выпить, но и переспать с иным партнером, и не гнушается за предоставление помещения свою долю брать и со сводницы Песи-Миндл, и с ее барышень, и с их клиентов. И чего стоит честность любкиного сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью, лишь в выходные свои дни торгующего голубями со своей голубятни, если он согласился с функцией взимать деньги с клиентов барышень Песи-Миндл. Или как вам приятна такая склока: один клиент сбежал утром рано не расплатившись, так сторожем задержан приведший клиента - Цудечкис. И Любка требует деньги с него:
“Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть
.- Давись, арестантка,- сказал он и плюнул в угол.
Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор”.
Эта Любка, не в пример Бене, не страдает манией величия. Но до чего она груба! Помню, Катаев в повести “Белеет парус одинокий” описал, как Гаврик велел Пете сосать свой локоть... Так даже Гаврик понимал, что это - ужасное наказание. А эта Любка - индифферентна. Плевок Цудечкиса в угол ее комнаты, наверно, вообще ниже порога ее чувствительности.
Вы вжились, читатель? Зажмите нос и - дальше: это нужно Бабелю, чтоб - из мертвой воды в живую - заставить нас полюбить этих людей, все-таки людей, прекрасных в своей потенции (лотос растет из грязи незапятнанным).
А пока...
*
Не под стать ли Любке Баська из другого рассказа - “Отец” - “...исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета”. И не ущербно ли чувство чистоты у такой громадины, даже если она (переехав жить к отцу) настаивает на своей чистоплотности:
“- У вас невыносимый грязь, папаша, сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу,- но я выведу этот грязь,- прокричала Баська...”
А этот ущербный язык!.. Им особенно умиляются одесситы. Умиляются за местный колорит, еще сохранившийся через семьдесят лет унифицирующей, нивелирующей деятельности административно-командной системы в казарменном социализме. Здесь Одесса восхищает: и продержаться так долго, и массовым порядком выйти с уровня неосознающих свою низость басек и любок на уровень их автора, играющего стилями речи!
Для бабелевского цветистого стиля, для его тяги к экзотике “одесский язык” был, конечно же, как нельзя более кстати, подобно - в других рассказах - просторечиям, украинизмам, полонизмам, бюрократическим штампам (и все в корявом виде). И как художник Бабель любит яркую краску. За яркость.
Но вот что выражает эта яркость? Что выражает ее оттенок корявости? Выражаемое-то любит Бабель? Бабель, знавший много языков, говоривший и писавший рассказы на французском, человек большой и сложной культуры... - Не любит он корявость как таковую.
Он мог лишь жалеть своих низменных героев, чья низменность, в частности,- в случае с Баськой и вообще в случаях с одесскими евреями,- выражается в неумении овладеть в совершенстве языком страны, в которой живут.
Некультурность это. Ее я теперь очень хорошо понимаю, после национальной революции в Прибалтике, начав жить в Одессе после сорока лет жизни в Литве, где я так и не удосужился как следует усвоить литовский.
При всей любви к “одесскому языку” как к яркой краске относиться к его носителям Бабель мог лишь с любовной жалостью. Так любят ущербных.
“...- но я выведу этот грязь,- прокричала Баська и подала отцу ужинать.
Старик выпил водки из эмалированного чайника...”
Одно к одному.
Что я прав, что и один, и другой, и третий не понимают своего земляка, Бабеля, говорит такой, например, штрих в снятом Одесской киностудией по “Одесским рассказам” фильм “Искусство жить в Одессе” - этот штрих - использование для публичного дома дворца, просто дворца с мраморными колоннами вокруг круглого зала и мраморными лестницами. По сюжету фильма это якобы тот самый публичный дом, куда ехали налетчики мимо упомянутой только что приехавшей в Одессу и только что накормившей отца толстой Баськи. Таков публичный дом по Юнгвальд-Хилькевичу, режиссеру.
А теперь - как по Бабелю:
“...налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона”.
И все. На глухую улицу. А на глухих улицах Одессы нет дворцов. Улицы с дворцами не называют глухими, даже если они не сквозные. Я работал в Одессе в помещении, в котором до революции был фешенебельный (как по Хилькевичу) публичный дом. Он имеет-таки мраморные лестницы (с вензелем “1904”) и стоит на одной из главных улиц центра города. Но в нем при царе веселились, уверен, не евреи из Молдаванки, ибо они жили в условиях апартеида, во многом несмешивания с русскими. Бабель впрямую писал о еврейском гетто в Одессе. Гетто же предполагает не только территориальное, но и социальное обособление. А в уста Бени Крика Бабель в одном рассказе вложил такие слова: “Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтоб они мучились, как в аду?” Сам тот факт, что еврейских налетчиков изрядно-таки терпела полиция, говорит о том, что еврейские налетчики грабили среди богатых лишь евреев. А награбленное реализовать в антисемитской России, в Одессе с ее черносотенной думой - налетчики не шибко могли. Иметь деньги, которые, казалось бы, все могут,- и иметь препятствие в их трате - чем не ад для еврея-богача и еврея-налетчика.
Бабель имел основания жалеть и тех и других (наряду с бедняками). Но показать эту жалость в фильме означало бы понять Бабеля. Однако, где уж там для иного одессита признавать жалость к своим согражданам, хоть к части их, пусть и к части дореволюционной. Одесский патриотизм и одесское самолюбие пылает в груди простаков (а это значит - неодесситов в сущности). И вот Одесская киностудия бабелевскую жалость не принимает и потому не понимает. И - в “Искусстве жить в Одессе” изображается не потуга налетчиков на шик, а просто шик. И если - по фильму - налетчики едут в публичный дом, то - во дворец, а не на глухую улицу к Иоське Самуэльсону.
Архитектура киношного публичного дома столь выразительна, что выдает с головой неверное толкование “Одесских рассказов” гораздо очевиднее, чем любая другая деталь, например, вечерний туалет Баськи и налетчиков.
То ли дело - их наряды - по Бабелю: одно из самых явных свидетельств авторской жалости к ничтожествам.
“Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами... Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке...”
Это, кстати, - у каждого такое выражение лица и такая поза. Обезьяны не замечают своего обезьянничанья хороших манер - где уж им заметить перебор или шаблон.
“...одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты...”
Знаете, почему “в стальной руке”
?Потому что в протянутой. Тяжело так долго держать. Но чего не выдержишь для дурной картинности... И вот их руки как сталь.
Можно ли эффективнее, но без сатиры, уничтожить попугаев в глазах общественного мнения, попугаев, не ведающих, что они повторяют за людьми? Думаю, нельзя. Потому что, вдобавок ко всей процитированной только что авторской иронии, едет эта почти свадебная кавалькада в... публичный дом того Иоськи Самуэльсона.
Только не подумайте, что налетчики бросают вызов ханжескому общественному мнению, что они бунтари и занялись эпатажем мещанства.
Отнюдь.
Они мещаннее всех мещан и этим славны среди мещан. Они на полном серьезе хвастают. И если не всех пронимают...
“...Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии - они были ко всему равнодушны, старые еврейки...”
И если не всех налетчики пронимают, то без поклонников эти ухари тоже не остаются:
“... ко всему равнодушные, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки”.
Итак, попугаев, павлинов, колибри Бабель пригвоздил и - тут же спрятался, дав взгляд на них равнодушных и завистников.
Ему жаль всех-всех, не замечающих ничтожества своего. Тут не до сатиры и сарказма.
И потому, что не до сатиры и сарказма,- самые вопиющие ситуации окрашиваются неуловимой грустью.
Так, между кричащей пестрятиной баськиного вечернего туалета и пестрой, а ля свадебной демонстративной кавалькадой налетчиков, у Бабеля дана уместная яркость заката:
“Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и море было красное, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых...” и т. д.
Или вот - благородная чернота в природе перебивает (по тексту) моральную чернь: Любка Казак сватает Баську Бене, лежащему в одном из ее “номеров” со шлюхой Катюшей, и Беня соглашается подумать о сватовстве, а Фроим Грач, отец Баськи, за стеной “номера” ожидает его решения, то задремывая, то слушая страстный смех и стоны Катюши в объятиях Бени:
“Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно стал ночью, небо почернело и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады... Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла...”
Кто не был в Одессе, тот не знает, что с Молдаванки нельзя увидеть, как “сияющий глаз заката падает в море”, и услышать музыку с моря на Молдаванке тоже нельзя. Слишком она далека от моря. Это, впрочем, не беда. Писателю многое можно. Беда, что одесситы не замечают такой географической несуразности и не задумываются, зачем она Бабелю понадобилась.
А понадобилась она ему, чтобы смягчить ужас, который он живописует. Смягчить не ради любви к этим людям (любовь зла, полюбишь и козла), а смягчить ради веры, что они не потеряны для добра, для лучшего, для прекрасного.
*
Не верите? Давайте проверим на другом, так сказать, одесском рассказе, “Ди Грассо”.
Знаете, чем он заканчивается?
Вопрос “знаете?” не вполне риторический. Некоторые знают на память колоритнейшие, прямо крылатые фразы героев “Одесских рассказов” Бабеля. Я не от одного слышал, например, такую - из “Ди Грассо”:
“- Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь...”
О чем это? А это проняло несуразнейшую женщину,
“годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым сонливым личиком на краю”. Ее проняла история благородной страсти, представленная сицилианским трагиком ди Грассо в оперном театре, и она, это ничтожество (не величиной, а внешностью), захотела любви тоже. И я боюсь, что лишь смешную несуразицу - и во фразе и в ситуации - видят памятливые люди. Лишь несуразицу. А не взлет из грязи в князи одухотворенности.И разве не пронял ди Грассо и ее мужа, Колю Шварца, жулика “с всегда прищуренным глазом”, разве не проняло его, раз он оказался способным подчиниться духовно воспарившей жене и отдать мальчику (рассказчику) отнятые у того Колей золотые отцовские часы.
Да и сам мальчик, тоже жулик, театральный барышник, не оказался ли под возвышенным влиянием того же ди Грассо, раз вдруг увидел - как впервые - не просто красоту красивейшего уголка в Одессе (возле памятника Пушкину), а ее одухотворенность. Пейзажем, увиденным духовными очами, заканчивается “Ди Грассо”:
“- Что я имею от него,- безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц,- сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..
Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле,- затихшим и невыразимо прекрасным”.
Ничего, что здесь у Бабеля - городской пейзаж. Важно, что и прежде, и здесь пейзаж - символ высоких устремлений, к которым прорвутся, раз уже прорываются иногда, люди.
*
Такова же роль парижского городского пейзажа в рассказе “Улица Данте”. И этот рассказ тоже кончается пейзажем:
“Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.
Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену...”
Там - Пушкин, здесь - Дантон (описываемое в рассказе происходит в отеле “Дантон”). Пушкин - родоначальник современного типа русской литературы, Дантон - один из тех, чье имя освящено рождением Французской республики в Великой Французской революции.
А кто натолкнул рассказчика на столь возвышенное созерцание? В “Ди Грассо” - жулики и уроды телесные и духовные, оказавшиеся не чуждыми высокого. А в “Улице Данте”?
Мадемуазель Жермен, одна из тысяч, да что там - десятков тысяч женщин, которые годами, десятилетиями в назначенные им дни недели и в традиционные (для всех!) часы - с пяти до семи вечера приходят в отель “Дантон” посношаться со своими любовниками. Да как посношаться! Это ежедневно повторяемый мировой рекорд чувственности, не побиваемый никакими нациями. Бабель его насколько кратко, настолько ярко живописует, хоть материалом ему служит лишь то, что рассказчик слышит за досчатыми стенами. Герой же рассказа, Жан Бьеналь, прямо абсолютизирует:
“- Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу...”
И книгу... А ведь книга - квинтэссенция духа. Парадоксальное по полярности перечисление. Кто (?!) - способен на что!
И, как факт, мадемуазель Жермен убила из ревности Жана Бьеналя. Это в ХХ-то веке!.. Представительница такой практичной нации (совокупляются даже - по расписанию)...
И Жермен не исключение. Как к священнодействию относятся к убийству из ревности парижские женщины - эти жрицы богини любви (ничего, что с годами сами они стали внешне очень не похожи на эту богиню):
“В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобатого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах...
- Это любовь, сударь... Она любила его...
Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.
- L'amore,- как эхо сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте.- Бог наказывает тех, кто не знает любви...
Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Оспенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.
- Любовь,- наступая на меня, повторила мадам Трюффо,- это великое дело, любовь...”
Чем не одухотворенность.
А сам рассказчик, вспомнивший о Дантоне... Он-то сам каким низким типом выведен.
Рассказ идет от первого лица, и на третьей строке заявлено, что “я” приезжий и приехал, можно понять, вскорости после поражений Франции, которые она терпела в первой мировой войне от Германии. То есть “я” в рассказе ассоциируется с самим автором, Бабелем, гражданином СССР, дравшимся за советскую власть из высших побуждений. И вот этот “я” в рассказе без стеснения посещает в Париже публичные дома, намеревается предложить себя мадемуазель Жермен в любовники вместо только что давшего ей отставку Жана Бьеналя. Или вот как рассказчик реагирует на случайно открывшееся ему совращение несовершеннолетней девочки, к тому же, знакомой ему:
“В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель”.
Этот “я” не на улицу Сен-Мишель побежал, а ему нужно было сделать так, чтоб его хозяйка гостиничная, мадам Трюффо, могла избегнуть скандала с матерью девочки.
И вот этот тип, видя, что общественное мнение - за любовную месть, этот тип возвышается... до воспоминания о Дантоне.
Кстати, почему о Дантоне, чьим именем назван отель, а не о Данте, чьим именем названа улица?
Я уверен, что такое предпочтение Бабель сделал бессознательно. Тем не менее, оно глубоко многозначительно (ведь и подсознательное участвует в создании произведения искусства). Здесь я отвлекусь, но это будет очень полезно для понимания Бабеля.
В соответствии с представлениями о всемирно-исторических идейно-художественных колебаниях искусства от, вообще говоря, очарования неким идеалом через трагическое разочарование в нем и очарование идеалом противоположным, в котором тоже разочаровываются и успокаиваются на чем-то среднем, способном, тем не менее, тоже очаровать и тоже привести в конце концов к реакции, к противоположному, - в соответствии с такими вот воззрениями на диалектику развития искусства (утверждение - отрицание - отрицание отрицания, которое в чем-то похоже опять на утверждение), - в соответствии с этим я стал выписывать в тетрадь, в две колонки - левую и правую - оценки художниками и критиками себя и других художников разных времен и народов. Причем учитывая, что зачастую художник эволюционировал в течение жизни и, в результате, оказывался совсем не таким, каким был прежде (а иногда это случалось не раз с ним), у меня и в левой и в правой колонках оказались одни и те же имена, но с разным порядковым номером этапа своего развития.
Несколько примеров:
|
Шиллер (без номера, ибо прожил мало, а развивался медленно) |
Гете II (этот так долго жил, что и при медленном изменении на одном этапе не удержался) |
|
“... трибун человечества, провозвестник... страстный поклонник всего высокого, нравственного...” (Белинский) |
“...практический и исторический индифферентизм...” (Белинский) |
|
Писатели народники |
Чехов I |
|
“Серьезные бородатые народники в слащавых произведениях непрерывно поучали, обличали, наставляли”. (“Молодая гвардия” N1 - 85г.) |
“Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение - правда безусловная и честная. Литератор должен быть так же объективен, как химик, он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые”. (“Молодая гвардия” N1 - 85г.) |
|
Гиппиус |
Пришвин |
|
“Интеллигенция, которая летает под звездами”. (Пришвин) |
“Я очутился на земле. Увидев цветы вокруг себя, пахучую землю, людей здравого смысла, наконец, и самые недоступные мне звезды, я очень обрадовался”. (Пришвин) |
И так далее, и так далее. Слева у меня оказались: Пушкин I, Мицкевич, Мережковский, Байрон, Гоголь II, Тютчев, Баратынский, И. Бродский... Справа - Пушкин II, Петрарка, Толстой III.
Слева были такие пометки: “примат мысли”, справа - “примат чувства”, слева - “героическое, заоблачное”, справа - “обыденное, приземленное”, слева - “активность”, справа - “пассивность”.
И слева был Данте, а будь там Бабель, он бы оказался справа.
Только одно но. Слева была пометка: “Да здравствует сверхбудущее”, а справа: “Да здравствует настоящее”.
А как же быть с лозунгом “Да здравствует ближайшее будущее”, к которому явно причастен Бабель?
Приведенная схема, конечно же, чрезвычайно груба. Но и чрезвычайно плодотворна - как инструмент анализа. А проанализировать можно все, даже хаос - как утверждают теперь ученые, занимающиеся междисциплинарной наукой, называемой “симметрия структур”. Постепенно усложняя грубую схему, можно дойти до истины довольно близко.
Бабель - представитель вечно повторяющегося барокко, барокко, если за терминотворческий виток диалектической спирали развития искусства взять двухсотлетний кусок - высоковозрожденческое очарование человеком, маньеристское разочарование в нем и барочное соединение несоединимых очарования и разочарования. А в самом барокко, в общем-то, умиротворенном относительно высоких порывов Высокого с Поздним Возрождения и маньеризма, есть разные уклоны: полное удовлетворение действительностью, недовольство ее противоположными тенденциями (которые всегда паруются), а также упоение ими и, тем самым, невпадение в высокоодухотворенные крайности, наконец, уверенность в ближайшем будущем, которое, мол, найдет путь снятия напряжения между противоположностями. И вся эта номенклатура веками возрождается, когда возрождается эпоха барокко.
Нас с вами, читатель, будет интересовать как раз последняя разновидность барокко.
Его уверенность в будущем, как потом выясняется, всегда оказывается иллюзорной. Но сами художники, погруженные в свое время, этого не замечают и творят вполне искренне (те, кто искренни, о конъюнктурщиках я не хочу здесь говорить).
Вот и Бабель. В качестве писателя он выступил как трезвый человек, не поддающийся ни очарованиям, ни разочарованиям относительно революции. Но общая ось времени в начале ХХ века была направлена конфронтационно. И Бабель не остался в стороне. Его вера в будущее была связана все же с Октябрьской революцией. Поэтому его вера в человека на материале низменных парижских обывателей неминуемо отразилась в такой ассоциации, как ассоциация с Великой Французской революцией, по масштабу соотносящейся с Октябрьской.
Потому-то и оказывается, что рассказчик из “Улицы Данте” поселился в отеле “Дантон”. Дантон один из вождей Великой Французской. И вокруг его имени, а не Данте, развернул рассказчик свое лирическое отступление и пейзажную картинку в конце рассказа. Причем почему взят именно Дантон, а не Марат или Робеспьер, крайние левые, чьими историческими преемниками (в не Дантона) являлись большевики, с которыми сотрудничал Бабель? А потому, что Дантон был воплощением компромисса. Его прозвище было - Снисходительный. Таким, снисходительным, был и Бабель.
Кто-нибудь, может, скажет: а вдруг это просто Бабель, живя в Париже, действительно жил на улице и в отеле с такими названиями - Данте, Дантон - и перенес их в рассказ. Вдруг он просто соблазнился созвучием имен.
Нет. Не в том причина. Даже если б так в жизни и было. А было, похоже, как раз не так.
“Несколько месяцев он прожил,- пишет Эренбург,- в пригороде Парижа...” А по рассказу - из отеля “Дантон” видны улочки Латинского квартала. Это не пригород.Нет случайностей у такого художника как Бабель.
На что ж революционное, хоть и умеренное, в применении ко французским обывателям мог уповать Бабель? На идею мировой социалистической революции. Ведь сама Октябрьская революция была большевиками побуждаема и возглавляема в видах скорого наступления мировой революции. И хоть такая ставка в скором времени оказалась битой, и большевики отказались от экспорта революции, но стратегически безусловная надежда на окончательную победу социализма связывалась не с победой его в одной стране, а с победой его во всем мире. Поэтому через два года после выхода в свет “Улицы Данте” советские люди бросились помогать вспыхнувшей революции в Испании, поэтому воевали в Китае. Дантон в “Улице Данте” - отсвет этих настроений. А почти впрямую мечта об исторически скорой победе социализма на всей земле проявилась у Бабеля на десять лет раньше, в датированном 1924 годом рассказе “Ты проморгал, капитан!”.
*
Матросы: три китайца, два негра, малаец и англичанин -правдой или неправдой, но настояли на своем. Шестеро приняли участие в траурной демонстрации в Одессе по поводу похорон Ленина в Москве, а седьмой прикрывал их от капитана, не желавшего их отпускать с парохода. И они, целый интернационал, так же жалки в своей грубости, как и все бабелевские персонажи: метель, крепкий мороз, а на них, бесчувственных, развевающиеся пиджаки, резиновые сапоги, у них обуглившиеся лица, озябшие ладони, ободранные руки, боцман же - “колонна из красного мяса, поросшая красным волосом” (копия мистера Троттибэрна из “Любки Казак”).
И все-таки те “скорчившиеся запятые” и эта “колонна мяса” - одухотворены. Матросы - “ликовали ликованием [тавтология!] убежавших каторжников”, а боцман - “непроницаемый... как часовой в бурю”, часовой, защищающий цветных матросов. Боцман, правда, защищает и капитана. Но... До поры до времени сохраняется статус кво на Западе,- понимать надо. И опора буржуазного строя, средний класс, колонна-мясо-боцман, двусмысленно защищает капитана О'Нирна.
Оказалось, что насчет близкого будущего и большевики, и Бабель лично крупно ошиблись. Но тогда бабелевский рассказ кончался символом исторического оптимизма: “Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал - капитан”.
Да, есть, есть в барокко вариант искусства, созданного художником, верящим в более или менее близкое будущее. Сравните бабелевское сокровенное устремление с характеристикой одной из пружин барокко ХVII века в период контрреформации:
“порыв и пафос были так нужны и их уже так не хватало католицизму”.Надо ли говорить, как нужен был порыв и пафос после смерти Ленина, величайшего гаранта социалистической идеи.
*
Или “Конармия”. Она, конечно, не без автобиографичности. И кое-что в ней написано сразу между боями. И, конечно, вряд ли Бабель знал о предсказании Радека, что война будет проиграна. Но момент описания, по большому счету, выбран переломный: война с Польшей.
Совсем иначе, может, пошла б история в ХХ столетии, если б Советская Россия победила панскую Польшу и русская революция соединилась бы с германской. Если бы и не мировая, то почти мировая революция совершилась бы. Огромный потенциал западноевропейской культуры пополнил бы социализм. И не наше крайнее нетерпение бедняков влияло бы на мир, а немецкая обстоятельность...
Бабель, видно, чувствовал, что идея мировой революции на излете после поражения. А когда, собственно, и стала публиковаться и дописываться “Конармия” - это уже было очевидно. Но корень идеи оставался. И надежда - оставалась: не сейчас, так через десять лет, через двадцать лет пролетарии всех стран соединятся. Окружающий мир оставался конфронтационным, противоречие труда и капитала - антагонистическим, равновесие - потенциально неустойчивым, с тягой к революции против большинству ненавистного капитализма, действительно тогда очень несимпатичного. Было еще на что надеяться. И вот Бабель берет самых ужасных конармейцев (как ужасны его одесситы и парижане) и смягчает и смягчает их ужасность.
*
“Смерть Долгушова”. Первый друг рассказчика (а надо знать, что рассказчик в “Конармии” - очкастый, паршивенький с виду еврей-интеллигент, прототипом которого является сам Бабель), так вот, друг рассказчика, взводный Афонька Бида, за слюнтяйство рассказчика, своего же однополчанина, чуть не убил. Уже курок взвел. Выстрелить ему не дал другой. “Он от моей руки не уйдет...”- заключил инцидент Афонька.
Но ведь это сгоряча. Потом он остыл, не убил: рассказы длятся и длятся, и есть даже рассказ с названием “Афонька Бида”. А тогда... Тогда Афоньку можно было понять. Отступление. Дивизия рассеяна. Штаб исчез. Полк выбит из Бродов. Начдив Корочаев попал в опалу и будет смещен. Афоньке до слез, буквально до слез его жаль. А тут еще рассказчик отказался добить подвернувшегося умирающего Долгушова, телефониста. Не добил да еще напоминает, что не добил.
“- Патрон на меня надо стратить, сказал Долгушов.
Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.
- Наскочит шляхта - насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...
- Нет,- ответил я и дал коню шпоры.
Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...
- Бежишь?- пробормотал он, сползая.- Бежишь, гад...
Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката...
[Вот кто святой - кто не погнушается убить.]
...к нам скакал Афонька Бида.
- По малости чешем, закричал он весело.- Что у вас тут за ярмарка?
Я показал ему на Долгушова и отъехал.
Они говорили коротко,- я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.
- Афоня,- сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку,- а я вот не смог.
- Уйди,- ответил он бледнея,- убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...
И взвел курок”.
*
Очкарик - значит, интеллигент, да еще еврей - значит, сопляк; вероятно, может подвести в бою, и лучше сделать, чтоб его не было в части, сделать ему невыносимую жизнь, неуставные отношения, как сказали бы сейчас. И случай с Долгушовым как бы предвидят казаки, когда к штабному эскадрону прикомандировали рассказчика (рассказ “Мой первый гусь”). И потому казаки отнеслись к рассказчику плохо:
“Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки...
...Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в “Правде” речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали...”
И все безобразие оправдало себя потом хотя бы случаем с Долгушовым. А тогда... Тогда рассказчик сумел-таки обмануть казаков:
“- Хозяйка,- сказал я,- мне жрать надо...
Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуосмысленных глаз и опустила их снова.
- Товарищ,- сказала она,- от этих дел я желаю повеситься.
- Господа бога душу мать,- пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь,- толковать тут мне с вами...
И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе и крылья заходили над убитой птицей.
- Господа бога душу мать!- сказал я, копаясь в гусе саблей.- Изжарь мне его, хозяйка...
...- Парень нам подходящий,- сказал обо мне один...”
А он их обманул. Ибо сердце его, “обагренное убийством, скрипело и текло”. И фамилия его была обманная - Лютов.
Но лютость конармейцев была оправдана Бабелем.
*
Семен Курдюков, командир полка (рассказ “Письмо”), пользуясь своим положением, добился выдачи из тюрьмы своего отца, бывшего командира роты в деникинской армии, и устроил над ним самосуд: прогнал сквозь строй с плетьми и убил.
Противозаконно? Да. Но. За год до того этот отец лично убил другого своего сына, конармейца. Да как убил! Медленно резал его до темноты.
Оправдывал ли Бабель или рассказчик - судите сами. Но тот, с чьих слов (слов мальчика) переписал рассказчик письмо-описание, описание смерти отца и брата - тот мальчик оправдал командира полка без рассуждения. Кровь за кровь.
*
А убийство пленных польских офицеров эскадронным Труновым в рассказе “Эскадронный Трунов”... Даже, вероятно, не офицеров, а так - кто подвернулся... Убийство с такими натуралистическими подробностями, что чувствительного человека может затошнить...
Однако, и там есть устроенные Бабелем оправдания. Убийца Трунов был уже несколько невменяем от ранения. И лишь по всеобщей грубости и дикости не был отправлен в тыл.
“Трунов был уже ранен в голову, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее как дождь со скирды”.
После убийства первого пленного Трунов, от потери крови, видимо, вдруг упал на колени. Голова его соображала очень медленно, и он далеко отпустил Андрюшу Восьмилетова, стянувшего на его глазах с умирающего поляка штаны и уезжавшего с ними к обозу.
“Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед [будто тот мог услышать]
:- Андрей,- сказал эскадронный, глядя в землю,- Андрей,- повторил он не поднимая глаз от земли,- республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.
Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью. Лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахиваясь от нас.
- Измена!- пробормотал тогда Трунов и удивился.- Измена!- сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях”.
Вот он готов был и своего убить. Правда, за мародерство. Но без суда. Благо, тот был далеко и рысил. Зато через какое-то время он не промахнулся в пленного поблизости. Однако, по бабелевской воле, был он теперь еще более невменяем (хотя и соображал, сообразил же, что данный поляк более вероятно, что является офицером, чем первый убитый - больно кальсоны хороши были у этого второго):
“...в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра [он ведь услышал разговор о подозрительно хороших кальсонах и, значит, не мог утерпеть]. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды [второй раз такими же словами], грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки”.
Я выбирал текст для цитирования так, чтоб было видно, в каком состоянии, оправдывающем его, был Трунов. Я опустил все, что похоже на его вменяемость. Но можно и такие куски объяснить. Состояние его ухудшается волнами. Раз. И описывающий все рассказчик уже достаточно огрубел, чтоб не замечать нюансы. Два. Наконец, Бабель уже от себя лично применяет прием остранения - как обычное наивно описывает необычное: “мозги поляка посыпались мне на руки”... Почему бы иные действия умирающего не понять как действия здорового (вон и Долгушов, с вывороченными кишками, как здоровый передавал документ Биде).
“...мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.
- Вымарай одного,- сказал он, указывая на список.
- Не стану вымарывать,- ответил я.- Видно не для тебя приказы пишут, Павел...
- Вымарай одного!- повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.
- Не стану вымарывать!- закричал я изо всех сил.- Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...
- В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят,- ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму...”
Здесь все: и самооправдание Трунова, и осуждение его писателем, и прощение им же, потом. И - поразительная вдруг чуткость гибнущего:
“...охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком:
- Гуди, гуди,- сказал он.- Эвон еще и другой гудит...
И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывшие за сияющие лебединые облака”.
Раньше всех он, погибающий, заметил опасность. И знаете, почему такая красота - сияющие лебединые облака - и почему горькая усмешка у Трунова? Это он прощается с жизнью, решив дорого продать ее остаток. Остаток, потому что и без поединка с самолетами чувствует, что умирает (он пишет перед этим поединком: “Имея погибнуть сего числа...”
).Трунов спас четвертый эскадрон, вовремя заметив опасность (так уж сделал Бабель), и эскадрон успел спрятаться в лесу; Трунов спас двух пулеметчиков, отняв у них пулемет и прогнав в лес. Он новой кровью своей и смертью искупил кровь и смерть польских пленных. А Андрюшка Восьмилетов, оставшись с Труновым,- искупил свое мародерство - тоже своей смертью. Искупили. Искупил. Рассказчик прямо об этом сказал в первой части этого рассказа:
“...мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире...”
Смерть Трунова для рассказчика сняла с Трунова вину за убийство пленных. Это, правда, всего лишь позиция одного из участников боя, рассказчика, человека пристрастного. Однако и сам Бабель сумел - гораздо тактичнее сумел - выразить что-то подобное: обрамлением истории Трунова, почти одними и теми же словами:
“Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там, на торжественном месте - в общественном саду, в цветнике, посредине города”.
Имеет значение также и общая компоновка рассказа. Сначала мы узнаем, что Трунова похоронили как героя, а потом, что он убил пленных.
Сравните все это с политсводкой заместителя начальника политотдела Первой Конной армии Жилинского, отправленной в политотдел Юго-Западного фронта и Политуправление Реввоенсовета республики (теперь, в перестройку, этот документ получил, наконец, огласку):
“...сильно развит бандитизм, военнопленных раздевают донага, антисемитская агитация ведется почти открыто. Комсостав и политработники в большинстве не соответствуют своему назначению и с вышеуказанными явлениями борются слабо...”
И так далее - об одной дивизии за другой. Кошмар. И как доказательство правоты мнения Жилинского - спустя два месяца целую дивизию Конармии судили, организаторов грабежей и погромов расстреляли, саму дивизию расформировали.
Сравните это все с бабелевской “Конармией”, насквозь, явно или неявно наполненной смягчениями и верой в будущее. Правда ведь, Бабель-художник гораздо мягче Жилинского?
А Буденный, командующий Конармией, еще в претензии был к Бабелю, мол, исказил. И бывшие конармейцы, впоследствии, сердились. Ну, с вояк что возьмешь. Особенно с Буденного, самого, как выяснилось спустя десятилетия, повинного во многих беззакониях. Но как Фурманов не заметил оптимистического оттенка "Конармии"?! Он писал:
“...В показе суровых будней войны, повседневного быта Конармии, ее людей, писатель зачастую заострял свое внимание на всем том, что являлось еще наследием старого мира и не было определяющим для общего облика героической армии революции. Рисуя отдельные яркие и колоритные образы бойцов Первой Конной, отдавая должное их мужеству, героизму, бесстрашию, ненависти к старому, Бабель не подчеркнул организующего, сознательного начала в гражданской войне, не изобразил массы бойцов как единый, проникнутый сознанием высоких целей борьбы коллектив, не показал той огромной организаторской и воспитательной роли, которую играла в гражданской войне коммунистическая партия”.
Видно, мера трезвости, непредвзятости Бабеля была неприемлема для Фурманова и бабелевскую все-же-предвзятость-снисходительность к низости во имя будущего - он не увидел.
А я вот смею читателю указывать: смотри.
Можно, конечно, сказать: у Фурманова - очки с одним светофильтром, у вас, самодеятельный критик,- очки с другим светофильтром. Да и мы не знаем вас, а Фурманов - известен. Если уж тут такое тонкое дело, мы скорее Фурманову поверим, чем вам.
Однако, я призываю не к вере - мне или кому бы то ни было. Я призываю прочитавшему мой опус иметь в виду и мою точку зрения. И тогда, может, читая (или перечитывая) Бабеля, моя точка зрения в вашем мнении возобладает как более верная.
Но я признаю, что это труд души - в каждом рассказе понять главный его пафос, подчас очень и очень скрытый.
Налегая на искупающую ноту в “Конармии”, я взял рассказы, где наиболее явно (хоть все же и достаточно неявно) видны (по Фурманову) мужество, героизм, бесстрашие казаков, их ненависть к старому. Эта большая степень явности искупающего тона мне нужна (помните?) для подтверждения Снисходительности Бабеля в “Одесских” и других рассказах.
*
Я могу, конечно, в каждом рассказе из “Конармии” найти его Снисходительность.
Возьмем “Соль”.
Конармейцы изнасиловали двух женщин, мешочниц, спекулянток солью, отобранных из толпы мешочников на железной дороге и посаженных в вагон. Но не тронули конармейцы третью. Та мешок с солью закамуфлировала под грудного ребенка, которого, мол, везет с собой на свидание с мужем на фронт. Обман, однако, открылся. Так казак, ходатайствовавший не насиловать ее, не только ее скинул с поезда на ходу, но,- когда оказалось, что она не пострадала от падения,- застрелил ее.
Ну, за что можно к таким кадрам снизойти?
“...Балмашев простит [говорит казак обманщице]. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...”
Этот Балмашев прямо писатель доморощенный. Смотрите, как он мастерски, через повторы “оборотись...” нагнетает в себе злость. И читателя пытается накалить. И это не Бабель себя проявил. Это - тип. Народ-то талантлив. Да и форма рассказа (письмо Балмашева - это все: от первого до последнего слова рассказа) подтверждает мысль: Балмашев - литературный талант.
Зачем это Бабелю нужно было таким его сделать? - Чтоб мы не поверили балмашевскому красноречию, “убедительности”, как это назвали в нем казаки?
“...А вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, нечестная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают,- вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...”
Очень “убедительный” Балмашев, правда?
Только чего все-таки писать в газету? (Все письмо - это письмо в газету.) Чего? Виниться, чтоб оправдали? - Пожалуй. Совесть его, кажется, точит. Он (цитирую дальше) и слово-то соответствующее применяет - “признаю”
:“...И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос...”
Но ведь за ним еще бо`льшая вина. Он застрелил ее. Как он относительно этого факта проявил свою “убедительность”?
“...но она, как очень грубая
[раз], посидела, махнула юбками и пошла своей подлой [два - подлой] дорожкой. И увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганых девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются [ничего себе - перечисление], я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить...”Вы верите? Я верю. Поэты ведь до кликушества запросто доходят. Убогие - у Бога. Вдохновение до самозабвения. Причем, не на бумаге, а в жизни. У некоторых, по крайней мере. Иначе и на бумаге не выльется вдохновение.
“...Но казаки имели ко мне сожаление [пожалуйста, он уже сожаления достоин, а не осуждения] и сказали:
- Ударь ее из винта”.
Он не просто в состоянии невменяемости, мол, убил, но еще и по наущению, а не по внутреннему побуждению.
“...И сняв со стены верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли республики”.
А вам не кажется, читатель, что Балмашев потому еще раскипятился, что просто озлился: однополчане-то потешили себя с двумя другими девушками, а он, Балмашев, оказался рабом своего “благородства”. Да, “благородства”. Свою ж “убедительность” перед казаками он в чем с самого начала проявил? Убедил казаков не насиловать жену, едущую с ребенком(!) к мужу на фронт(!). Любовь, значит. И занесло его, Балмашева, настолько, что рисовался он перед этой женщиной всю ночь, а не как казаки - две минуты поиграли в вежливость, да и пошли насиловать двух других. Каково было Балмашеву терпеть? Да еще обманула его она. А судя по тому, как он пишет о насилии - как об обыденном - он не отличался от казаков.
Но человек устроен сложно. Тайные и стыдные мотивы он выталкивает в подсознание, а в сознании строит взамен вполне благопристойные резоны. Это все люди так устроены. Как бы низменны ни были некоторые. И не только Балмашеву нужно такое вытеснение. Казакам-насильникам - тоже. И потому, видно, они попросили Балмашева, своего краснобая, написать в редакцию фронтовой газеты, чтоб самоутвердиться:
“И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками... [изнасилованные-то - спекулянтки, подрывной элемент; насилование их - наказание, выходит, за измену Советам]... со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой”.
А редактор ни слова не прокомментировал. И Бабель тоже. Так что? Интеллигентный народ безмолвствует осуждающе?
То-то и оно, что этот народ, Бабель и его Лютов, безмолвствуют двусмысленно. Как двусмысленно капитана О'Нирна защищал боцман, стоя на палубе и провожая взглядом цветных, матросов, бегущих на траурное шествие в Одессе, синхронное с похоронами Ленина в Москве.
Да, двусмысленно молчание рассказчика и автора (ни слова нет в рассказе, кроме слов письма Балмашева). Двусмысленно. Потому что это объективная правда: и несказанная Расея, и отчаяние войны для мужчин и женщин, и гибель людей во множестве, и гибель морали. Правда это все объективная. И высказана она в рассказе так или иначе. И это - требование Бабеля: снизойти.
Тонко, но, уверен, верно.
Верно, но тонко. Поэтому, кстати, можно понять и такой поворот: во время перестройки с ее, казалось бы, тягой к справедливости, к истине, к правде, Коротич, его “Огонек”, привлекли Бабеля в союзники для... нет, не для снисходительного отношения к Первой Конной, а для надавливания на ее больные мозоли: бандитизм, антисемитизм, аморальность.
В одном из номеров “Огонька” за 1989 год опубликована “Соль”. С объявлением редакции, что впервые она публикуется без купюр. Как же: мода на бескупюрность.
Действительно, раньше кое-что не напечатали. “Как пострадавшие этой ночью”, - было напечатано раньше. А теперь: “Как пострадавшие от нас этой ночью”.
И правда, цензору раньше имело смысл слова “от нас” вычеркнуть.
Балмашев вообще-то здорово описал рассвет:
“По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах...”
На этом-то рассвете Балмашев проверил, ребенок ли у третьей женщины. О том, что насиловали двух других, речи нет. Большинство читателей пропускает мимо внимания пейзажные куски - зарю, например. Это вот большинство может не обратить внимания, как же именно пострадали две девицы. Вскользь же речь, когда они появляются в тексте. В конце рассказа, правда, сказано “поруганных девиц”. Так, может, кто-то их изнасиловал: еще до того, как они в вагон сели... В общем, не вполне ясно, виновны ли красноармейцы. Это, между прочим, лишний раз доказывает, что стыдное выталкивается из сознания казаков и, как следствие, из текста письма. Чудо в том, что цензорский легкий финт выталкивает и из сознания читателей (многих) факт насилования в вагоне девиц красноармейцами. Да-да. Можно в упор не видеть. Бывает. Так, когда я прочел рассказ в “Огоньке”, я никак не мог вспомнить, а как же в прежней редакции: изнасиловали казаки девиц или нет. То есть цензору было-таки зачем вычеркивать два слова “от нас”. Цензор тем обелял конармейцев перед невнимательным и невзыскательным читателем, каким, увы, был и я прежний.
С расчетом на таких же любителей изящной словесности вычеркнуты были все упоминания о Ленине и Троцком (они подчеркнуты здесь у меня, при цитировании):
“- Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете.
- За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягивают они нас - Ленин и Троцкий на вольную дорогу жизни. А вы, гнусная гражданка...”
Ну, я, положим, не обиделся б на казаков, счевших Ленина евреем, а еврея Троцкого - сыном царского губернатора, то есть точно не евреем. Но иной антисемит, может, и обиделся б. И такую обиду прежнему цензору надо было предотвратить. Перед таким - казаков надо было обелить.
Но редакция “Огонька” не мотивы, двигавшие цензором, стремилась высветить. Ей детище ненавистных ей Буденного и Ворошилова нужно было опорочить - Конармию.
И она этого добилась. В обрамлении других рассказов из цикла “Конармия” еще был некоторый шанс, чтоб “Соль” не затушевала замечаемое еще Фурмановым мужество, героизм, бесстрашие конармейцев. Вырванная же из контекста всего цикла, “Соль”, конечно, имела мало шансов в читателях “Огонька” возбудить великое Снисхождение Бабеля.
Низкопробная тенденциозная затея двигала “Огоньком”.
Но о выпаде “Огонька” было лишь кстати рассказано здесь. Главное, что, я надеюсь, на примере “Конармии” я еще раз доказал, что Бабель был не лишен политических иллюзий относительно исторически скорого наступления коммунизма (что вообще-то являлось мировоззренческой предпосылкой для барочного типа искусства в остроконфронтационной первой половине ХХ века
).*
Одно, уверен, очень темное для многих место хочу я осветить и своей интерпретацией еще и еще раз доказать: Бабель снисходителен не без политического резона.
На политизацию искусства сейчас, в перестройку, очень ругаются некоторые. Не модна. Даешь деидеологизацию.
Я мельком прочел когда-то, кажется, у академика Спиркина, что самая сильная идеология в ХХ веке - марксистская. Поэтому, мол, требования деидеологизации своим острием направлены против нее. То есть эти требования - буржуазны.
Очень в конфронтационном духе заявлено было.
Но как ни модна сейчас деидеологизация (антимарксистская), я принять деидеологизацию в критике литературной не могу. Ибо анализирую не прикладное искусство, а идеологическое. Все неприкладное ведь - идеологическое. Хотя бы потому, что имеет отношение к идеалу. Так что в критике без борьбы идей - никак, а следовательно, не может быть неконфронтационной критики, если она не болтовня.
Глубокая сокрытость политического резона у Бабеля, его тенденциозности, могла бы примирить с ним нынешних модников, а, может, и со мной (хотя меня вряд ли опубликуют - за якобы вульгарный социологизм).
Так или иначе, давайте разберем, чем кончается рассказ “Гюи де Мопассан”.
Но сперва стоит, может, напомнить, в чем главная интрига рассказа.
Рассказчик стал сотрудничать с богатой меценаткой, еврейкой, Раисой Бендерской, и переводить на русский классика французской литературы, писавшего в стиле реализма (с элементами натурализма). И вот, блистая талантом переводчика, рассказчик так взволновал Раису мопассановским рассказом о том, как мопассановский извозчик Полит соблазнил крестьянку Селесту прямо в едущей повозке, что соблазнить рассказчику бабелевскому удалось саму меценатку.
Рассказ Бабеля кончается тем, что счастливый переводчик, вернувшись домой после любовного приключения, принимается читать Эдуарда де Мениаля - “О жизни и творчестве Гюи де Мопассана” и кратко пересказывает пикантную подробность о Мопассане, что тот был болен наследственным сифилисом, страдал головными болями и припадками ипохондрии, попал в сумасшедший дом. Дальше цитирую:
“Он ползал там на четвереньках... Последняя надпись в его скорбном листе [в истории болезни, что ли?] гласит:
“Monsieur de Maupassant va s'animaiser” (“Господин Мопассан превратился в животное”). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.
Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестье истины коснулось меня”.
Какой истины, а? Такой конец рассказа “Гюи де Мопассан” это хороший или плохой конец?
На всемирно-исторической Синусоиде идейно-художественных стилей искусства, которую я непрерывно иллюстрирую - на сей раз Бабелем - стиль натурализма расположен внизу, как и барокко, как и стиль самого Бабеля. Поэтому я вполне понимаю Илью Эренбурга:
“О той любви, которую старые католики назвали “плотской”, а современные пуритане “животной”, Бабель писал откровенно, без лицемерной стыдливости. “Угрюмый тусклый огнь желанья”, о котором говорил Тютчев, привлекал к себе Бабеля, потому что этот огонь всегда освещает не маску человека, а его лицо. Любовь Бабеля к Мопассану не может быть отнесена к писательской манере французского автора... Мопассана он обожал и не раз при мне горячо спорил с теми французскими писателями, которые не разделяли его любви к автору “Милого друга”. Ценил он Мопассана за то, что тот показал силу любви; ценил его непосредственность: “Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть - все знает: громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают - это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной зноем дороге. Вот и все” ”.
Цитата внутри цитаты из Эренбурга, видно, слова самого Бабеля, сказанные Эренбургу.
Однако, позвольте заявить известный методологический принцип: наиболее полно писатель самовыражается в своем произведении, а не в остальной жизни.
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...
Так-то вот у некоторых... Да и у того, кто жизнь свою строит под стать своему искусству, главнее всего для нас не его жизнь, а его произведения. В них для нас он исполнился. А в остальной его жизни - обязательно есть что-то и не для нас, а для него, для друга, для семьи. Но не для нас.
Поэтому позвольте воздержаться от абсолютного согласия и с только любовным отношением к Мопассану Бабеля самого (в его словах Эренбургу) и Бабеля во мнении Эренбурга.
Натурализм это начало декадентства, это убегание от горестной и бездуховной жизни. Куда? В немедленное удовольствие? В какое угодно? В апологию животности? - Пусть! Хоть что это за идеал?.. Пусть! От безиллюзорности это. От трезвости, от непредвзятости и от слепоты, невидения, что идеалы кто-то еще исповедует. По принципу: “Это нехорошо быть животным?” - “Да, нехорошо. Но иначе и не бывает, вроде”.
А Бабель, в пику натурализму (и Мопассану), верил, что нехорошее - временно, что грядет вот мировая революция, коммунизм - и станет лучше.
Что ж в качестве нелучшего предстает перед рассказчиком в “Гюи де Мопассане”, когда тот, в конце, подошел к окну, за которым туман “скрыл вселенную”? Что? Ведь герой, беспаспортный еврей без права жительства в Петербурге, только что покрыл женщину из почти высшего света, муж которой был близок к самому Распутину...
“В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: “А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?” - она ответила, потупив глаза: “Я к вашим услугам, мсье Полит...”
Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...
Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...
Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.
- Mon vieux, за Мопассана...
- А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...
Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.
- Вы забавный,- сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.
Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.
- Потрудитесь сесть, мсье Полит...
Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда спотыкаясь.
Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.
- Вы забавный,- прорычала Раиса”.
Это она его покрыла, а не он ее. Потому и рычала, что хищница, и бросилась. Это он лежал на двадцати девяти томах и бутылке муската на ковре, а не она. И потому наоборот поставлены предложения: сначала “ночь подложила под голодную мою юность двадцать девять книг”, а потом “я вскочил... задел полку. Двадцать девять томов обрушились...”
Получается по Бабелю, что нелучшее, открывшееся перед рассказчиком - это страсть, страсть, которая еще не любовь, хоть и очень сильное чувство, все крушащее и взрывающееся, как петарда.
И, выходит, это нелучшее - как сифилис Мопассана, как его сумасшествие и превращение в животное на четвереньках.
Предвестие истины... Истины, что путь Мопассана в искусстве - гибельный путь.
И потому не натуралистично, образно у Бабеля изображены интимные моменты.
А у Мопассана хоть тоже соитие не без образа - освободившаяся от воли кучера кобыла, но есть зато и буквальность: покрикивания Полита кобыле перед собой и Селесте под собой:
“Но-о-о, Малютка! Но-о-о, Малютка!”
Вот это и есть хваленая Эренбургом непосредственность переживания, культивируемая Мопассаном.
Остается, правда, заминка: а какое отношение к такой непосредственности Полита у самого Мопассана?- Да положительное. По крайней мере, Мопассан Политу не придал ни капли селестиного лицемерия: тот - о чем хочет, о том думает, что думает, то и говорит, торгует Селесту без обмана и не обманываясь: той нужно сэкономить на поездке, ему - позабавиться. Он, каков он есть,- в полной гармонии с миром, каким тот ему кажется: ни очарований, ни разочарований:
“- Как вам будет угодно, господин Полит.
Он нисколько не удивился и, перешагнув через заднюю скамейку, довольный, пробормотал:
- Ну вот и хорошо. Я ведь знал, что так и будет”.
Вряд ли для Полита имело значение, что Селеста долго ломалась. Простой парень. И у Мопассана для него не нашлось плохого слова (за исключением “брюшка”, да и то это слово ласковое, уменьшительное).
А вот Селесту и ее мать, за заигрывание с чем-то околоморальным, Мопассан наградил несимпатичными чертами характера: жадностью, продажностью, рассудочностью, хитростью и - просчетом-возмездием-расчетливым-людям: нежелательной беременностью, слезами, побоями, перспективой дурной славы.
Полит по сравнению с этими чертовками - чистое дитя природы.
Но Бабель не был бы представителем вечного барокко, если б половую страсть без любви не ценил саму по себе тоже достаточно высоко. И потому с ней соотносит рассказчик (и, я думаю, Бабель тоже) не только мопассановские “петарды”, но и мопассановский “гений”
.Соотнесена, впрочем, с половой страстью и мопассановская “жалость”
...Что за жалость? Это Мопассан жалеет своих героев? За что? За животность, что ли? Нет: правда?
Рассказчик у Бабеля явно сочувствует образу автора в творчестве Мопассана:
“...двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью...”
Однако, есть ли в сюжете мопассановского “Признания” то, за что бы можно было пожалеть Полита или Селесту?
Чтоб ответить серьезно, нужно разбирать сам рассказ Мопассана или все двадцать девять его томов. Но этого не нужно.
Ибо мопассановский рассказ неким образом представлен в рассказе самого Бабеля. И важно, в конце концов, как один представлен в другом. И жалости к своим героям не видно, по Бабелю.
Зато текст Бабеля по праву художественности (т.е. свободы), по логике ассоциации позволяет сказать, что объективно несуществующая жалость в двадцати девяти томах Мопассана это существующая жалость в творчестве Бабеля к его жалким героям. А уж тут - есть кого жалеть. И за что. И разбираемый рассказ не исключение.
Рассказчик жалеет Раису - за жизнь с некрасивым и нелюбимым мужем:
“Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем”.
Раиса пожалела рассказчика (его детство, его голодную - в прямом и переносном смысле - юность).
“Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачный, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал”.
В общем, относительно жалости, наверное, так: Бабель ценил-таки и страсть без любви, но, в пику Мопассану-натуралисту, в ней видел еще и нечто к любви стремящееся (сама жалость - не
любовь ли своеобразная?). И вот - рассказ о сексуальном приключении осложнен не только отрицанием, но и тенденцией к утверждению, снисхождением, одним словом.Рассказ опубликован в 1932 году,
а описывает 1916-й, время дореволюционное. И если революция - время надежд для поднимающих ее, а конец 20-х - 30-е годы - время ее продолжения (что в иллюзорном направлении - то другой разговор, но - продолжение революции), то даты эти - 1932 и 1916 - через политику (смею заявить) государства, искренне разделяемую художником, эти даты уже сами по себе являются элементом произведения, объясняющим исторический оптимизм его создателя.И такие же элементы
- время изображаемое и время создания или издания (в соотношении друг с другом) - такую же оптимистическую роль играют и в “Одесских рассказах”, и в “Конармии”.Я вообще считаю дату создания (издания) произведения и воссоздаваемое время - полноправными деталями, как заглавие, как эпиграф, которые
вполне можно анализировать с точки зрения идейного смысла произведения или периода творчества. Правда, такая точка зрения не распространена: редко где дата создания (первого издания) пишется. Редка она у издателей, редка во внимании у читателей. Потому я посмел к ней прибегнуть лишь сейчас, после демонстрации массы доказательств на других деталях снисходительности как пафоса творчества Бабеля.*
Тут же даю повод строгому читателю
усомниться в моей правоте относительно дат (а заодно, и насчет Снисходительности Бабеля).Рассказ “Конец богадельни”
датирован Бабелем 1920-1929 годами, опубликован в 1932, а рассказ этот - произведение не исторического оптимиста, хоть и может создать иллюзию оптимизма.Я сделал такой эксперимент: спросил
человека, читавшего Бабеля давно и забывшего его основательно: “Помнишь рассказ “Конец богадельни”?" - “Что-то о каких-то противных евреях”,- последовал ответ.Действительно, как и всегда у Бабеля, персонажи его ужасны. Доба-Лея, усатая старуха с
львиным лицом, рыдающая басом; парализованный Симон-Вольф с малиновой, раздутой головой; тощий Меер Бесконечный с истлевшими щеками и голубыми плетьми рук; свист удушья, хрипение, скрип тележек парализованных... Но это еще куда бы ни шло. Так эти физические ублюдки во время голода в Одессе проявили себя как ублюдки моральные: спекулируя на чувствах родственников, теряющих своих близких, они сдавали напрокат гроб и драли такую цену, что не только вдоволь ело целых тридцать человек, но они еще и пьянствовали напоказ; и не только пьянствовали напоказ, но и высокомерно подавали голодным объедки. Воплощенное проявление мировоззрения угнетателей в то время, когда угнетателей в масштабе страны революция скинула. А когда лишились они незаконного (по временам военного коммунизма - незаконного) приработка, у них хватило наглости, не обращая внимания на голод вокруг, бунтовать против скудости суточного пайка на том основании, что (процитирую): “Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели”.Можно, конечно, снизойти, мол, от голода они здравый смысл утеряли и пилят сук, на котором сидят. Можно снизойти, что в первые годы после революции нельзя, мол, ждать, что старые люди изменят психологию, складывавшуюся в обществе угнетателей и угнетенных. И можно, конечно, думать, что голод не вечен и вообще все образуется, а что плохо, то временно плохо. И даже чрезмерную кару, постигшую противных пациентов богадельни, можно бы списать на жестокое время и вывести, в итоге, оптимизм в отношении будущего.
Вот только нет этого будущего у богадельщиков. Конец - не только богадельне, но и им. Ведь ясно, что старикам и калекам на голодном пайке еще и работать - это умереть через несколько дней. А это уже слишком, как бы мерзки они ни были. Никто не в праве распоряжаться жизнью и смертью другого, если распоряжающийся - не командир в боевой обстановке.
Даже Трунов убивал пленных, умирая сам. Даже Курдюков убил отца не в силах не отомстить за изуверское убийство отцом брата Курдюкова. И там, в рассказах, между этими казаками и автором стояли: рассказчик (в первом случае) и (во втором случае) мальчик, диктующий письмо рассказчику и рассказчик.
А тут рассказчика нет. Автор непосредственно (без ничьего опосредования) описывает Бройдина, заведующего кладбищем и богадельней, этого практически убийцу призреваемых, убийцу не из кровной мести, не по невменяемости смертельно раненного, а из амбиции: как это - бунтовать против его власти, не советской власти, а именно его власти.
“- Есть люди,- ничего не слыша, гремел Бройдин,- которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне,- я интересуюсь это знать,- есть у нас советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся,- тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я работал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...
...Арье-Лейб молчал...”
Молчал, ибо Бройдин не тождественен власти.
Или вот, заменив калек, обмывающих мертвых, одной здоровой теткой, он говорит тетке и заодно Арье-Лейбу, старосте богадельни (которую Бройдин из мести за бунт закрыл на якобы ремонт):
“- Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь,- мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок,- со мной можно ладить... Со мной можно ладить, повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу,- не надо только плевать мне в кашу...”
Ему в кашу.
Ту еще кашу начали заваривать в стране чиновники бройдины в 1920 году. Раздули бюрократический аппарат... Заведующий комхозом, заведующий отделом благоустройства, заведующий кладбищем. Кому они нужны? Что они делают - бугаи? Ездят осматривать владения да распределяют должности и продукты, не забывая в первую очередь себя: краги, новый френч, отложная лошадь в голод! Ее ж кормить нужно было всю зиму. Чем? Овсом? Не сеном же годичной давности (дело происходит весной, цветут каштаны). Лучше б эту лошадь и овес для нее съесть, чем тратиться на ее содержание, чтоб начальство могло разъезжать со своими бессмысленными осмотрами.
Не то - призреваемые: голод везде, мор повальный, верующие вокруг, покойников и отпеть надо, и обмыть, и обрядить (человек человеком почти всегда остается) - и богадельщики удовлетворяли такой спрос и не зря ели свою пустую похлебку.
Так нет, разогнать их. И нищих - прогнать от ограды кладбищенской. А ведь и те служат - объектом, на который изливается душа, на кладбище остро переживающая жалость и человечность.
Зато чиновники - бесчеловечны. Причем, не исключено, что тем более, чем более они были бесправны до революции.
Бройдин... Фараон - так называет заведующего кладбищем верующий староста богадельни, и надо понимать, что такое был египетский плен для библейских иудеев, чтоб оценить это прозвище. И фараон оправдал его. Вероломен - обещает, но не исполняет; садист. Человеку больно, если перед изгнанием его приголубят. Бройдин сделал и то и другое:
“На следующий день [после бунта] старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу...
[Значит, был запас. Не вокруг него ли разбухала начальственная номенклатура, и не от этого ли запаса лица начальников не обратили на себя внимание автора, тогда как лица призреваемых - обратили: тощие, опухшие от голода?..]
... мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла “Кармен”. Впервые в жизни инвалиды и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем раздали бутерброды с ливерной колбасой...
[Значит, и в Соцобесе тоже были запасы, до того вечера не доходившие до инвалидов и уродцев.]
...с ливерной колбасой.
На кладбище стариков отвезли на военном грузовике... Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости...”
А наутро богадельню закрыли на ремонт и призреваемых отправили на перерегистрацию по трудовому признаку.
Сбылось предвиденье Арье-Лейба: “Мы мертвые люди, мы у фараона в руках”. Сбылась угроза Бройдина: “Вы будете мертвыми людьми...”
А все из-за чего? Из-за нового неравенства при новой власти.
Достойный человек, Герш Луговой, комендант гарнизона, подпольщик с 1911 года, преследуемый и наказываемый царской охранкой с 1913, и вот убит восставшими немецкими колонистами. Достойный. Но разве смели реквизировать для его тела коллективную собственность богадельщиков - гроб, который кормил 30 человек (хоронили на еврейском кладбище по религиозному обычаю не в гробу, в саване, а в гробу покойник был лишь дома и на панихиде). Разве не прав был контуженый Федька Степун:
“Подавили царей, нету царей... Всем без гробов лежать...”
Несправедливость Бабелем, конечно, смягчена: во-первых, не уговаривались, как будут хоронить Лугового, во-вторых, не вываливать же было достойного человека и атеиста, вероятнее всего, из гроба при войсках, в которых большинство - не евреи и не поняли б, почему Герша вываливают из гроба. Смягчено голодом в стране жалкое существование богадельщиков. Еле-еле проступает бюрократическая угроза как таковая. И обречение богадельщиков на гибель - не буквальное: ремонт богадельни, перерегистрация по трудовому признаку это не сабля в горло и не пуля в мозг. Все на полутонах.
Только нет никаких полутонов в концовке рассказа, опять пейзажной.
“Высокая лошадь несла к городу его [заведующего комхозом] и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.
Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безжизненному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу”.
*
И чтоб меня не упрекали, что я был пристрастно дотошен, доказывая снисходительность и оптимизм Бабеля в большинстве рассказов, я продемонстрирую дотошность в доказательстве пессимизма Бабеля еще в одном рассказе - “Нефть”. 1937 год.
Пейзажная концовка его куда как бравурна (это конец письма):
“...Как твои дела?
Клавдия....Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...
- Вот она, когда сражения пошла,- он мне говорит.- Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...
Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...”
А теперь обратите внимание: как и в случае с “Солью”, “Нефть” целиком представляет собой письмо. Письмо некой Клавдии, управделами Нефтесиндиката.
А как автор-то относится к ее оптимизму? Это ж не авторскими глазами видится “московский фронт”...
Надо вникнуть, что по воле автора представляет собой эта управделами и как ее обрисовывает Бабель.
Сначала - как обрисовывает.
Эренбург выделил этот рассказ: “По прекрасному рассказу “Нефть” мы можем догадаться, какими бы были последующие произведения Бабеля”.
Что он имел в виду?
“В начале тридцатых годов в творчестве Бабеля наметился перелом: он начал искать тот путь, по которому пошел Гоголь после украинских рассказов. Он часто говорил, что нужна большая простота”.
Вот уж, что правда, то правда: побледнели человеческие типы в “Нефти” по сравнению с “Одесскими рассказами” и “Конармией”. Вспомните Афоньку Биду, Балмашева, Трунова, Любку Казак, Беню Крика... Вспомните, какой язык там: жаргон, акцент, просторечия...
А здесь - все чинно, грамотно.
Там ужаснейшие типы, а такие сочные, что как их автору и читателю не любить хотя б за сочность. Даже самых противных.
А здесь, Клавдия, изрядно положительная: горит на работе, по-настоящему сочувствует беременной и брошенной по этому поводу подруге, Зинаиде, сочувствует старику, профессору Клоссовскому, не вписывающемуся в героику великой индустриализации 30-х годов.
Положительная, а жутко, если вдуматься (вдуматься, впрочем, мы, большинство, заимели возможность лишь теперь, спустя полвека). Это по воле таких вот недалеких клавдий воплощаются в жизнь ударные пятилетки, одна за другой, выматывая силу народа и земли. Я думаю, что, может, не вполне сознавая Бабель пошел к несочному письму, но - от виденья, как выжимают жизненные соки из народа.
Я процитирую прямые указания на это соковыжимание, но вы, читатель, обратите внимание на бедность языка и поверьте пока, что дело не в том, что это, мол, пишет управделами:
“На проектирование Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу - и снова трубят...”
“Мне 65 лет [цифрами написано], Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все - бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой,- ну, вы знаете с чем - с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе...”
“Ты бы, Даша, “черта” не узнала - он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером - переводы”.
Просматривается в рассказе и еще одна причина обесцвечивания языка: нивелирование личностей слишком обобществленной жизнью. Она уже похожа несколько на мир “Приглашения на казнь” Набокова. Так, Клавдия (она замужем за “чертом”) по-видимому имеет (имела до недавнего времени) любовника
: “Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в “заграничном”, начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала”.Пишет это Клавдия подруге Даше. Не скрывает. Пишет, видно, о Шабсовиче не первый раз.
Ну, ладно. Подруга. Но знает явно и жена Шабсовича. И знают наушники, которых, похоже, масса:
“Увиделись мы два дня тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять - его или советскую власть?.. [В смысле, что выше: общественное или личное - выгода стране от освоения крекинга или личная выгода от вознаграждения “заграничным”?] Он понял, вильнул, сказал: “Звоните”... Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера - звонок: “Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья...” ”
Я могу думать, что супруга понимает, что из-за размолвки ее с ее Шабсовичем Клавдюша заграничное белье от него не получит, и это несправедливо.
Обобществление интимного, правда?
Или вот: Роза Михайловна. “Она у нас по-прежнему по этим делам придворная”,- пишет Даше Клавдия. Речь об аборте Зинаиды.
Значит, вопросы абортов тоже являются предметом беззастенчивой общественной заботы. А что значит “придворная”? Речь о дворе Нефтесиндиката? Роза Михайловна обслуживает женщин этого учреждения, так? Или это вынужденная коммунальность - из-за запрещения абортов (было и такое нивелирование личности в 30-е годы)?
Или вот: “- Зинаида родит,- я ему говорю [“черту”, своему мужу],- как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет.) - Решили - Иваном,- Юрии и Леониды надоели..." Это ей-ей не шутливый разговор (он идет в присутствии Зинаиды), а иррадиация духа собраний в личную жизнь: слушали - решили. Большинством голосов. С подавлением большинством меньшинства. С подавлением разномыслия.
Вот этот-то тоталитаризм, органами которого являлись миллионы клавдий, и устрашает. Авантюрный расчет на мировую революцию привел за собой авантюрность инженерно-экономическую. Быть может, греша против правдивости Бабель вложил в письмо женщины к женщине аргументацию профессора Клоссовского против авантюрного планирования. Речь о “решении ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн [числа опять арабскими, не словами]”:
“...слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последующем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено...”
И, если все же вовлечься в эту сухомятку, чем же побила профессора канцеляристка Клавдия, так и не поступившая в Промакадемию:
“Я выступила, говорила сорок минут...
[Глоткой, значит.]
...мы отвергаем фетишизм цифр...
[Голословностью, значит.]
...- Отвергаем таблицу умножения как правило государственной мудрости...
[Краснобайством, значит, комчванством.]
...На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?..
[Какой ценой - не важно.]”
И вот она и ей подобные “молодые инженеры из типа “всеядных” ” поставили профессора на колени.
Не жутко ли? И только ли субъективность - в хвастовстве Клавдюши-канцеляристки подруге Даше?
“... кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом...”
Не жуткий ли подголосок звучит в завершающем письмо, уже цитированном пейзаже-какофонии перекореженной Москвы, Варварской площади?.. Случайно ли название самой площади - Варварская?..
А яркость, былая бабелевская яркость парня (“Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии”)... забытое просторечие (“- Вот она, когда сражения пошла”)?.. Что это? Это эхо прежнего оптимизма относительно будущего. Эхо. А вообще рассказ это не живопись, а бледнопись.
Усомнился Бабель. И именно сомнение довело его от еще яркости “Конца богадельни” (там было кого жалеть: тех, в чье будущее он верил было) - до бледности “Нефти” (в победителях он очень и очень сомневался).
И я не согласен тут с Эренбургом. Бледная “Нефть” не нравится мне и, думаю, небезосновательно. Нет знаменитого противочувствия по Выготскому (не буду здесь о нем). Когда Бабель верил в ужасных (вдумайтесь: верил - в ужасных), противочувствие было. Когда снисходил к ужасным, жалел ужасных - было. А когда усомнился в хороших... Сомнение в давешней иллюзии - как и утрата идеала - к художественности не возносит.
Кстати, сравните, как Набоков живописал, любовно, подробно, ярко - ужасных (“Приглашение на казнь”). А он ведь с яростью отвергал душой предмет своего описания (когда этим предметом была мерзкая действительность, а не сны наяву о мечте). В чем дело? Как объяснить любовность описания мерзкого и любовность описания прекрасного?
Вспомните гиперреализм те, кто его знает. Его одухотворяла ненависть к вещизму, к вещам, порабощающим человека, убивающим его. Поэтому художники гиперреалисты рисовали вещи с такой подробностью и живостью, что это... ужасало.
Так и Набоков.
А Бабель в “Нефти” еще только стал сомневаться. Ему еще было далеко до яростного отвергания, чтоб ярость эту воплощать в яркости.
*
Теперь разберемся со строгим читателем, как же мог Бабель в одно и то же время быть и сомневающимся и снисходительным.
Есть такой прием: считать одни произведения данного времени характерными, другие - нехарактерными. Мне не очень нравится такой прием. Эклектика какая-то. Другое дело, если проанализировать пусть даже хаос, найти логику каждого из не согласующихся друг с другом проявлений.
Бабель снисходительный, оптимистический это вполне пресловутый, как теперь ругаются, социалистический реалист. А социалистический реализм это искусство, видящее в настоящем ростки лучшего будущего. Однако, достаточно убрать из этого определения слово “лучшего”, как метод оказывается более широким. Это не реализм. Это провидческий, так сказать, реализм. А уж хорошее там в будущем или плохое - зависит от тенденций настоящего. В настоящем же есть разные, в том числе противоположные тенденции. И дело Бабеля видеть их все. И он их видит - все. Ибо трезв.
Поэтому в пейзажных, возвышающих их, кусках бабелевских рассказов затесываются и низкие детали или сниженные слова.
Вспомните сияющий глаз заката на баськиной Дальницкой улице: “Вечер шатался мимо лавочки”. Шатался.
Вернитесь к цитате о волшебном вечере со звездами в небе и музыкой с моря, доносившейся до Фроима Грача, поджидавшего выхода Бени Крика из комнаты Кати. Там троеточие есть между “небом” и “музыкой”. Вот что заменяет это троеточие:
“Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи”.
Взгляните на пейзажную концовку в “Ди Грассо”. Она дана от имени мальчика, сжимающего часы, только что возвращенные ему. А мальчик-то их украл. У отца.
Да и около цитировавшегося парижского пейзажа в "Улице Данте" такие фразы: до -
“на истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов”; после - “...строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание [чесночное] восходило к нему [к Дантону]. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов”.И т. д.
Так что: обманул я читателя?
Да нет же. Трезв-то трезв был Бабель, видеть-то видел все. Но и оптимистический дух преобладал для очень и очень многих после Октябрьской революции в России и для многих - за ее пределами. Что было, то было. И оптимизм этот для довольно многих задержался и до 1937 года (года последних прижизненных публикаций Бабеля), и надолго после этого года. Что было, то было. И Бабель был-таки подвержен иллюзии.
Другое дело, что он зрячести от этого не терял и от зловещих признаков впадал иногда в сомнение, как в “Конце богадельни” и в “Нефти”. И уж во всяком случае не безоблачным был его оптимизм во всех остальных рассказах.
Но все же, в большинстве оптимизм перевешивал.
*
19
32 год. Опубликован рассказ “Карл Янкель". Овсей “Белоцерковский, заготовитель одесского Госторга, кандидат в партию большевиков, подал в суд на тещу, Брану Брутман, за то, что воспользовавшись его отсутствием она совершила над внуком религиозный обряд обрезания и назвала его не Карлом, как он хотел, в честь Маркса, а Янкелем. И вот идет суд над тещей и оператором обрезания Нафтулой Герчиком, призванный воздать за преступление перед чувствами отца и господствующими нравами. А в рассказе тонким ядом разлито действительное преступление перед народом и историей: разевреивание евреев.Почему тонкий яд? Потому что очень сомнительные моменты подобрал автор (а тут он не прячется за рассказчика или автора письма), чтоб обрисовать большое преступление.
Евреи, изгнанные со своей земли, через два тысячелетия сохранили себя как нацию благодаря религии главным образом. И вот в СССР религию отделили от государства. Только этим историческая перспектива существования еврейства еще не сузилась. Не имея своего государства, евреи иудейскую религию поддерживали в частно-общинном порядке. Но если в прошлые века на евреев и их религию наступление шло, так сказать, извне, и оно евреев объединяло, а религию усиливало, то после Октябрьской революции воинствующий атеизм предпринял наступление на религию (и не только иудейскую) не только снаружи, но и изнутри - переубеждая верующих переходить в новую религию - верить в коммунизм, который избавление от бед даст не на небе, а на земле и скоро.
Сам исповедуя веру в коммунизм, Бабель, тем не менее, не мог не чувствовать, что еврейству как таковому от такого сдвига в общественном мнении будет конец. А если, вопреки отделению государства от церкви, государство будет еще заниматься судебными преследованиями религиозных деятелей за их религиозные действия, то конец еврейства будет особенно быстр.
Что Бабелю было делать, взявшись все-таки за такую тему в рассказе? Автор разрывается на части.
С одной стороны, он одобрительно демонстрирует случайные и естественные, природные прямо, явления, отрывающие евреев от еврейства. Рассказ он начинает с воспоминания о сыновьях кузнеца Иойны Брутмана, уродившихся не в отца, маленького человечка, а в мать:
“Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Воскресенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову - в дивизию червоного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов".
С другой стороны, Бабель одобрительно же демонстрирует тех, кто цементирует еврейство. Правда, одобрительность в отношении обычных евреев у него никогда не бывает прямая; всегда - от обратного, от их мерзости (которую он обязательно да сыщет) - к снисходительности. Грязнуля Нафтула Герчик в жуткой антисанитарии делает обрезания. Он не брезговал брать обрезанную письку ребенка в рот и высасывал кровь. А женщины, присутствующие на обряде, не брезговали вытирать его окровавленную бороду и переносить, как он их лапает, тут же, прилюдно. И все же это так ярко описано, что не может не заключать в себе элемента авторской любви.
И наоборот: Бабель с иронией демонстрирует других евреев, предателей еврейства, конъюнктурщиков. Например, прокурор Орлов,- тот, что предъявляет обвинение на суде над Браной Брутман и Герчиком,- сменил фамилию. Отец его был Зусман. И вот этот Орлов как хищная птица терзает подсудимых и свидетелей, чтоб как-нибудь да победить в этом, в общем-то, незаконном процессе: государство ж не должно вмешиваться в религиозные дрязги в семье.
“Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.
- Верите ли вы в бога? - спросил он Нафтулу.
- Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч,- ответил старик.
[Старик хитер, он хочет подольститься, мол, от Бога добра нечего ждать, как не ждут этого и власть предержащие, к тому же он выгораживает религию: раз он - не верующий, значит, церковь не виновата в том, что он сделал обрезание, не спросясь у родителей ребенка.]
- Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?
- Я удивляюсь,- сказал Нафтула,- когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки - я не удивляюсь...
[Сплоховал прокурор. Много безобразий, видно, творится под его надзором, раз обычным становится ненормальное, а необычным - нормальное. Но прокурор не стал уточнять, ибо чувствовал шаткость своей позиции претензий к религии за экспансивность.]
Ответы не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения”.
Хоть как-нибудь да обвинить. А сам - обрезанный. Тем же Нафтулой. За что Нафтула его и упрекнул, с присущим ему остроумием.
Зал хохочет, читатель смеется. И Бабель, сознательно или нет, тем самым спустил Орлову-Зусману придирки к верующим евреям и пресмыкание перед властью агрессивных атеистов.
Однако, только он смягчил предательство, как его тут же тянет опять иронизировать по поводу приспособленцев. Овсей Белоцерковский, отец новорожденного. В галифе и кавалерийских ботфортах. А как же? Армия - в моде. Всех победила. Неважно, что Белоцерковский - заготовитель Госторга... А кому в суде нужны его производственные достижения? (Он подробно их докладывает...) - А потому что производственные достижения, опять же, - в моде. Идет ведь интенсивное социалистическое строительство... Так же,- по модности, надо полагать,- Белоцерковский - кандидат в члены партии и сына хочет назвать именем, каким был назван Маркс.
Изничтожил Бабель отца и перешел к матери с уже противоположным чувством. Та выгораживает бабку младенца всеми средствами, в том числе и взыванием к модному низкому социальному происхождению. Она - слабая женщина. Ей простительно прибегнуть к конформизму, не в пример мужу.
Но, подыграв сюда, Бабель тут же бросается в противоположное: обличает нового перерожденца - бывшего присяжного поверенного Самуила Лининга.
“Если бы синедрион существовал в наши дни,- Лининг был бы его главой”,- написано в рассказе. Но синедриона нет, и Лининг землю роет, чтоб выслужиться перед той властью, которой он в данный момент служит. И - он подлавливает и подлавливает Полю Белоцерковскую, маму младенца.
И все-таки в этом перетягивании, только не каната, а собственной души, Бабель был склонен подыграть коммунизму и интернационализму против религии и соответствовавшего ей еврейства.
Бабель мастерски, обоснованно, ввел необходимость кормить младенца прямо в здании суда. А Поля ж грудницей была больна (во время посещения, мол, врача по поводу грудницы и сделали обрезание младенцу), и понять можно, что кормить Поля так и не может. Так по воле Бабеля тут же оказалась другая кормящая мать. Да не кто-нибудь, а киргизка. В Одессе. И она покормила Карл-Янкеля. Во имя дружбы народов, понимай, бой идет в суде против религии, обособляющей евреев от других наций. Так стоит ли жалеть, что пропадут иудейские обряды? Пусть защищают их варшавские газеты из полюса антисемитизма на земле (варшавские газеты в рассказе тоже упомянуты).
Автор, Бабель, последний нюанс комментировать подтекстом уже не будет, а вырвется из метаний между нашими и... тоже нашими - прямо к читателю, который тоже, как и Бабель, не лишен был тогда, как многие в стране, иллюзий, иллюзий, неминуемо возвращающихся к людям после краха и нового возрождения, в новой эпохе барокко:
“Бой разгорелся жарче.
Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.
Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью,- Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.
Я вырос на этих улицах, теперь наступал черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.
Не может быть,- шептал я себе,- чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...”
Одесса. 1989 - 1990 гг.
Конец первой интернет-части книги “О художественном смысле произведений Бабеля”
| Ко второй интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |
Из переписки |