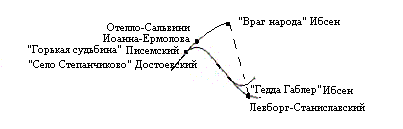
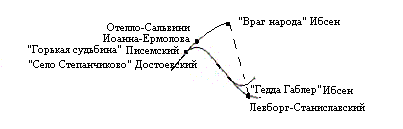
С. Воложин
Станиславский. Зарождение его системы
Художественный смысл этого
|
Человек на сцене двигался и говорил от своего имени: Я, Я и только Я! и Ему не важно, какого автора сегодня его Я есть раб. Столкновение таких противоположностей делает артисту “тепло на сцене”. |
Сладость рабства
|
"Реализм кончается там, где начинается сверхсознание". Станиславский. “Моя жизнь в искусстве”. 1926. |
Знаете, за что убили Сократа? – За то, что он пропагандировал абсолютную свободу. Вседозволенность, как мы теперь говорим. Мысли. Как получится по рассуждению – так оно и есть. И не важно, попраны ли высшие ценности афинян.
“Сократ утверждал, что высокое искусство более всего развращает человека, будь то человек плохой или хороший: предлагая мнимый духовный опыт – знание о мире, полученное из чужих рук, подавляет в нас стремление к самопознанию и самокритике. Мы думаем, что открываем самих себя, вглядываясь в образы Ахиллеса, Улисса, Гекубы или Пенелопы…” (Альберто Мангель. Гомер. “Илиада” и “Одиссея”. М., 2008. С. 61).
На самом же деле чужие-де нами манипулируют. Мы – марионетки общества.
Совсем как говорили “новые левые” во второй половине прошлого века. И чего только их левыми назвали? Благо – в кавычках. Бунтовали против социального государства (так это теперь называется). Свободы эгоистам мало было.
А вот что пишет Станиславский в 1936-м (С. 375), впервые письменно зафиксировав в начале 20-х (С. 502), а практически идя к этому аж с 1888 года (С. 502), с Общества искусства и литературы, а может, и ранее.
“…без всякого чтения новой пьесы, без бесед о ней артистов сразу приглашают на первую репетицию новой пьесы…
- Названов! Вы помните “Ревизора” Гоголя? – неожиданно обратился ко мне Аркадий Николаевич.
- Помню, но плохо, в общих чертах.
- Тем лучше. Идите на сцену и сыграйте нам Хлестакова с момента его выхода…хотя бы самые маленькие, физические действия, которые можете сделать искренне, правдиво, от своего собственного лица.
- Я ничего не могу сделать, так как ничего не знаю!
- Как? – накинулся на меня Аркадий Николаевич. – В пьесе сказано: “Входит Хлестаков”. Разве вы не знаете, как входят в номер гостиницы?
- Знаю.
- Вот вы и войдите. Дальше Хлестаков бранит Осипа за то, что “он опять валялся на кровати”. Разве вы не знаете, как бранятся?
- Знаю.
- Потом Хлестаков хочет заставить Осипа похлопотать об еде. Разве вы не знаете, как обращаются к другому с щепетильной просьбой?
- Знаю и это.
- Вот вы и сыграйте…Пущин сыграет нам Осипа, Вьюнцов – трактирного слугу.
- Но я не знаю слов, и мне нечего говорить, - упрямился я.
- Вы не знаете слов, но общий смысл разговора вы помните?
- Да, приблизительно.
- Так передайте его своими словами” (К. С. Станиславский об искусстве театра. Избранное. М., 1982. С. 377- 379).
Вышло плохо. Почему?
“- …мне неизвестно, откуда я пришёл, - извинился я сконфуженно… - Откуда же я пришёл?
- Вот это мило! Почём же я знаю! Ваше дело!”
Дело там дошло до придумки (давай, мол, как вариант), что Хлестаков, влетает в комнату, быстро закрывает дверь и глядит через щёлку в коридор – испугался-де хозяина встретить. Тогда как по тексту он отправляет Осипа, чтоб привёл хозяина в номер для объяснений, почему больше обед не отпускает в долг. – Не беда. Можно потом переиграть. Важно, чтоб с самого начала на свой страх и риск действия были, от себя, а не от кого-то. В себе всё есть. Любой гад. Любой симпатяга. И в таком отсебятинном настроении помалу-помалу приближаться к тому, что написано в тексте пьесы. Например:
“Меня удивили его глаза. Те же, да не те. Какие-то глупые, капризные, наивные, чаще, чем нужно, моргающие при коротком зрении – немного дольше собственного носа. Удивительнее всего то, что он сам не замечал того, что делал” (С. 389).
А ведь имеется в виду, что “он” не помнил, что в тексте Гоголя, в разделе, что между “Действующими лицами” и “Действием первым” напечатано, что Хлестаков “несколько приглуповат”.
Эффект – потрясающий. Особенно на фоне, например, героической струи в Малом театре позапрошлого века.
На дворе… убит Александр Второй (1881), реакция, радикальное народничество разгромлено. Будничная действительность бедная. А на сцене Малого буйствует Ермолова-Иоанна в “Орлеанской деве” Шиллера (1884), Мария Стюарт (1886)… По инерции. С залётом, “кипящим в действии пустом”. Нет уже манифестаций студентов и интеллигенции, начинавшихся с зала Малого театра. Героика от жертвенного обществизма ушла к ницшеанцам, в индивидуалистческую вседозволенность. И совсем не через бурную эмоциональность, яркую экспрессию, стремительный жест нового всплеска гражданского романтизма, не через Ермолову, а через Ленского в “Тартюфе” (1884) с его непосредственностью, правдивостью, искренностью игры. А, - если не быть ура-патриотом и учесть признание самого Станиславского, - через осознание поведения… Сальвини (да!) в день исполнения им роли Отелло эту реалистическую тенденцию Малого театра развил в своём театре Станиславский, развил до такой степени, что КАК сыграно должно было затмевать ЧТО сыграно. Это уже становилось искусством для искусства. Изыском. Сверхтонкостью. На подсознание знатока театра, самого Станиславского, действовало уже другое нецитируемое. Не то, что должно бы возникнуть от “Отелло” с Сальвинии в Москве (в 80-е годы ?), от, скажем, лицезрения ювелирно последовательного превращения совершенно доброго мавра в катастрофически злого (если осознать то нецитируемое - оно будет приблизительно такое: человек изменяем, мир капитально плох, что нестерпимо, и поэтому когда-нибудь, когда-нибудь так не будет). Другое нецитируемое действовало на знатока - известный человек на сцене двигался и говорил от своего имени: Я, Я и только Я! и Ему не важно, какого автора сегодня его Я есть раб. Столкновение таких противоположностей, знает Станиславский по себе, начиная с “Горькой судьбины” (1888), делает артисту “тепло на сцене”. А по окончании спектакля… “…по окончании спектакля не мог вспомнить, что я делал на сцене” (http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/text_0010.shtml).
Вседозволенность в… рабе автора пьесы оборачивается таким переживанием - “рай для артиста” (Там же).
(Есть кино продюсерское, режиссёрское и актёрское… Так то было как бы актёрское кино.)
Понятно, причём тут Сальвини.
Во-первых, Станиславский впервые видел гениального трагика (Мочалов умер за 15 лет до рождения Станиславского). И он впервые увидел, как гений гипнотизирует зал. Вы сравните, - тут, - как описывает “Отелло” с Сальвини Аполлон Григорьев (в 50-х годах), и как – тут - Станиславский (про 80-е). У Станиславского внимание на технологии игры и реакции публики, у Григорьева – на своём и товарища переживании от игры.
Во-вторых, Станиславский – со своим технологическим подходом - догадался узнать, чем занимался Сальвинии в часы и часы ДО поднятия занавеса.
“Сальвини снова уходил в уборную и там клал на лицо общий тон мавра и наклеивал бороду. Изменив себя не только внешне, но, по-видимому, и внутренне, он снова выходил на сцену более легкой, молодой походкой. Там собирались рабочие и начинали ставить декорацию. Сальвини говорил с ними.
Кто знает, может быть, он представлял себе в это время, что он находится среди своих солдат, которые строят баррикады или фортификации для защиты от врага” (Там же).
А я имею наглость предположить, что после провала собственного Отелло Станиславский догадался, что когда Сальвинии, начиная с после обеда и до появления в театре, уединялся, то он мысленно жил – от себя - теми муками, за которые Отелло полюбила Дездемона. Плен, раны, дыхание смерти… Простодушный среди хитрых… Мысленно жил теми победами, которые выдвинули Отелло, теми рассказами, пронзавшими Дездемону. Тем чувством, которое у того к ней росло от её влюблённости в него, от её отказов другим женихам. Тем счастьем, которое она Отелло дала сегодня ночью, сбежав с ним. Тем замирением с миром, который окружал его. Станиславский понял, что мало - побывать в Венеции самому, мало – скопировать характернейшего простодушного парижского араба с плоскими ладонями, открытыми тому, с кем он говорит.
В-третьих, имело значение, что Сальвинии итальянец. Что` Станиславскому было до общественной жизни Италии, которая, может, - как Ермолову в России, - подвигала бывшего участника Рисорджименто, Сальвинии, по инерции махать руками после драки своими трагедиями Шекспира III периода творчества. Богатый Станиславский и в России времён реакции жил, не чуя своей страны, как и чужой ему Италии, купаясь в искусстве и ища дорогу из удовольствия от себя в искусстве к удовольствию от искусства в себе. Он искал ступени в “рай для артиста” (Там же).
И потому роль Отелло Сальвинии и его самого оказалась вехой в открытии Станиславским его системы, этих ступеней в “рай”.
Итак, ступени вне зависимости от роли… От пьесы, от её идеи, от автора… - От общества, в общем?
Или всё же как-то окружающее влияло?
Вот первая из найденных ступенек, как заводить себя, будучи уже на сцене. Ступень под названием “Выдержка”. В одноимённой главе (Там же). Про “Горькую судьбину” (1888). Про гордого крестьянина Анания. Тот по пьесе терпел-терпел, да и сорвался, убил прижитого в его отсутствие женою с барином ребёнка. Писемский это написал в 1858 году в стиле критического реализма. Из нашего далёка – за 3 года до освобождения крестьян от крепостничества. И даже теперь читая, сердце аж рвётся: как возможно, чтоб крепостничество додержалось до совсем цивилизованных времён. Порыв к свободе: таков осознаваемый катарсис от пьесы, от – в финале - сочувствия… убийце. Но под такой общий знаменатель можно ж подвести и вседозволенность в 1888 году!
И что если срыв в “Отелло” (1896) случился у Станиславского (С. 11) не без влияния согласия Сальвинии с Шекспиром насчёт лучшего, коллективистского, общо говоря, сверхбудущего? Антипода идеалу сверхчеловека как искусства в себе, как чувствования себя в актёрском рае.
Возьмём главу “Успех у себя самого” (Там же). О “Фоме” (1891). По повести “Село Степанчиково” (1859) Достоевского. Что если ради ненависти к нравоучениям (таков осознанный катарсис от этого гениального издевательства Достоевского) взял развесёлый купеческий сын, Станиславский, эту вещь для инсценировки? Ему сладостно было играть издевательство Достоевского над, в частности, дядюшкой, этим абсолютом манипулируемого доброго человека. Манипулируемого. Что и есть, между прочим, актёр. Вот Станиславский и взял эту роль себе. И “рай” ощутил. Достиг предела мечтаний:
“…в этой роли я стал дядюшкой, тогда как в других ролях я, в большей или меньшей степени, "дразнил" (копировал, передразнивал) чужие или свои собственные образы.
Какое счастье хоть раз в жизни испытать то, что должен чувствовать и делать на сцене подлинный творец! Это состояние - рай для артиста, и я познал его в этой работе и, познав, не хотел уже мириться ни с чем иным в искусстве” (Там же).
Что он сыграл отлично, говорит оценка Григоровича (Там же).
А вот ещё оценка, Эфроса. Ну и что, что аж в 1918 году. Но - про постановку-то 1899 года, “Эдду Габлер” по Ибсену:
“И еще Левборг - вулкан страстей, весь он - буря и вихрь, весь он - гроза. И эту стихию сумел передать исполнитель, точно выскочивший из своей обычной оболочки, разорвавший ее... Есть в Станиславском-актере какая-то грань, которая во всей роскоши своей игры не была показана. Только раз, в Левборге, она так засверкала, во всех переливах” (Там же).
О чём речь?
Сперва об Ибсене.
Он был за старую мораль крепкого независимого небольшого хозяина. А надвигался настоящий капитализм. У Ибсена был коллективизм индивидуалистов. Их врагом была приспособившаяся к новому масса. И каждый же свой идеал называет красивыми словами. Вот и Ибсен “верит и требует обновления современного человека”:
“Если бы мне предложили в одной руке свободу, а в другой стремление к свободе, — то я выбрал бы последнее”.
К сверхбудущему! - так сказать.
Но в 1882 году Ибсен сломался (“Враг народа”). У Станиславского это “Доктор Штокман” (1900). Ибсен – анархист. И потому в быстро изменяющейся России, в назревающей предреволюционной атмосфере, он воспринимается общественником. Станиславский этого выражать не хотел, но (потом) на словах подчинился оценке публики.
А Ибсен, далее, вообще впал в демонизм. В его “Гедде Габлер” (1890) Левборг (не главная роль) не выдержал марку. Не застрелился, а нечаянно застрелился. И некрасиво. Зато красиво, в висок себе, сделала это Гедда.
Станиславскому её бы играть… Но он мужчина, и пришлось играть Левборга.
Зато идеал автора был, думаю, глубоко по сердцу тогдашнему Станиславскому, вот он и сыграл, как никогда.
Шёл “серебряный век” русского искусства.
19 августа 2009 г.
Натания. Израиль.
| На главную страницу сайта | Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |