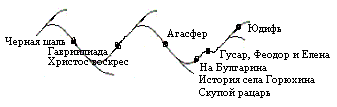
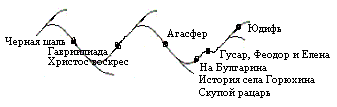
С. Воложин
Пушкин. Агасфер, Юдифь и др.
Художественный смысл.
| Образ еврея всегда такой, какой требуется для выражения художественного смысла целого произведения, а он зависит от идеала поэта, вообще-то изменчивого. |
С. Воложин
Почему в произведениях Пушкина евреи такие
(Под впечатлением статьи Г. Фридмана
http://www.proza.ru/texts/2004/08/29-71.html)
Два предварения. Люблю демонстрировать разбираемые
стихотворения как можно полнее. Исследовательски безразлично отношусь к ругательному слову “жид”.Черная шаль
1820г.
Ко мне постучался презренный еврей;
"С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя
".Я дал ему злата и проклял его
…У, плохой какой еврей. Да?
А гречанка – лучше? А армянин, соблазнивший чужую жену? А молдаванин (явно молдаванин, уж больно он по-южному горяч, да и с подзаголовком “Молдавская песня” было это стихотворение напечатано вначале), молдаванин – хорош: двух человек убил?
В 1820 году, пережив любовный, идейный и творческий кризис и начав оживать на южной ссылке, Пушкин бросил вызов романтизму Байрона и стал
демоническое разочарование в себе понемножку преодолевать.Ему нужны были демоны и демоницы, неверные жены и продажные шпионы, ему нужны были необузданные – в подлости ли, в сластолюбии или в страстности
- южные люди (благо они были вокруг него в тех южных краях, пусть и не такие яркие, каких он вывел, но все-таки, все-таки). Ему они нужны были как байроновские краски, которые нужно было переплавить.Перечитайте “Черную шаль”. Вы посочувствуете главному герою песни. ТАК переживать СТОЛЬКО времени!.. Но вы же и понимаете, что автор, Пушкин, дистанцируется от его страстности, необузданности
. А если сосредоточиться на лицах второго плана, то и от них – тоже. От неверности, символизируемой гречанкой, от злодейства, персонифицированного армянином, от грязной оборотистости, воплощаемой евреем. Тут попытка душевные свойства рассмотреть как производное от национальности. Это предвестие реализма. И тем ценно для истории искусства. За то, что тут зародыш.А что поэт пользуется штампами, в частности, пронырливостью еврея. Так не беда. Ни что штамп. Ни что обидный для евреев. Чем не пожертвуешь для искусства?
Гавриилиада
1821 г.
Он, точно он! - Мария поняла,
Что в голубе другого угощала;
Колени сжав, еврейка закричала,
Вздыхать, дрожать, молиться начала,
Заплакала, но голубь торжествует,
В жару любви трепещет и воркует,
И падает, объятый легким сном,
Приосеня цветок любви крылом.
Он улетел. Усталая Мария
Подумала: "Вот шалости какие!
Один, два, три! - как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу".
Всевышний бог, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына,
Но Гавриил (завидная судьбина!)
Не преставал являться ей тайком;
Как многие, Иосиф был утешен,
Он пред женой по
-прежнему безгрешен,Христа любил как сына своего,
За то господь и наградил его!
Шесть раз в издевательской поэме применено слово “еврейка”. Не для того ли, чтоб избежать обиды православных соотечественников за поношение Пресвятой Девы Марии?
Пушкин дал честное слово два года не писать противоправительственных стихотворений, за что ему ссылку в Сибирь или на Соловки заменили службой на юге. И если смотреть “в лоб”, то слово сдержал. Но он не давал слова насчет антирелигиозных стихотворений. И в “Гавриилиаде” отвел душу, когда на него нахлынула новая волна революционных настроений.
Православные таки обиделись. Было начато следствие. Через несколько лет. Грозила новая ссылка. Пушкину пришлось даже притвориться, что поэму не он написал.
Но то стало через несколько лет. А в 1821-м… Начались революции в Европе. В Кишиневе он жил среди антиправительственных заговорщиков. Пушкин опять верил в возможность переделки мира к лучшему. Поэтому смеялся над прошлым. Над неудавшейся попыткой Бога спасти мир, прислав на землю Спасителя.
Религия не нужна революции. Может, потому не желающие ассимилироваться (а значит, крепко держащиеся религии) евреи не одобрялись будущими декабристами. И не потому ли - в духе неодобрения, чуждости - столько раз на первый взгляд немотивированно применено это “еврейка” в пушкинской поэме.
Христос воскрес
(1821 г.)
Христос воскрес, моя Реввека
!Сегодня следуя душой
Закону бога-человека,
С тобой цалуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцалуй я не робея
Готов, еврейка, приступить -
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.
Вещь тоже антирелигиозная и направленная против самообособления излишне, мол, набожных евреев.
Агасфер
(1826 г.)
Эта вещь наоборот - написана во славу современного Пушкину еврейства.
Агасфер – персонаж западноевропейской средневековой легенды. Христиан пугала живучесть еврейства, которому их стараниями жизнь была устроена адская. Агасфер, этот символический представитель гонимого народа, был мстительно наказан вечной скитальческой жизнью самим Иисусом, когда тот нечуткий еврей не дал богочеловеку приостановиться у своего дома в пути на казнь.
Как свидетельствует запись Малевского о рассказе Пушкина, касающемся замысла этой поэмы, Агасфер, спустя века странствий, считал: “Не смерть, жизнь ужасна”. И, зайдя в очередную охваченную горем еврейскую хижину (умер младенец), позавидовал наступившей уже при нем смерти стодвадцатилетнего старика, казалось бы, как и он, обреченного на вечную муку жизни.
Так вот, приступив к делу, Пушкин не стал растекаться, а оборвал свое стихотворное повествование на моменте появления странника:
В еврейской хижине лампада
Прославленный в литературоведческих кругах Гуковский писал
, что эмоция в искусстве - тоже идея, ибо эмоция дана не как самоцель, а как ценность: положительная или отрицательная,- как эмоция, подлежащая культивированию или, наоборот, подлежащая вытеснению. Тем самым произведение содержит оценку эмоций, а значит и идею эмоций. Так скажите, какая идея эмоций в этом отрывке? – Конечно же, огромное НЕТ этой ужасной жизни. Значит, ДА жизни счастливой. И о том была речь в святой книге. И во имя того хлопотала старуха. И потому живо еврейство. Потому что оно открыло людям, что история имеет направление движения, имеет смысл. Иудаизм – религия во имя жизни.Тогда как христианство – религия во имя потусторонней жизни, т.е. - смерти.
Пушкин стихийно исполнил закон художественности Выготского: развоплощение материала. Воплотил идеал счастья в живописании несчастья.
Он был уже сформировавшийся реалист в 1826 году. И его уже не потрясали, как недавно, несчастья новых крушений: идеалов, личной жизни. Он обрел мудрость. И – ему понадобились для ее выражения евреи. Потому столько раз, казалось бы, немотивированно применяются в этом отрывке слова с корнем “евр”.
А в разрез с этой мудростью сочиненный персонаж средневековой христианской легенды оказался ненужным.
<НА БУЛГАРИНА.>
(1830 г.)
Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, -
И тут не вижу я стыда;
Будь жид - и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.
К 1830 году у Пушкина, как известно многим, уже не было надежд на нового монарха, его новый идеал - Дома и Семьи – уже был, так сказать, беремен следующим, как может быть известно (http://www.magister.msk.ru/library/publicat/volozhin/volozh01.htm), идеалом, идеалом консенсуса в сословном обществе, консенсуса широкого, народного и даже международного. А уже в самом 1830 году разразилась революция во Франции (в июле) и восстание в Польше и Литве против России (в ноябре). Так хоть эпиграмма и была написана раньше, но можно в ней увидеть и отражение пушкинского идеала консенсуса, и тень назревающих событий, противных этому идеалу.
Кто такой Костюшко? Это руководитель Польского восстания 1794 года, крепко побивший царские войска. Он отказался от предложения Александра I воевать против Наполеона в 1814 году. Составил программу борьбы за независимость Польши.
А кто такой Мицкевич, кроме того, что он гениальный поэт? – Деятель польского национально-освободительного движения, движения, которое в конце концов и привело к восстанию 1830 года.
Пушкин мог досадовать на эту семейную вражду славян. Но не отдавать должное таким личностям, как Костюшко и Мицкевич не мог.
Он, в сущности, возражая Булгарину на упрек в шовинизме, выдвинул идею недопустимости в империи разыгрывания национальной карты. Главное, какой человек, а не какова твоя национальность. А как человек Булгарин – эффективно демонстрировалось – негодник, ибо, в частности, сотрудник охранки. Для идеала же общенародного консенсуса в сословном обществе нет места полицейскому государству. Так вот многогранно и оказался отраженным в эпиграмме новый пушкинский идеал.
Возвращаясь к национальной карте, надо сказать, что будучи человеком трезвым (и в 1830 году реалистом в искусстве), Пушкин не мог игнорировать существовавший в империи шовинизм. И раз тот был врагом консенсуса, то и выстраивание в эпиграмме по возрастающей отвратительности народов: лях, татарин, жид, - надо считать принятием вызова шовинизма, а не уступкой ему. Фиглярин хуже всех, даже жида – это чтение “в лоб”. Оно, увы, очень распространено. Но уводит от в принципе нецитируемого художественного смысла, напрямую порожденного идеалом.
История села Горюхина
(1830 г.)
Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты, народом избранн<ого>, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа-Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид - а из брички высунулась голова в картузе и казалось с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейск<им> возницею и восклицали смехотворно: "Жид, жид, ешь свиное ухо!.." Летопись Гор<юхинского> Дьячка.
) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. - Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором - и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными - и он не был в состоянии их разобрать. - Незнакомец, с ужасными проклятиями отослал спать старосту Три<фона> и земского Авдея отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленькой чемодан.Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело - и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.
Как следует из последующего
, жид привез нееврея (написано же: “жид и незнакомец”) приказчика **, призванного управлять взамен Трифона. И незнакомец в 3 года довел Горюхино до обнищания. На том повествование заканчивается.Оно якобы написано очень недалеким помещиком Белкиным, тем самым, что и в “Повестях Белкина”. А в тех повестях Белкин предстает недалеким же продекабристом, соответствовавшим тогдашней моде в армии,
из которой он принужден был уволиться из-за почти одновременной смерти обоих родителей. В соответствии со своим модным мировоззрением “писатель” и оценил в своей “Истории…” деятельность приказчика**: “Горюхино совершенно обнищало”.По недалекости своей Белкин не преминул переписать из “Летописи Горюхинского Дьячка” описание издевательств над жидом. Ему хотелось подшутить над дьячком, чем, мол, тот не брезговал при писании все-таки не чего-нибудь, а Летописи. С большой буквы.
Пушкину, давно, еще до декабрьского – 1825 года – восстания, мировоззренчески отошедшему от продекабризма, но и не могущему и изменить ему напрочь, вольно было выставить продекабриста Белкина и дураком, и все-таки как-то солидаризироваться с ним. Потому он устроил так, что помимо смешного (в первую очередь для Белкина) в дьячке, в повествование попало и несмешное, чувствительное в этом все-таки как-то образованном человеке: “безумцы глумились над еврейск<им> возницею”.
Почему “безумцы”? Потому ли, по мнению дьячка, что пьяные или потому, что антисемиты? Для сколько-то образованного церковнослужителя (одно церковнославянское “воскраия” его маркирует положительно) евреи – богоизбранный народ все-таки
.А может ли быть, что оценка “безумцы” приемлема и для Белкина, как человека, хоть и старающегося писать только то, что списано или “слышано… от такой-то особы
”, но все-таки при писании набело уже знающего, какое несчастье привез жид на головы столь любимых им, Белкиным, крестьян?Если и не приемлема оценка “безумцы” для дурака и продекабриста Белкина, то уж точно приемлема для полувысмеивающего Белкина Пушкина.
Да и нехарактерное – пусть Горюхино и не украинское или белорусское село – соотношение: жалкий кучер-еврей и самоуверенный управляющий-нееврей
- попахивает тенденциозным, чисто пушкинским в 1830 году, нежеланием помножать сословную рознь на национальную.Скажете, зачем Пушкину было осложнять, искажать действительность, вводя на две строчки еврея? Убрал бы его национальность и все.
Так ведь для консенсуса-то нужно много разных людей. Вот и еврей пошел в дело. И дьячок.
Скупой рыцарь
(1830 г.)
Альбер
Ну, слава богу.
Без выкупа не выпущу его. (Стучат в дверь.)
Кто там? (Входит жид.)
Жид
Слуга ваш низкий.
Альбер
А, приятель!
Проклятый жид, почтенный Соломон,
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу,
Не веришь в долг.
Жид
Ах, милостивый рыцарь,
Клянусь вам: рад бы... право не могу.
Где денег взять? весь разорился я,
Всё рыцарям усердно помогая.
Никто не платит. Вас хотел просить,
Не можете ль хоть часть отдать...
Альбер
Разбойник!
Да если б у меня водились деньги,
С тобою стал ли б я возиться? Полно,
Не будь упрям, мой милый Соломон;
Давай червонцы. Высыпи мне сотню,
Пока тебя не обыскали.
Жид
Сотню!
Когда б имел я сто червонцев!
Альбер
Слушай:
Не стыдно ли тебе своих друзей
Не выручать?
Жид
Клянусь вам....
Альбер
Полно, полно.
Ты требуешь заклада? что за вздор!
Что дам тебе в заклад? свиную кожу?
Когда б я мог что заложить, давно
Уж продал бы. Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?
Жид
Ваше слово,
Пока вы живы, много, много значит.
Все сундуки фламандских богачей
Как талисман оно вам отопрет.
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а меж тем
Умрете (боже сохрани), тогда
В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море.
Альбер
Ужель отец меня переживет?
Жид
Как знать? дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вечор, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.
Барон здоров. Бог даст - лет десять, двадцать
И двадцать пять и тридцать проживет он.
Альбер
Ты врешь, еврей: да через тридцать лет
Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги
На что мне пригодятся?
Жид
Деньги? - деньги
Всегда, во всякой возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И не жалея шлет туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их как зеницу ока.
Альбер
О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит
И как же служит? как алжирской раб,
Как пес цепной. В нетопленой конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, всё бегает да лает -
А золото спокойно в сундуках
Лежит себе. Молчи! когда-нибудь
Оно послужит мне, лежать забудет.
Жид
Да, на бароновых похоронах
Прольется больше денег, нежель слез.
Пошли вам бог скорей наследство.
Альбер
Amen!
Жид
А можно б....
Альбер
Что?
Жид
Так - думал я, что средство
Такое есть...
Альбер
Какое средство?
Жид
Так
-Есть у меня знакомый старичок,
Еврей, аптекарь бедный...
Альбер
Ростовщик
Такой же как и ты, иль почестнее?
Жид
Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной -
Он составляет капли... право, чудно,
Как действуют они.
Альбер
А что мне в них?
Жид
В стакан воды подлить.... трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.
Альбер
Твой старичок торгует ядом.
Жид
Да -
И ядом.
Альбер
Что ж? взаймы на место денег
Ты мне предложишь склянок двести яду
За склянку по червонцу. Так ли, что ли?
Жид
Смеяться вам угодно надо мною -
Нет; я хотел.... быть может вы... я думал,
Что уж барону время умереть.
Альбер
Как! отравить отца! и смел ты сыну....
Иван! держи его. И смел ты мне!..
Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, змей! что я тебя сейчас же
На воротах повешу.
Жид
Виноват!
Простите: я шутил.
Альбер
Иван, веревку.
Жид
Я... я шутил. Я деньги вам принес.
Альбер
Вон, пес! (Жид уходит.)
Вот до чего меня доводит
Отца родного скупость! Жид мне смел
Что предложить! Дай мне стакан вина,
Я весь дрожу... Иван, однако ж деньги
Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым,
Возьми его червонцы. Да сюда
Мне принеси чернильницу. Я плуту
Расписку дам. Да не вводи сюда
Иуду этого... Иль нет, постой,
Его червонцы будут пахнуть ядом,
Как сребренники пращура его....
И все-таки главную идею жида – убить отца – Альбер взял. И убил. Пусть и не ядом.
Трагедия кончается словами герцога: “Он умер. Боже! Ужасный век, ужасные сердца!”
И на фоне этого века бледнеют ужасные Соломон и Товий.
Как кому, а по мне эти бесконечные повторения бранного “Жид” уравновешиваются умом, дипломатичностью и изобретательностью Соломона. Чувствуется, как Пушкин любит его.
Впрочем, он не был бы художником, если б не любил своего героя. Он и Альбера любит с его тугодумием, импульсивностью, звериным напором.
Но дело не в этом.
Прогресс аморален. Таков закон развития антагонистического общества. Но если у человечества есть не только направление развития, но и благая цель, то не страшно изображать, из какого сора растут цветы, не ведая стыда. Идеал Пушкина тех лет – консенсус в сословном обществе – призывал его быть чутким к совершенно новым великим веяниям, шедшим с Запада. Лотман писал: “Конец наполеоновской эпохи и наступление после июльской революции 1830 г. [во Франции] буржуазного века воспринималось разными общественными течениями как конец огромного исторического цикла. Надежды на новый исторический век вызвали в памяти образы раннего христианства. В 1820-е гг. Сен-Симон назвал свое учение “новым христианством”. В таком ключе воспринималось учение Сен-Симона и русскими читателями”. А Сен-Симон и консенсус это что-то очень похожее. Так как расположил в цикле свои маленькие трагедии Пушкин? – Первой идет “Скупой рыцарь” (начало буржуазной эпохи), потом “Моцарт и Сальери”, потом “Каменный гость” и, наконец, самая консенсусная – “Пир во время чумы”. (Подробнее смотри мою книгу “Беспощадный Пушкин”, Одесса, 1999.) В таком разрезе благообразность евреев (да и какого бы то ни было другого народа) накануне эпохи Возрождения Пушкину была не нужна.
Гусар
(1833 г.)
Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.
Бал нечистой силы. Гусар рассказывает молодому сослуживцу, как он летал за своей милой хозяйкой-вдовушкой, у которой он снимал квартиру, и которая, оказалось, летала на шабаш. Все кончилось благополучно.
Казалось бы, все тот же идеал благословенного консенсуса воодушевил поэта. Но. Какое-то сюрреалистическое там благо. Как в других его созданиях того же года. В “Анджело” умиротворение наступает в каком-то неопределенном времени, соответствующем одновременно и Раннему и Позднему Возрождению. В “Медном Всаднике” трагедия отсутствия мира между государством и человеком (явно вдохновленная идеалом консенсуса), трагедия эта происходит от столкновения каких-то внесоциальных персонажей: памятника с человеком вне семьи и сословия. В “Пиковой даме” экспансия в жизнь капиталистического зла через экстремизм пресекается совсем уж мистическим образом, от которого образ автора даже и не дистанцируется, вроде. Точно то же, похоже, и в “Гусаре”. Автор в тех 18-ти словах (все остальное довольно длинное стихотворение есть рассказ гусара) никак не выдает своего отношения к несусветице, которую тот несет.
И все-таки он есть, рассказчик, отделенный от гусара. И все-таки в “Пиковой даме” просто психологически (не мистически) тоже понятно, почему Германн прокинулся: от угрызений совести.
Да, Пушкин ввел все же странный момент во все перечисленные произведения. Надорванный идеал консенсуса вдохновлял его творения в 1833 году. По инерции. Пушкин написал тогда “Историю Пугачева” (вещь научную, не художественную), и ему стало ясно, что противоречия между сословиями неразрешимы. Отсюда – сюрреализм, мистика, странное есть в преодолении зла в пушкинских произведениях того времени.
В ком персонифицируется капиталистическое зло в “Пиковой даме”? – В Германне, немце. В ком – в “Гусаре”? – В частности, в жиде.
Предрассудок ли одно и другое
?Немецкие ремесленники и лавочники явно опережали русских. А евреи?
Вспоминаются слова Горького: “
Именно то, что они [евреи] были разбросаны по всей земле и в то же время крепко связаны между собой ревностным отношением к своей религии, позволило им раньше и успешнее всех народов установить торгово-промышленные отношения между различными странами Европы, между Западом и Востоком.Люди невежественные рассматривали промышленность и торговлю только как средство личного обогащения, не понимая глубокого культурного объединяющего мир значения торгово-промышленной деятельности, не понимая, что промышленность столь же необходима для развития человечества, как необходимы для этого искусство и наука. Когда известная часть еврейства встала во главе международной торговли, это возбудило всеобщую зависть христиан; им казалось, да и теперь еще кажется, что всякий даже нищий еврей - миллионер в будущем. Таким образом, религиозный аристократизм всего народа и завидное богатство нескольких удачливых дельцов, вызвали у христиан чувство обиды и зависти
”.Это написано о позднем средневековье. Ясно, что даже в отсталой России, но все же в веке
XIX, это уже был в значительной мере предрассудок. Но он был.У культурного гусара он вытолкнут в подсознание. Но во сне тот проявил себя. И оказался в сознании. И даже рассказан. Пусть и в шутку. Молодой сослуживец из уважения к старослужащему не перебивая слушает. Но он же тоже взрослый и образованный человек. А уж автор-рассказчик тем паче.
И вот одно наличие автора-рассказчика само по себе ставит под сомнение его солидарность с героем.
То есть отрицательная аура, в частности, с жидом оказывается несерьезной.
А уж автор-сочинитель, то бишь Пушкин, и вовсе удален от причастности к возведению от своего имени хулы на еврея.
Феодор и Елена
(1834 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Стамати был стар и бессилен,
А Елена молода и проворна;
Она так-то его оттолкнула,
Что ушел он охая да хромая.
Поделом тебе, старый бесстыдник!
Ай да баба! отделалась славно!
Вот Стамати стал думать думу:
Как ему погубить бы Елену?
Он к жиду лиходею приходит,
От него он требует совета.
Жид сказал: “Ступай на кладбище,
Отыщи под каменьями жабу
И в горшке сюда принеси мне”.
На кладбище приходит Стамати,
Отыскал под каменьями жабу
И в горшке жиду ее приносит.
Жид на жабу проливает воду,
Нарекает жабу Иваном
(Грех велик христианское имя
Нарещи такой поганой твари!).
Они жабу всю потом искололи,
И ее — ее ж кровью напоили;
Напоивши, заставили жабу
Облизать поспелую сливу.
И Стамати мальчику молвил:
“Отнеси ты Елене эту сливу
От моей племянницы в подарок”.
Принес мальчик Елене сливу,
А Елена тотчас ее съела.
Только съела поганую сливу,
Показалось бедной молодице,
Что змия у ней в животе шевелится.
Испугалась молодая Елена;
Она кликнула сестру свою меньшую.
Та ее молоком напоила,
Но змия в животе все шевелилась.
Стала пухнуть прекрасная Елена,
Стали баить: Елена брюхата.
Каково-то будет ей от мужа,
Как воротится он из-за моря!
И Елена стыдится и плачет,
И на улицу выйти не смеет,
День сидит, ночью ей не спится,
Поминутно сестрице повторяет:
“Что скажу я милому мужу?”
Круглый год проходит, и — Феодор
Воротился на свою сторонку.
Вся деревня бежит к нему навстречу,
Все его приветно поздравляют;
Но в толпе не видит он Елены,
Как ни ищет он ее глазами.
“Где ж Елена?” — наконец он молвил;
Кто смутился, а кто усмехнулся,
Но никто не отвечал ни слова.
Пришел он в дом свой, — и видит,
На постеле сидит его Елена.
“Встань, Елена”, — говорит Феодор.
Она встала, — он взглянул сурово.
“Господин ты мой, клянусь богом
И пречистым именем Марии,
Пред тобою я не виновата,
Испортили меня злые люди”.
Но Феодор жене не поверил:
Он отсек ей голову по плечи.
Отсекши, он сам себе молвил:
“Не сгублю я невинного младенца,
Из нее выну его живого,
При себе воспитывать буду.
Я увижу, на кого он походит,
Так наверно отца его узнаю
И убью своего злодея”.
Распорол он мертвое тело.
Что ж! — на место милого дитяти,
Он черную жабу находит.
Взвыл Феодор: “Горе мне, убийце!
Я сгубил Елену понапрасну:
Предо мной она была невинна,
А испортили ее злые люди”.
Поднял он голову Елены,
Стал ее целовать умиленно,
И мертвые уста отворились,
Голова Елены провещала:
“Я невинна. Жид и старый Стамати
Черной жабой меня окормили”.
Тут опять уста ее сомкнулись,
И язык перестал шевелиться.
И Феодор Стамати зарезал,
А жида убил, как собаку,
И отпел по жене панихиду.
Это ж надо! Стамати - просто зарезал, а жида (даже имени не заслуживает) убил, как собаку. Получается, жид – корень зла.
“
Мир “Песен...” - мир полной безвыходности”,- написала Свенцицкая в статье, что в книге “Донецкий государственный университет. Литературоведческий сборник”. Вып. 2. Донецк, 2000.В контексте “Песен…”, поющих все больше о турецком нашествии на Югославию, получается, что жиды в одном ряду напастей с турками находятся: “
когда завоевание произошло, но господство завоевателя не установлено”. Со стороны турок – физическое, со стороны жидов – моральное завоевание.Неопределенность – так, утрируя Свенцицкую, одним словом можно обозначить художественный смысл “Песен западных славян” Пушкина. Таким же обобщающим словом можно было б назвать состояние его души в 1834 году. Жена так и не полюбила его. За ней стал ухаживать царь, красавец. Она с удовольствием вертелась в свете. Но и измены, собственно, еще не было. “История Пугачева” показала, что консенсуса между сословиями быть не может. Но от Наполеона - факт - получать свободу народ не захотел. И так мощно, как при Пугачеве
, больше не восставал. Тоже факт. Чем это все кончится: добром или худом,- было неясно.Неопределенность муссируется и в стихотворении “Феодор и Елена”: выросшее в отсутствие мужа пузо жены еще не означает ее измену.
Пушкин как бы призывал себя и людей трезво взглянуть на действительность и не поддаваться видимостям. Может, потому и взялся тут как бы за перевод “Гузлы” Проспера Мериме, который объявил, что он сочинил мистификацию, а не собрал настоящие иллирийские стихотворения.
Так если “Осторожно, не верьте!” есть пафос и рассматриваемого стихотворения, то, может,
заодно не верить призывает Пушкин и мерзопакостности жида? Или нет?Юдифь
(1836 г.)
Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил, —
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израил выи не склонил;
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет. Иереи
Одели вретищем алтарь;
Народ завыл, объятый страхом,
Главу покрыв золой и прахом,
И внял ему всевышний царь.
Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.
И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.
Сатрап смутился изумленный —
И гнев в нем душу помрачил...
И свой совет разноплеменный
Он — любопытный — вопросил:
“Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?..”
И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор
И рек — и Олоферн со трона
Склонил к нему и слух и взор.
1836 год финал творчества поэта. Он устал жить, разочаровываться и очаровываться, чтоб снова разочароваться. Некоторые даже считают, что он искал смерти на дуэлях. И, наконец, нашел ее.
Во всяком случае, в своем творчестве оставаясь реалистом, он довел реализм до какого-то, скажем так, символистского свойства. Пафосом символистов через полвека стало сверхбудущее, нечто соборное, облачное и достижимое лишь в принципе, то есть практически недостижимое. (А что оставалось делать положительным людям, если действительность не давала узреть никакой, ну никакой, реальной перспективы изменения к лучшему?)
Подобный исторический пессимизм, рядящийся в сверхисторический оптимизм, переживал и Пушкин в конце своей жизни. Но реалистическая закваска не дала возможности впасть ему в облачность, как будущих символистов. И он стал писать так, как в далеком от него будущем выразился Пришвин, старавшийся отодвинуться от облачности современников-символистов, а именно, стал “писать как живописцы, только виденное, во-первых; во-вторых, самое главное - держать свою мысль всегда под контролем виденного” (Пришвин М. М. Записи о творчестве. В альманахе “Контекст•1974”. М., 1975, С. 318).
И вот когда мы смотрим на последние стихотворения Пушкина, например, такое - “Когда за городом задумчив я хожу”, мы буквально имеем дело с тем, что на кладбище
, - имеющем явное отношение к сверхбудущему, - видит глаз: “мавзолеи”, “надписи и в прозе и в стихах”, “ворами со столбов отвинченные урны”, “могилы склизкие”. В стихотворении “Памятник” перед нами “мысль под контролем виденного”. Это посмертное влияние поэта предстает в виде чего-то еще более высокого, чем Александрийский столп. В стихотворении “(Из Пиндемонти)” Пушкин сумел отнестись как к видимому глазом к самим словам! Там хается лживая демократия: “Все это, видите ль, слова, слова, слова”. Так эти троекратные “слова” мало что выделены курсивом, они еще снабжены сноской, которая поясняет, что это цитата из “Гамлета”. Понимаете? Перед нами то, что видит глаз – ци-та-ту он видит. А дело там в том, что Пушкин не соглашается с Пиндемонти, автором цитирования и хаяния, хаяния во имя вседозволенности. Не соглашается во имя совпадения слов с делами.И точно то же мы видим в стихотворении “Юдифь”. Мы как бы воочию видим Ветилую.
Замок, замыкающий горное ущелье. Пояс на высоте.А ведь Ветилуи как крепости, города с таким названием не существовало в Палестине. В том числе и за то христиане исключили “Книгу Иудифи” из канонических книг Ветхого Завета. И Пушкин вполне мог это знать. Во всяком случае, тому пафосу, что руководил им в сочинении своих последних произведений, очень бы подошло,- при замысле этой последней в его жизни поэмы, “Юдифь”,
- знание причин неканоничности ее прототипа.Не было в природе такого воплощения единства слова и дела, силы военной и силы духовной. Не было! А требуется, чтоб был! Для того и сочинена была библейская книга. Потому, в назидательных, воспитательных целях, и была разрешена и даже рекомендована к чтению христианами.
Заменены военные силы израильтян хитростью одной красивой женщины. Это тоже сила. И вот, мол, соединение двух сил: материальной (хитрости плюс красоты) и духовной (религиозного рвения), - дали требуемый результат – победу над врагом (Юдифь, мол, отрезала голову Олоферну, и ассирийцы бежали от Ветилуи)
.Только полное бессилие могло востребовать появление “Книги Иудифи”.
И точно такое же состояние духа позднего Пушкина востребовало обращение в замысле поэмы к ней же.
Востребовало
. Но появления самой Юдифи не понадобилось. Ее заменило живописное описание неприступной Ветилуи, заменило описание впечатления на Олоферна этой неприступности. Все! Мечта о сверхбудущем слиянии слова и дела, духа и тела оказалась воплощенной. И – состоялась не поэма, а стихотворение.А Израил, могучий в земном и небесном смысле (и для того, наверно, даже лишенный мягкого знака: чтоб никакой ассоциации со слабостью не было), такой Израил оказался отнесенным в сверхбудущее, в желаемое, но небытие.
21
октября 2004 г.Натания. Израиль.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |
Отклики в интернете | Из переписки |