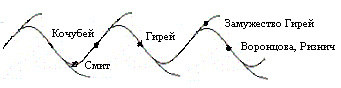
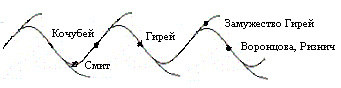
С. Воложин
Пушкин: новое прочтение
любовной лирики.
|
Новое прочтение – от осознавания катарсиса из-за противоречивых элементов текста (от противочувствий, по Выготскому), и наглядности сравнения диалектики идеалов (и любовей) с синусоидой и вылетами с нее на перегибах. |
С. Воложин
Пушкин:
идеалы и любови
(Книга не для сердца - для ума)
Одесса 2001
Тебе - но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
А. С Пушкин
Предисловие
...ни одно значительное произведение Пушкина не дает однозначных соответствий реалиям жизни. Классический пример - ХХХ строфа “Путешествия Онегина”:
Онегин никогда со мною
Не хвастал дружбой почтовою,
А я, счастливый человек,
Не переписывался ввек
Ни с кем...
В действительности, только за год жизни в Одессе Пушкин написал друзьям несколько десятков писем (до нас дошло около сорока!)...
Л. Аринштейн
Неблагодарное это дело для серьезных людей - связывать пушкинские стихи с именами женщин. Особенно - если стихи понимать, как говорится, в лоб и если женщин иметь в виду тех, которых, сочиняя, мог иметь в виду Пушкин, начиная со времени перед ссылкой и далее (тогда - общепризнано - он принялся особенно густо вуалировать женские источники своих вдохновений). Женщины - это дело интимное, тут свидетелей нет, а признания - даже дошедшие до нас, даже письменные - ничего, строго говоря, не стоят. Пушкинисты-биографисты дали массу примеров, как можно диаметрально противоположно истолковать эпистолярий.
Например, известны пушкинские грубейшие фразы письма, с матом, написанные Соболевскому относительно Анны Керн, для которой он сочинил “Я помню чудное мгновенье...”, стихотворение гениальное, возвышенное. Так есть такие, кто находят, что этот Соболевский был очень грубый человек, а Пушкин был способен подстраиваться под стиль адресата. И есть другие, которые подмечают, что со стороны Пушкина было бы низко - подстраиваться, и он написал то, что думал. Так была ли она когда-нибудь - одухотворенная любовь к Анне Керн?
Или вот пример посвежее. Жуковский написал, что графиня Воронцова, увидев на его руке перстень (снятый Жуковским с руки умершего Пушкина), дала понять, что это она его Пушкину подарила. А нашелся теперь ум, который сообразил, что Жуковский ее не понял, и на самом деле Воронцова узнала перстень своей соседки по одесской даче и удивилась, а вовсе не принялась компрометировать себя; Жуковский же, мол, принял удивление за признание. И с кем тогда связывать стихотворение “Талисман”?
Так что... все тут, с женщинами, вилами по воде писано.
Зато Пушкиным между, так сказать, строк стихотворений написана абсолютная истина их художественного смысла. И если признать литературоведение за науку, то согласишься, что в ней есть процесс все большего и большего приближения к постижению этого художественного смысла, идеи. И с гениями этот процесс особенно успешен, потому что у тех
все, - правда, через противоречия структуры, - работает на идею. А та - порождена идеалом, которым художник одержим в энный момент, месяц, год. И у Пушкина идеал очень часто изменялся. Идеалы же - глубинно связаны с подлинными любовями. И эти подлинные - тоже очень разные бывают: от земной до небесной, так сказать. И вот их соотносить с художественным смыслом стихов - уже не пустяк, не парапушкинистика.И все-таки, для удобства простого читателя, я
буду тут называть имена и фамилии женщин, о которых я прочитал в книгах и статьях о Пушкине и которые я отобрал по своему усмотрению в качестве больше, как мне кажется, психологически оправданных для того, чтоб идеалы Пушкина эволюционировали так, как это следует из вскрываемого тут же художественного смысла его поэтических созданий, взятых в хронологической последовательности (пусть и с пропусками). Почему я так себе позволяю? - Потому что это работа научно-популярная. От науки в ней,- я надеюсь,- восхождение от пушкинского текста к идее и идеалу. А от популярности - в частности, имена, которые в действительности (о чем уже никогда мы не узнаем со стопроцентной точностью) могли быть и другими.Данная вещь является продолжением моей работы “Первые произведения Пушкина” из книги “Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы”, изданной в 1999 году в Одессе, и я теперь пишу так, как если бы вы, читатель, ее прочли и помните. И как и ту работу, эту тоже надо читать, заглядывая в собрание сочинений Пушкина, потому что пришлось - из-за недостатка места - не все обсуждаемые произведения полностью процитировать.
Глава 1
К земному, достижимому, приватному!
Это было еще в лицее. Давно семья увезла из Царского Села юную графиню Наташу Кочубей (которую Корф, соученик Пушкина, назвал первым лицейским увлечением поэта и с которой связывают стихотворения “К Наташе” и “Измены” - 1915 года), давно семья же увезла и сестру лицейского товарища Катю Бакунину (другую его любовь, с которой связывают целый цикл - многомесячный - его унылых элегий), давно лицеистов освободили от монастырского режима, и они по ночам шастают с гусарами по девкам (Пушкин - во всяком случае), давно можно бы ему утешиться от несчастной любви к теперь уж и вовсе в Царском Селе недосягаемым гармоническим идеалам девушек, но он все еще пишет элегии и находит поэтическое удовлетворение в описании все новых и новых нюансов страданий своей души. Его идеалом является абсолютная ценность - пусть даже в негативных переживаниях - этой, получается, совершенно свободной от внешнего мира собственной души. И действительно, не воспевать же ему, эстету, низкую прозу удовлетворения своих плотских потребностей - этих крепостных актрис или других доступных женщин, не принадлежащих светскому обществу?
Впрочем, есть
* у него одна... порядочная, веселая вдова Мария Смит (с ней связывают стихотворения 1816 - 1817 годов, где она появляется под именами Лилы и Лиды), дальняя родственница директора лицея... Что если ее привлечь как прототип для олицетворения, быть может, нового--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Гаевский десятки лет спустя писал совсем в другом тоне: Пушкин, который <<немедленно начал ухаживать за нею, написал к ней довольно нескромное послание “К молодой вдове”... но вдова, не успевшая забыть мужа и готовившаяся стать матерью, обиделась, показала стихотворение своего вздыхателя Энгельгардту [директору лицея], и это обстоятельство было главною причиною неприязненных отношений между ними...>>
Не берусь судить, кто прав: Гаевский или Тынянов и другие. Меня интересует, что вдова сделала с идеалом поэта.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
идеала? Что если из-за нее идеал с презумпцией внутреннего мира... постепенно, постепенно отступает, может, - незаметно для самого поэта?
Слово милой
Я Лилу слушал у клавира;
Ее прелестный, томный глас
Волшебной грустью нежит нас,
Как ночью веянье зефира.
Упали слезы из очей,
И я сказал певице милой:
“Волшебен голос твой унылый,
Но слово милыя моей
Волшебней нежных песен Лилы”.
Слово милой, всего лишь слово, может, даже и не ахти какое приветное - это все же вестник из действительности, как и голос поющей благосклонной Лилы. И то и другое еще всего лишь сотрясения воздуха и в качестве такой воздушности еще может быть принято лирическим героем, считающим себя идеалистом. Но процесс пошел. Смотрите на эту позитивную ауру слов и звуков, связываемых со вроде бы по сути отвергаемой вдовушкой: “прелестный, томный”, “волшебный”, “нежит”. А эти высокие “глас”, “зефир”, это благостное сравнение: “как ночью веянье зефира”. Само звучание имени - “Лила” - как ласково. А по инерции еще принимаемая душой безымянная соперница - фигурирует лишь бескачественным воспоминанием: “слово”,- сравниваемым со здесь и сейчас звучащей певицей. И это “слово” лишь заимствует себе от Лилы ее приоритет - “волшебней”.
Данная в ощущениях благость - отвергается, сухость - приемлется, но и то и то уже равны друг другу как что-то внешнее и самодостаточное, достойное поэтизации в качестве звуков.
Вот и случилось, что Мария Смит повернула Пушкина к хронологически четвертому в его духовно-творческой жизни идеалу, к идеалу, находящемуся, так сказать,
здесь и сейчас и еще дальше, чем в элегиях отстоящему от соборности его первичного гражданского романтизма “Воспоминаний в Царском Селе”, “Лицинию” и т. п. (вдохновленных хронологически вторым идеалом).Я попрошу вас, читатель, принять, что, так сказать, земной, достижимый идеал будет в этой книге называться низким, а противоположный - высоким, хоть в качестве идеалов любой из них в большей или меньшей степени труднодостижим и субъективно ставится где-то выше себя, субъекта, к нему стремящегося.
Трудно пробиваться к осознанию нового идеала.
Заздравный кубок
Кубок янтарный
Полон давно -
Пеною парной
Блещет вино;
Света дороже
Сердцу оно.
Ну! за кого же
Выпью вино?
Казалось бы, так сочно описанная материальность предполагает ориентацию вниз. Дальнейшее - это, вроде бы, подтверждает. Социальное: военная слава, творчество - отвергаются лирическим героем.
Пейте за славу,
Славы друзья!
Браней забаву
Любит не я.
Это веселье
Не веселит,
Дружбы похмелье
Грома бежит.
Похмелье - дело горькое. Зачем, мол, был сыр-бор: брань, победа, слава победителя - если все кончается миром, дружбой и... славы как не бывало. Ни процесс, ни результат не прельщают лирического героя.
Вы, Геликона
Давни жильцы!
За Аполлона
Пейте, певцы!
Резвой Камены
Ласки - беда;
Ток Иппокрены,
Други, вода.
То же. Ни процесс (ласки богини поэзии, то есть муки творчества - “беда”), ни результат (неизбежная неудовлетворенность творением - “вода”) лирическому герою не по душе. - Что же?
Пейте за радость
Юной любви -
Скроется младость,
Дети мои...
Лирический герой старик, что ли, раз обращается: “дети”? И ему уже не под силу юная любовь? - Если да, то он молодец. Нашел все-таки и в этом положении выход:
Кубок янтарный
Полон давно.
Я - благодарный -
Пью за вино.
Счастье - немедленно! Идеал - достижимое.
И вообще, по логике всех предложений стихотворения, пить надо за самое, по мнению лирического “я”, достойное: за то, что ниже пояса. Это - написано, произнесено, звучит.
Но как!
Смотрите, слушайте эти несерьезные, частящие куцые строки. Сам размер куплетов отрицает их логику.
И что ж в результате? Каков катарсис от этого взаимоуничтожения? - Душа сочинителя этого лирического “я” еще стесняется признать низкое за свой идеал. Она пока довольствуется произнесением вслух того, что идеализируется, произнесением - пусть насмешливым по форме. (Это как в середине ХХ века в СССР массы, победившие фашизм и послевоенную разруху построенного до войны социализма, наскучив самопожертвованием ради общего дела, невольно стали заглядываться на идеал, противоположный коллективистскому, и,- потакая ему и стесняясь еще своим начавшимся отступничеством,- советская эстрада стала критиковать западный джаз за чувственную разнузданность индивидуализма; критиковать, но критикуя - демонстрировать; демонстрировать - потому что тайно от самой себя он - нравился.)
Что в “Заздравном кубке” бродили столь глубокие идеологические соки свидетельствует сочиненное следом за ним “Послание Лиде”. Здесь сталкиваются уже сами прямо произнесенные идеалы.
С одной стороны - высокие, ингуманистические:
“...мученье -
Прямое смертных наслажденье!”
С другой - низкие, гуманистические:
...я...
... стал апостол мудрой веры
Анакреонов и Нинон...
Анакреон - древнегреческий поэт, воспевавший пиры, любовь, веселье. Вообще, противостоят друг другу в этом стихотворении много знаковых имен. Платон (всем известный идеалист), Зенон (учил подчинять страсти разуму), Катон (прозванный Цензором за борьбу против порчи нравов), Сенека (его идеалом был образ мудреца, преодолевающего людские страсти) и т. д. - с высокой стороны. С другой - Венера, Купидон, Цитера, Аристипп, Глицера, Анакреон и т. д. и если Вольтер, то того периода, когда он был на этой же стороне баррикады. Это все придает какой-то теоретический аспект произведению. Тем более, что лирический герой, приверженный низкому, признает весомость высоких идеалов:
Друзья, согласен: плач и стон
Стократ, конечно, лучше смеха;
Терпеть великая утеха;
Совет ваш вовсе не смешон...
Правда, признание это общо. И противостоящая ему живая картинка с Сократом, изменившим жене своей, Ксантиппе, с Аспазией перевешивает в наших глазах, да и в глазах лирического героя, сухомятку теоретического спора. Но... Кончается вещь опять довольно абстрактными словесами, хоть и в пользу низкого:
Меж тем, на милых грозно лая,
Злой циник, негу презирая,
Один, всех радостей лишен,
Дышал, от мира отлучен.
Но с бочкой странствуя пустою
Вослед за мудростью слепою,
Пустой чудак был ослеплен;
И воду черпая рукою,
Не мог зачерпнуть счастья он.
Так и кажется, что создателю этого явно побеждающего в споре с высоким низменного лирического героя как-то неуютно. Чего герой спорит?!. Есть сомнения, что ли? Автору что: нужно утвердиться в ценности низкого еще и в теоретическом споре тоже?
А ведь это - послание Лиде. Но о Лиде как таковой поэт чуть ли не вообще забывает. Поименована Лида лишь в заглавии.
Противоречие.
А все дело в том, что художественный смысл послания - в какой-то попытке самооправдания за низкое, которое уже признано идеалом.
Нет еще цельности в новом качестве, которое и нельзя назвать хорошо забытым старым - так недавно оно было. Может, потому поэт и бросается... туда... сюда...
Ну, если ты славишь Амура (“Амур и Гименей”) и потешаешься над Гименеем (богом брака), то почему ты так беспощаден к воспеваемому Амуру?
...
брат коварный,Шутя над честью и над ним
[Гименеем],Войну ведет, неблагодарный,
С своим союзником слепым
[Гименеем же].Ведь ты же, лирический герой, ведешь соблазняемую тобой Елену к счастью в измене мужу... Если ты уже исповедуешь идеал “счастье - немедленно!”, то, казалось бы, зачем не быть просто субъективным? - Нет. Амур и “коварный”
, и “неблагодарный”, и шутит над честью, и над соперником - отвратительный, в общем, тип. Или тебя шатнуло в твой хронологически второй идеал, в идеал союза таки Амура с Гименеем? И подзаголовок “Сказка” - это иронический подзаголовок? Потому что это горькая (для тебя сиюминутного) быль, а не сказка?И ты думаешь, что, получается, воспел не то, что хотел. И какой сделать вывод? - Что ты не владеешь пером? Или собой? Муза оставила тебя?
Но долго ли меня лелеял Аполлон?
Душе наскучили парнасские забавы;
Недолго снились мне мечтанья муз и славы;
И, строгим опытом невольно пробужден,
Уснув меж розами, на тернах я проснулся,
Увидел, что еще не гения печать -
Охота смертная на рифмах лепетать,
Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся:
И полно мне писать. (“Шишкову”)
Или и это заявление надо понимать наоборот, раз его все-таки написал? Опять написал. Не зря “улыбнулся”. Ибо смутно понял, что потом про твоих современников-поэтов скажут, что у них один общий недостаток: что они писали одновременно с тобой. И вот - ты мудрец смиренный.
Но как же и не посмеяться над смирением... И - он частит опять несерьезными короткими строками - теперь уже о минимуме запросов, возведенном в идеал.
Пробуждение
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнул он,
Веселый сон,
И одинокий
Во тьме глубокой
Я пробужден.
. . . . . . . . . . . .
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья,
И поутру,
Вновь упоенный,
Пускай умру
Непробужденный.
Как в 1812 - 14 годах он опять ниспровергает все и вся, стихийно не смиряясь с банальностью низкого, достижимого идеала, к которому его неудержимо несет.
И он, наверно, недобрым словом и перед иным гусаром иной раз касался смысла жизни своего товарища, гусара, раз написал следующее стихотворение.
К Каверину
Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.
Каверин,- написано в комментариях,- друг Пушкина, служивший в лейб-гвардии гусарском и позднее в Павлоградском гусарском полку.
Конечно, внешность может быть обманчива, спору нет. Но зачем же вводить собственную непоследовательность? Смотрите, одно из двух: или Каверин притворяется шалопаем - “скрыть”, “под покрывалом”, - или он находится в фазе “ветреного юноши” и ни в чем не притворяется, что так естественно. В чем же дело? А в том, что Пушкин не столько к Каверину обращается (хоть и не без этого), сколько самовыражается, и Каверин со своей, возможно, обидой - лишь хороший повод для мятущегося поэта, не желающего совсем уж идти у гусаров на поводу, и точно, хоть и между строк, фиксирующего свое межеумочное состояние.
А что если не только непоэтичность беспроблемности в достижении низкого идеала беспокоит Пушкина? Что если он разрывается на части между Марией Смит и Екатериной Андреевной Карамзиной, женой знаменитого Карамзина, ставшего историографом Александра I и поселившегося с семьей в Царском Селе под конец пребывания Пушкина в лицее в год появления там Марии Смит. Прекрасная - иного слова не найдешь - дочь князя Вяземского Екатерина Андреевна... Известно же, как Пушкин обожал ее, хоть та и была на двадцать лет старше его. Ее красота, ум, высочайшая нравственность... Любовь к такой женщине вполне могла не допускать торжества, скажем так, низкого идеала в его поэзии, который он готов был принять под влиянием доставшейся ему в любовницы веселой вдовы.
К молодой вдове
Лида, друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон
Часто, негой утомленный,
Слышу я твой тихий стон?
Почему, в любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взор недвижный, боязливый
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморок любви,
Иногда я замечаю
Слезы тайные твои?
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,
Хладно руку пожимаешь,
Хладен взор твоих очей...
О бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать,
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спит увенчанный счастливец
[покойный муж, вечным сном];
Верь любви - невинны мы.
Нет! Разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовников не станет,
Вызывая спящий день.
Логикой предложений этого стихотворения рисуется, собственно, поражение любви лирического героя. В интимный миг Лида как бы отсутствует. У нее - не радость близости, а угрызения совести и слезы по умершему.
Но посмотрите, как герой толерантен. И к ней, и к “сопернику”!
В чем дело? - Как всегда в том, что между строк: он вполне удовлетворен физической близостью и автор
это воспевает. Это его нынешний идеал, и он достигнут.Чары Карамзиной преодолены? - Почти. Одно из противочувствий, возникающих от противоречивых элементов данного стихотворения, есть нравственный момент в описании поведения Лиды. Она, вероятнее всего, выдумана Пушкиным такой, и в этой выдумке - влияние Карамзиной.
Так что? Его лирический герой, любовник Лиды, в дальнейшем будет добиваться, чтоб она получала от него не только физиологическое наслаждение?
Нет.
Письмо к Лиде
Лишь благосклонный мрак раскинет
Над нами тихий свой покров,
И время к полночи придвинет
Стрелу медлительных часов,
Когда не спит в тиши природы
Одна счастливая любовь:
Тогда моей темницы вновь
Покину я немые своды...
Летучих остальных минут
Мне слишком тягостна потеря -
Но скоро аргусы заснут,
Замкам предательным поверя,
И я в обители твоей...
По скорой поступи моей,
По сладострастному молчанью,
По смелым трепетным рукам,
По воспаленному дыханью
И жарким, ласковым устам
Узнай любовника - настали
Восторги, радости мои!..
О Лида, если б умирали
С блаженства, неги и любви!
Все - о себе. Ни слова о том, что чувствует она. Но... От такого жара и мокрое бревно загорится. И ясно, что тут воспевается взаимность. И черт с ней, что она не ахти какая возвышенная. Она ценна сама по себе и все тут! Максимум это не шутка.
Глава 2
К общественному вольнолюбию!
Я одного не пойму: как можно было между двумя этими обращениями к Лиде написать “Безверие”? И ведь он читал его на выпускном экзамене в лицее!
Что если, зная что стихи обычно не понимают глубоко, он поиздевался над официозом?
В самом деле... Вот он изощряется: и так и этак демонстрирует человековедение, проникновение в тайное тайных человека, лишившегося веры и страдающего от этого. И использует все это, чтоб призывать своих слушателей пожалеть этого субъекта...
И ведь можно подумать, что он намекает на себя, слывущего у администрации как шалопай, и, следовательно, предлагает считать свое произведение покаянием.
Но.
Почему так утяжелены его конструкции и слова?
Стенанья изредка глухие раздаются,
Он плачет - но не те потоки слез лиются,
Которы сладостны для страждущих очей
И сердцу дороги свободою своей;
Но слез отчаянья, но слез ожесточенья.
“Счастливцы! - мыслит он, - почто не можно мне
Страстей бунтующих в смиренной тишине,
Забыв о разуме и немощном и строгом,
С одной лишь верою повергнуться пред Богом!”
Ведь муть в головах слушателей получается. Особенно - у привыкших к прозрачности его слога. Отторжение покаянного смысла происходить должно. Да?
И тогда здесь - вольномыслие проповедуется тайно! И вовсе не унылое.
Как это сходится с еще одним стихотворением, написанным тоже между двумя обращениями к Лиде.
В. Л. Пушкину
Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах,
Вдали забав и нег и граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В тибурских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,
Не ведают
что скука, страх;Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.
Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая молва;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!
Странное название объясняется комментарием. Стихотворение - ответ на письмо дяди, Василия Львовича, отговаривающего племянника от службы в армии.
Но посмотрите, чем Пушкин мотивирует!
Ну, предположим, что он изверг и не врет, что война, пожары, кровавые поля восхитительны по живости картины. Для глаза. Победителя. А рыцарские удары? Хороши наносящему их, или получающему? - Похоже, что и получающему. Вон: краткость жизни - завидна. Очевидно - краткость своей жизни. Завидно, видите ли, в гусарах отсутствие мудрости. Видимо - не военной. Полудикая жизнь хороша. В шатрах... Человеку, чуть не шесть лет проучившемуся в царскосельском лицее...
Да можно ли этому поверить!?
Верно. Нельзя.
Вернее, можно. Как одному из пары противочувствий. То есть можно поверить этой философии силы, этому русскому предшественнику Ницше. Написано-то здорово. Если не быть зашореным - можно и поверить и удовольствию жестокости, и бесстрашию к смерти.
А вот и противо-чувствие: “бессмертный трус Гораций”. Трусил, но прославился не воином, а поэтом.
В чем же катарсис, в чем художественный смысл?
Нужно знать о судьбе Горация.
Он участвовал в борьбе за республику, командовал легионом в битве при Филиппах. Битва была проиграна и Гораций с легионом бежал с поля боя. Потом республиканцы собирались в других местах для продолжения борьбы. Но Гораций понял, что дело республики проиграно окончательно. Так оно и оказалось. Была объявлена амнистия. Гораций вернулся в Рим. Там, под Римом, точнее, под Тибуром, в тибурском, видимо, лесу, горюя, Гораций и стал впервые слагать стихи.
Образованным людям пушкинского времени это было известно. И от столкновения указанных противочувствий от стихотворения рождался катарсис на политическую тему.
Чем было в России “гусарство” 1800-1810-х годов?
<<
Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя>> (Михайлова).Так пока Наполеон не был окончательно побежден эта вольница свою энергию выливала в патриотический подъем всего народа, поднявшегося на освободительную войну. И в этом подъеме самые сознательные понимали некий новый общественный договор: мы царю - победу, он нам - конституцию и отмену крепостничества после победы.
Но после победы время шло, шло, а реформ не было. И <<
“гусарство” 1800-1810 годов явилось... проявлением своеобразного вольнолюбия и фрондерского протеста против аракчеевских порядков в царской армии>> (Михайлова). Потом это вылилось в декабризм. А пока - “гусарство” привлекало к себе умные, горячие головы и разгульные сердца, обладателем каковых и был Пушкин.Ропот шел на подъем, как на подъем когда-то пошла поэзия республиканца Горация. И подъем в “гусарстве” сопровождался дистанцированием от царского двора и, по-прежнему, - разгулом.
Для Пушкина тут важна была смычка разнузданностей: чувственной и политической.
Таково же было и впечатление от его первой знаменитой поэмы, начатой в лицее, законченной несколько лет после его окончания и писанной, по свидетельству А. И. Тургенева, едва ли не только во время заболеваний, в том числе и венерических.
“Интимное окрашивается в тона общественного вольнолюбия”,- четко формулирует С. А. Фомичев тот катарсис, который происходит с читателем под воздействием противочувствий (как их называет Выготский), возбуждаемых действием разнонаправленных элементов поэмы: “контрастов древнего (“преданья старины глубокой”) и современного (рассказчик-современник постоянно комментирует все события), сказочного и реального (в смысле реальности чувств), высокого и комического, интимного и иронического”.Фомичев дает редкий образец анализа чтения между строк. Все люди стихийно подпадают под действие психологического закона художественности, открытого Выготским: катарсис от столкновения противочувствий. Многие интуитивно правильно “понимают” художественный смысл произведений искусства. Только не все, далеко не все (даже прочитавшие Выготского), способны отдавать себе отчет о механизме того, как это с ними сотворил художник. Сам художник это не осознает, и иначе не бывает. Иначе можно было бы научить художественности. Другое дело - аналитики.
Вот только странно, что искусство- и литературоведы (большинство, особенно литературоведы) все никак не возьмут на вооружение закон Выготского и, по инерции, все продолжают заявлять, что имеют дело с художественными произведениями, взятыми, что называется, в лоб и продолжают цитировать якобы художественный смысл их, тогда как процитировать его невозможно: он “между строк”.
Возвращаясь к Пушкину, можно констатировать, что новый поворот в изменении его идеалов - к
“общественному вольнолюбию” - произошел не под влиянием женщин.Хотя...
Екатерина Андреевна Карамзина слишком глубоко запала ему в душу (как факт: через двадцать лет, будучи на смертном одре, первого человека, кого он попросил призвать к себе, была Карамзина). Само существование ее в его жизни в качестве гармонического идеала, когда-то воспринимаемого как актуальный, могло сказаться на всем его творчестве. Как, впрочем (наверно, в меньшей мере), и другая немыслимая влюбленность - в царицу, попечительницу царскосельского лицея, в Елизавету Алексеевну, жену Александра I (место - в Белеве, - где скончалась императрица Пушкин специально посетил в 1829 году, когда у него, желающего, наконец, жениться, был - по Аринштейну - <<
период “сентиментальных путешествий”, как метко назвала их мать поэта>>).А Пушкин был цельный человек и, если какую женщину любил,- пусть и недосягаемую,- то не мог спокойно переносить возле нее другого. Например, Александра I, тем более, что - это всем было известно - тот изменял жене (и поэту было естественно стать в оппозицию к монархизму и крепостничеству).
Сказки
Noёl
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспо`т.
Спаситель горько плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
“Не плачь, дитя, не плачь суда`рь:
Вот бука, бука - русский царь!”
Царь входит и вещает:
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли”.
От радости в постеле
Распрыгалось дитя:
“Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?”
А мать ему: “Бай-бай! закрой твои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши как царь-отец
Рассказывает сказки”.
Из комментариев: <<Сатирические стихи... по образцу французских “Ноэлей” (святочных песен), распространявшиеся в копиях; написаны, вероятно, в декабре 1818 г. В подобных сатирах делалось обозрение событий минувшего года. Пушкин имеет в виду открытие Польского сейма 15 марта 1818 г., на котором Александр произнес речь, обещая распространить конституционные формы правления на всю Россию. В сентябре состоялся Аахенский конгресс... Здесь... была подписана декларация о будущей политике в духе Священного союза, о поддержании существующего порядка и об охранении народов от “увлечений”...>>
И другой пример: самого` глубокоуважаемого им Карамзина не пощадил Пушкин, может, и из ревности, и - так же естественно было выступить ему против карамзинского смирения перед монархией и крепостничеством. И когда, в начале 1818 года, вышла в свет “История Государства Российского” Карамзина, появилась - распространявшаяся в списках и подписанная всегда именем Пушкина - такая эпиграмма:
В его “Истории” изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
Теперь, после реставрации капитализма, заметно желание как можно более обелить Пушкина перед эксплуататорами. В “Летописи жизни и творчества...” (1999 года) отмечено лишь, что Пушкин в 1826 году отказался от авторства и ссылаются на его письмо. Но не ссылаются на Томашевского, с железной логичностью доказавшего: <<
Это так похоже на отречение от собственной эпиграммы, признаться в которой почему-либо неудобно>>. Томашевский только постеснялся раскрыть, что это за неудобство. Эпиграмма эта, написанная, по пушкинскому же признанию, <<в такое время [Томашевский доказал, что это за время: еще лицейское, когда содержание “Истории” стало известно Пушкину-лицеисту и когда тот посмел написать любовную записку Карамзиной], когда Карамзин меня отстранил от себя...>>.Я должен признаться, что чтение между строк дается мне, большей частью, с большим трудом. Надеюсь, что это не из-за ошибочности самого подхода, а из-за недостатков моего ума, чуткости и образования. Публицистическую поэзию (вышеприведенные сатира и эпиграмма - ее образчики) я вынужден вообще относить к предназначаемому для чтения принципиально “в лоб” искусству, к агитационному, плакатному. Ну, ладно. Публицистика вообще это уже на грани искусства.
Но я вынужден считать, что содержится минимум подтекста, что минимум размещается “между строк” в произведениях тех стилей, которые воодушевляются точным (по мнению авторов) знанием о своем идеале. Одним из таких стилей является гражданский романтизм в России начала XIХ века. (Так называть его у нас, на постсоветском пространстве, теперь, в эпоху реставрации капитализма, считают повторением греха советской науки и переназывают его пережитком эпохи Просвещения.
)И если,- а мы условились достижимый чувственный индивидуалистический идеал называть низким,- идеалу просвещенного “гусарства” суждено было изменяться, то изменялся он, революционизируясь, в сторону чего-то общественно ориентированного, более высокого и выражаемого все менее подтекстно - в произведениях искусства своих представителей. У Пушкина - тоже. И - не без влияния любимых женщин.
К Н. Я. Плюсковой
(Плюскова - фрейлина императрицы, <<
вдохновившая - по Фомичеву - Пушкина на стихи через посредство Карамзина, близкого к кружку императрицы, находившейся в то время в опале и известной своей благотворительностью и отрицательным отношением к эксцессам русского деспотизма>>.)На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елизавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.
<<
Несомненно, прославление кроткой императрицы Елизаветы Алексеевны, внушавшей поэту искреннюю симпатию, тем не менее имеет особые цели. Первая из них давно выяснена: хвала императрице - это прямой укор ее супругу, Александру I, о котором поэт молчит потому, что он может петь лишь “на троне добродетель С ее приветною красой” - качество, чуждое “кочующему деспоту”.Но и при этом явственном намеке хвала кажется чрезмерной, а финальная формула, которая используется ныне в качестве точной автохарактеристики пушкинской поэзии... слишком патетичной. Если же учесть противопоставленность этой формулы посвящению к карамзинской “Истории государства Российского”, то патетика становится оправданной - ср.: “Государь! если счастье Вашего добродетельного сердца равно Вашей славе, то Вы счастливее всех земнородных. <...> Бодрствуйте, монарх возлюбленный! Сердцевед читает мысли, история передает деяния великодушных царей и в самое отдаленное потомство вселяет любовь к священной памяти. Примите милостиво книгу, служащую тому доказательством. История народа принадлежит царю”.
>> (С. А. Фомичев).Пусть Фомичев прав, что здесь скорее общественное рождало у Пушкина
такой пафос (хоть и Фомичев считает это стихотворение свидетельством того, <<как зыбка в пушкинской поэзии была грань между “интимным” и “общественным”>>). Пусть эти возвышенные любови (к Карамзиной, к императрице) были уже в прошлом. И пусть не влияли они на возвышение идеала тогдашнего Пушкина непосредственно и живо. Зато была в то время у поэта и актуальная возвышенная и неосуществимая во всей полноте любовь (параллельно со всеми его похождениями по борделям и шлюхам) - была любовь к трагической актрисе Екатерине Семеновой, знамени “левого фланга” в театральном партере, из которого мобилизовались участники “Зеленой лампы”, созданной декабристским Союзом Благоденствия. Семенова была <<...(тоже, кстати, старше Пушкина лет на пятнадцать)... поклонников у нее было не счесть, но она сама счастливо жила с князем И. А. Гагариным и никого другого благосклонностью не дарила>> (Аринштейн). Была любовь к княгине Авдотье Голицыной (тоже на двадцать лет его старше и, хоть и жившей без мужа, но о которой князь Вяземский,- не стеснявшийся в выражениях относительно пушкинского беспутства и хорошо знавший и похождения Пушкина, и Голицыну,- писал, что “устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния. Но эта независимость, это светское отщепенство держалось в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отменяла чистой и светлой свободы ее... хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения”.Вот Пушкин и начинает свою знаменитую оду “Вольность”, за которую его потом сослали, чем-то прямо противоположным гедонистическому разгулу:
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!..
[Цитера - остров в Греции, на котором находился храм, посвященный богине Венере.]
...Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.
А то,
что он послал своей любимой вместе с одой, говорит лишь о гармоническом идеале его: отдать руку и сердце прекрасной единомышленнице о свободе народа. Это как у Шекспира, когда он был еще представителем Высокого Возрождения (а не маньеризма, каким потом стал): <<У Шекспира любовь - это социальная сила... Она вовсе не подменяет собой участия в жизни общества, как это произошло в романтической литературе более поздней эпохи... [и] начинало происходить и в произведениях... современников Шекспира [да и у самого Шекспира, более позднего. У тех]... любовь предстает... как пережиток царства необходимости... как некий каприз или фатальная неизбежность... [они] прибегают к изображению полового влечения... [не находя] иных мотивов для... сближения своих героев, живущих в обществе, в котором нет более почти ничего, что могло бы сблизить людей>>. У Шекспира же возрожденца <<внешне сближение [например] Беатриче и Бенедикта - результат проделки их друзей; на самом же деле их сближает непреодолимое стремление встать на защиту жертв несправедливости>> (В. Дж. Кирнан). Вот так и у Пушкина в период его собственного,- а может, и всей русской литературы,- так сказать, Высокого Возрождения...Кн. Голицыной
ПОСЫЛАЯ ЕЙ ОДУ “ВОЛЬНОСТЬ”
Простой воспитанник природы,
[низкого]
Так я, бывало, воспевал
Мечту прекрасную свободы
[
от брака]И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю.
И что же?.. слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
[найдя живым свой новый идеал, гармонический]
Неволю сердцем обожаю.
Это было немыслимо: ей - развестись с мужем и выйти замуж вторично за... восемнадцатилетнего юношу. Но он пел. Пел свой новый идеал, сталкивая заглавие (кому!) и что! (предложение руки и сердца).
И жизнь подвергла его колоссальному искушению.
Глава 3
К гармонии, и - крах.
Он встретил в свете где-то через год или более свою первую любовь, графиню Наташу Кочубей. Красавицу. Она была лишь на год младше его... И еще не замужем... И у него теперь был такой идеал, что он мог бы, в принципе, и жениться...
И она его просто отвергла.
И он лишился дара творчества
* (Губер).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - По Лотману получается, что “одна из самых горьких минут” жизни Пушкина наступила от политических доносов завистников и клеветы, что, мол, его секретно, по приказанию правительства, высекли. Тогда как у него вообще было обостренное чувство собственного достоинства. Настолько обостренное, что выйдя из лицея он много раз посылал вызовы на дуэль и пару раз доходило и до “поля чести”. А в этот раз “Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою уничтоженной”, и метался между двумя намерениями: “покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни”. Отсюда шаг до вывода читателями Лотмана, что оттого и произошел творческий спад.
Все логично.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 мата 1819 г. Губер считает какой-то значимой датой в этой любви, судя по тому, что она два раза повторена (один раз в заглавии, другой - под прерванными стихами) в двух набросках (раннем и позднем). Стихи, вроде, о памятнике в царскосельском парке в честь победы Румянцева над турками в 1770 году при Кагуле, а на самом деле - любовные.
Элегия
Воспоминаньем упоенный
С благоговеньем и тоской
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный.
Не смелый подвиг россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский великан
Меня воспламеняют ныне...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Почему, по Губеру, любовная эта элегия? - Из-за слов “С благоговеньем и тоской” и из-за многих точек. И потому еще, что графиней Натальей Кагульской, зашифровав фамилию (графинь с такой фамилией в России не было), назвал ее больше чем через шесть(!) лет, в мае 1825 года, друг Пушкина, Н. Раевский, в своем письме поэту. Раевский писал о ее родителях, которым он читал “Онегина”. А за девять дней до этого Раевский написал брату, что представлялся Кочубеям. Значит, Кагульская - это Кочубей. А “Элегия” Кагульскому памятнику - по поводу нее написана.
Почему оборвана эта элегия? - Потому что Пушкин в то время уже не в силах был писать о конкретном предмете, связанном с Наташей.
Подвергать эту вещь синтезирующему анализу - осмыслению катарсиса от столкновения противочувствий, порожденных противоречивыми элементами ее, - нельзя. Она - отрывок. Но видеть в самой заброшенности ее след творческого кризиса - можно. И как ни нельзя принимать в лоб, а тем более - применять к биографии пушкинские слова из его художественных произведений, но все-таки - чего это он (как заметил Губер) написал впоследствии такое о себе в первой главе “Евгения Онегина”:
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке следуя во след,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.
И Губер дожимает: “
Мы знаем несколько случаев, когда творческая способность временно оставляла Пушкина. Но ни разу упадок творческих сил не был так глубок и резок, как в начале 1820 года”.Между “Элегией” и действительно скудным перечнем стихов первой половины 1820-го года в полном собрании сочинений стоят в “Содержании” добрых два десятка стихотворений. Какой же тут упадок?- спросите.
Вы правы. Но. Много в тех двух десятках заброшенных набросков, вещей в две-три строки. Вообще, если посмотреть по строкам, так в первые три месяца 1819 года написано под 600 строк, а в оставшиеся девять месяцев - лишь чуть больше 60-ти.
Наконец, Пушкин,- это заметили многие,- часто датами пользовался как символами и ставил их под стихотворениями не по времени написания, а в ознаменование чего-то. Что если и здесь он написал (30 марта) дату гораздо более раннюю, чем настоящая дата написания “Элегии”. И тогда правы ли составители “Летописи жизни и творчества...” (даже и в ее новейшей редакции 1999 года), когда поставили “апрель” против упомянутой “Элегии”? Пусть и с вопросительным знаком... А не - “не раньше апреля”. А главное, почему не соотнесли с ней работу Губера!?.
Оказалось, Губер - персона нон грата среди авторитетов. Я прочел отклики на его книгу и вынужден признать: они верны во всех претензиях к нему. Но что делать! Самую большую биографическую проблему: утаенную любовь Пушкина, к которой мы сейчас, читатель, подошли, - пушкинистика все равно не решила.
Зато никто не опроверг кагульскую находку Губера. (Впрочем, такие слова Томашевского, как <<
толкуя вкривь и вкось литературные произведения, выуживая в них отсутствующие на деле биографические намеки...>>, можно отнести и к кагульской находке. Но я переживу.)Затем. Лично на меня производит большое впечатление тот факт, акцентируемый Губером, что Пушкин Плетневу сам сказал, что описал Наталью Кочубей в той сцене “Евгения Онегина”, когда вернувшийся из путешествия Онегин встречает Татьяну на светском рауте. Все помнят, какое впечатление произвела на Онегина его давнишняя сельская знакомая: он без памяти влюбился. Не списал ли это Пушкин с себя и Наташи, которую он с отрочества не видел и вдруг?.. <<
...жена Николая I, в своих мемуарах рассказывает: “Теперь приспело время поговорить о семье Кочубеев. Они находились в отсутствии в течение нескольких лет и лишь в 1818 г. граф, графиня и их красивая дочь Натали были мне представлены в Павловске”... Немедленно после этого,- вмешивается Губер,- “красивая Натали” конечно начала выезжать и, вероятно, встречалась с Пушкиным в обществе>> и потрясла его, как Татьяна Онегина.Только Губер в связи с “утаенной любовью” обратил внимание на свидетельство Плетнева.
Впрочем, слова Брюсова: <<
весьма часто автор [Губер] оперирует доводами: “по-видимому”, “надо думать”, “быть может” и т. п. Особенно много таких доводов в той части книги, где автор... выставляет собственную теорию>> - иллюстрируются и приведенной выше цитатой. Но я и это переживу. И заступлюсь.<<
Отношение Пушкина к личности [Наташи Кочубей] Строгановой [по мужу] показывает анализ его “Программы записок”. Под датой “1814” Пушкин сперва вписывает “Первая любовь”, потом зачеркивает этот пункт, а под датой “1813”, после слов “Государыня в С.<арском> С.<еле>” над строкой вписывает “Гр. Кочубей”. При этом, нам кажется, изменяется функция этого образа в будущих Записках Пушкина. Как предмет увлечения он вводит ее в программу под 1814 годом. Затем “Первая любовь” заменяется просто именем. Позднее Пушкин напишет, что в его Записках будут собраны “лица, достойные замечания”... В “программе” перед нами проходит галерея таких лиц: А. И. Тургенев, В. Л. Пушкин, И. И. Дмитриев, Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов, Александр I, В. Ф. Малиновский, А. П. Куницын, Аракчеев, императрица Елизавета Алексеевна, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, М. Ф. Орлов, И. П. Липранди и др. К “лицам, достойным замечания”, относилась, по-видимому, и Н. В. Кочубей. Место “первой любви” занимает знакомство с девочкой, неординарный характер которой будет привлекать Пушкина всю жизнь>> (Иезуитова, Левкович).Да. Включенная сюда императрица играла политическую роль для декабристских кругов, и об упоминавшемся здесь стихотворении “К Н. Я. Плюсковой” <<
есть все основания полагать, что... Ф. Н. Глинка... использовал эти стихи для своей агитации>> (Фомичев). Да. Только императрица и Наталья - женщины в этой программе, а “любовь” - вычеркивается. Да. Программа уходила от сердечных дел.Но зато как высоко Пушкин поставил Наталью! Видать, очень хорошо ее знал, а значит, много говорил, в том числе и в Петербурге после ее там появления. <<Пушкин встречался с нею в великосветском Петербурге [конечно, это может было и после ссылки, но все-таки] и, наиболее часто, в доме Карамзиных... “Она одно из его отношений”, “притом рабское”,- писала Карамзина... незадолго до смерти Пушкина>> (Иезуитова, Левкович).
Так я все это тут привел не только, чтоб продемонстрировать, что не ахти как ученые (и поименитее Губера) стесняются в области этой неточной, все-таки, науки применять вводные слова, выражающие оценку неуверенности, но и чтоб намекнуть, какое исключительное место в сознании Пушкина занимала Наталья Кочубей.
Уже после того, как я вот это написал, перелистывая мой том Пушкина, я наткнулся на стихотворение, явно навеянное Наташей:
O Zauberei der ersten Liebe!
Wieland
*------------------------------------------
---------------------------------------------
Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,
Ступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень. -
И для меня воскресла радость,
И душу взволновали вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь.
Любовник муз уединенный,
В сени пленительных дубрав,
Я был свидетель умиленный
Ее младенческих забав.
Она цвела передо мною,
И я чудесной красоты
Уже отгадывал мечтою
Еще неясные черты,
И мысль об ней одушевила
Моей цевницы первый звук
И тайне сердца научила.
В комментариях читаю : <<Стихотворение вызвано впечатлениями посещения Царского Села. Она - гр. Н. В. Кочубей...>> И я вспомнил, что читал уже об этих стихах в связи с Наташей у Губера. И подумал: как он осторожен, не опираясь на это стихотворение 1818 года и говоря, что “вероятно” Пушкин с Наташей виделись после ее представления в 1818 же году жене Николая.
Я не отличаюсь такой осторожностью. Я опираюсь не на архивные первоисточники о встречах или их невозможности (я только доступными мне ссылками на них проверяю себя). А опираюсь я на то, что нахожу между строк пушкинских творений. А сейчас собираюсь опереться на то, что между соседними творениями.
Следующее после вышеуказанного стихотворения в моем томе стоит “Мечтателю” (по “Летописи...” оно родилось перед “Дубравами”), которое <<обращено к Кюхельбекеру, который был влюблен в... и (как со слов Плетнева сообщил Анненков) “утверждал, что не ищет взаимности и доволен чувством своим. Пушкин не понимал этого изворота сердца, ищущего успокоения в обмане, и отвечал на него своим стихотворением”>>.
Мечтателю
Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить,
Напрасным пламенем томить воображенье
И в сердце тихое уныние таить.
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья, -
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья!
Нет, нет! в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, исступленный
Тогда б воскликнул ты богам:
“Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой!
Довольно я любил; отдайте мне покой!”
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.
Конечно, вполне возможно, что у Пушкина, негритянского все же потомка, и у Кюхельбекера - немецкого - разные были темпераменты, и один другого мог не понимать. Но не могло так быть с человековедом гением Пушкиным. Он сам два или больше лет тому назад, после отъезда Бакуниной из Царского Села, страдал точно такими же переживаниями, как теперь Кюхельбекер. И удовлетворялся красотой своей дорогой души в этих переживаниях и передачей этой красоты красивыми стихами - людям:
...И ты со мной, о лира, приуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печален звон глухой
И лишь любви ты голос не забыла!..
О верная, грусти, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напевы
Изобразят уныние мое,
И, слушая бряцание твое,
Пускай вздохнут задумчивые девы.
Так чего это он теперь так распалился против умеренности Кюхельбекера? И чего это он распалился так - сразу после своей собственной умеренности в предшествовавших “Мечтателю” стихах о первой любви? - Не оттого ли, что Наташа Кочубей стала вновь актуальна? И не просто эмоциональные воспоминания о первой любви были у него при посещении Царского Села... А, как всегда, нельзя верить одному из пары противочувствий. Чего? - На этот раз - цикла из двух стихотворений. “Мечтатель” вопит о негативном, об острой и мрачной - в своей вечности - неудовлетворенной любви. “Дубравы...” же передают воскресшую (значит, не бывшую вечно актуальной) довольно тихую радость первой любви. А “геометрическая сумма” их дает вспыхнувшую вновь могучую любовь к вечному, получается, своему объекту.
Видно, в 1818 году было еще далеко до краха. И Пушкин - писал и писал, что ускользнуло от самого Губера, привлекшего “Дубравы...”. Зато не ускользнуло от него, что с Пушкиным стало, когда крах случился.
Как хотите, а я не могу плохо относиться к Губеру. Главное ведь в чем? Никто, кроме Губера, не связал с утаенной любовью глубочайший творческий кризис в конце петербургского периода.
Настроения в его стихотворениях - связывали с какой-то “северной любовью”. А творческий кризис - нет. Только Губер.Наконец, я позволю себе привести довод вроде губеровского, который у Губера никто не раскритиковал.
Есть так называемый “донжуанский список” Пушкина - салонная шутка: в альбоме одной из девиц Ушаковых поэт незадолго до женитьбы на Наталье Гончаровой перечислил имена женщин, которых он любил в своей жизни: очень глубоко (первый список) и не очень (второй). И есть одна странность в первом списке. Повторяющиеся имена Пушкин пронумеровал римскими цифрами после имени. А два имени “Наталья”, начинающее и кончающее первый список, не пронумерованы. Губер, считал первую Наталью - крепостной актрисой, которой посвящено самое первое дошедшее до нас стихотворение Пушкина, еще 1813-го года. Последнюю - Натальей Гончаровой, в которую он был влюблен, когда писал эту салонную шутку и к которой сватался в это время. А третья Наталья (четвертая по списку) должна была бы быть, по Губеру, Наталья Кочубей, ибо этот список довольно хорош в хронологическом смысле. Но ее имя Пушкин захотел, мол, утаить - она была особая любовь. Вот он и написал “NN”. И двум Натальям вообще не придал римских цифр (I и III): чтоб не разгадали, что NN - Наталья II. Она - из ряда вон, и никто не должен угадать, кто это.
Никто, кроме Губера, не объяснил отсутствие римских цифр после двух имен “Наталья”.
Ну, так мало вероятно, по-моему, чтоб Пушкин в перечень глубоких увлечений включил крепостную Наталью, с которой он просто лишился невинности и над актерской бездарностью которой он прямо поиздевался в 1815 году в стихотворении “К молодой актрисе”.
Зато есть вот какое свидетельство Пушкина о себе, женихе, всегдашней своей доверительной собеседнице: <<
Первая любовь - всегда является делом чувствительности: чем она глупее, тем больше оставляет по себе сладостных воспоминаний. Вторая, видите ли, - дело чувственности...>>То есть Наталья Кочубей должна была явиться Пушкину в двух ипостасях: как первая любовь и как не первая и чрезвычайная. Так как было ему поступить с нею в списке? Не писать ее второй раз, раз она уже записана первой по счету? Или написать, по хронологии, второй раз, и поставить римскую цифру II? - И то и то плохо. И он второй раз ее записал “NN”, а римских цифр остальных Наталий лишил
.Мне очень импонирует гипотеза Губера о Наталье Кочубей, как исключительной и потому
* утаенной------------------------------------------
*- Есть версия, что NN - императрица, которую уж никак нельзя было, чтоб расшифровали. Есть версия, что жена Карамзина - уж, больно стыдно было, мол, поэту за эту страсть к жене столь уважаемого им человека Я их игнорирую, как не связывающиеся с творческим кризисом конца 1819 - начала 1820 годов.
-----------------------------------------
любви. Перефразируя известное выражение, можно сказать: если б ее не было - нужно было б ее придумать
**.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** - По Лотману, Пушкин впоследствии так и сделал с “таврической любовью”, мистифицировав утаенную страсть для создания “вокруг своей лирики и личности ореола таинственности”, в которую “существенной частью входил мотив вечной... не получившей ответа любви. Позже Пушкин иронически упомянул его в числе обязательных атрибутов романтического мира...” И понимать можно, что ранее то же он мог проделать и с “северной любовью”.
Только хочется возразить. “Позже” - это не “ранее” и не ”сейчас”. А величайшие романтики, открывшие романтизм чуть до Пушкина (Жуковский, например) - на самом деле имели-таки в своей жизни такой печальный опыт (Маша Протасова). И как ни гениален Пушкин, но естественнее думать, что и он его имел, а не начисто выдумал.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потому что, что за передряги ни творились с Пушкиным непосредственно перед его глубочайшим творческим кризисом и ссылкой,- нужна была еще и любовная катастрофа, чтоб кризис этот был так глубок.
А что нелюбовное могло привести к кризису? Логика крутого изменения идеала, обычно осложняющаяся творческим кризисом, требует однозначного ответа: какое-то разочарование в нарождавшемся декабризме вызвало кризис. Редкие в те месяцы стихи - подтверждают эту логику.
К портрету Чаадаева
Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он - офицер гусарский.
Истинный художник не может творить не по закону Выготского, когда бы этот художник ни жил: после или до того, как жил Выготский, и вне зависимости от того, открыл бы Выготский этот психологический закон или нет. Такова уж стихия художественности. Она закономерна, так же, как закономерно, например, притяжение тел друг к другу вне зависимости от того открыл эту закономерность Ньютон или не открыл.
Что ж за противоречия стихийно столкнул в этом стихотворении Пушкин и что от этого получилось? - Здесь, по выражению Б. Тарасова, мы имеем <<несоответствие личных качеств и притязаний адресата [Перикл и Брут - республиканские вожди в Древней Греции и Риме] реальным обстоятельствам его существования [Чаадаев - офицер на царской службе], что, видимо охлаждало его “вольнолюбивые надежды”>>. Если раньше <<более радикально настроенный Пушкин призывал друга в хрестоматийном послании отрешиться от сомнений:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!>> -
то теперь он отказывается от каких бы то ни было призывов. Идеал исчез. Исчезло, значит, и его изменение. Скорость изменения идеала - как наклон кривой, бегущей, скажем, слева направо вдоль горизонтальной оси времени; скорость изменения идеала - как наклон (в каждой точке этой кривой) к этой горизонтальной оси. В точках перегиба этой кривой - синусоиды - наклон к горизонтальной оси нулевой. Изменение идеала временно отсутствует. Отсутствует временно и сам идеал.
Что ж конкретно могло разочаровать Пушкина в нараставшем дворянском движении? - Может, неразборчивость средств в революционной пропаганде (более замкнутый и конспиративный Союз Спасения летом 1818 года был сменен Союзом Благоденствия, ориентированным на пропаганду). Например, распространение за пушкинской подписью <<
глупых и бешеных>> (его собственные слова) эпиграмм, не им сочиненных, что бесчестно; например, размножение его оды “Вольность”, написанной им во имя конституционной монархии, с не его прозаическими экстремистскими призывами. И раз так, то что ж, мол, будет, когда от слов перейдут к делам, если уже сейчас такие перегибы.Какое-то время при отсутствии идеала, мы видим, можно еще создать одно-другое не упадническое по форме произведение. А потом наступит творческая пауза (так вскоре и случилось).
Но только политика не могла
столь глубоко, как в 20-м году, поразить творческую способность такого многогранного и жизнелюбивого человека, как Пушкин. Позорящая клевета, мол, высекли - конечно очень существенна. Но нужна была и несчастная возвышенная любовь и не к прекрасным женщинам лет на 15-20 его старше, а к ровеснице, к той, что называется, пара ему. Из ряда вон выходящая любовь (Пушкин бы женился), какую и внушила ему вновь встретившаяся Наташа Кочубей.Он и Катю Бакунину - еще до встречи с Наташей Кочубей - после окончания лицея пару раз встречал; раз был зван на ее именины. И каждый раз находила на него прекрасная хандра, как в лицее, когда он много месяцев только унылые элегии и писал. И каждый раз он слегка приспускался со своего идеала
общественного вольнолюбия к идеалу упоения своей душой и - написал стихотворения “К ***” (“Не спрашивай, зачем унылой думой...”) и “К ней” (“В печальной праздности я лиру забывал”). Но все-таки - написал, а не был глуп и нем.Посмотрим же на те конвульсии, что все-таки вышли из под пера Пушкина периода большого упадка.
Дориде
Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.
Начало 1820 года.
Здесь противоречие в первой же строке: “я верю” и “нужно”. То же с сочетанием “стыдливость... харит”. Да и “небрежность” - что-то сомнительное качество, чтоб выводить из него, что “все непритворно”.
Впрочем, относительно “харит” не все гладко. В современных словарях есть противоположные нюансы значения этого слова. Так, в издании “Мифы народов мира” написано: “
В мифах о харитах заметна их связь с... упорядочением человеческой жизни, трудовой и художественной деятельности”. О грациях, синониме харит: “...они упорядочивают жизнь человека, вносят в нее установленную периодичность, наблюдают за ее законным течением”. У Брокгауза и Эфрона распространяемое ими веселье “относится не к области чувственной жизни; наслаждения музыкой, танцами, поэзией, красноречием приобретают, благодаря [им], особую прелесть и красоту”. - Зато в БСЭ: “В переносном смысле - красавицы, обладающие всеми совершенствами (иногда с ироническим смыслом)”.Что же у Пушкина значат эти хариты?
До этого стихотворения он применял слово “хариты” несколько раз. “Философ резвый и пиит,/ Парнасский счастливый ленивец,/ Харит изнеженный любимец...”- так начинается “К Батюшкову”. А кончается: “Мирские забывай печали,/ Играй: тебя младой Назон,/ Эрот и грации венчали...”. Так вспомнить, помимо Эрота, что Назон (Овидий) прославился и тем, что воспевал желание покрыть всех женщин, что ни есть на свете...
“Вот и музы, и хариты/ В гроб любимца увели...” Это в “Гробе Анакреона”. Так сам Анакреон это древнегреческий поэт, прославлявший исключительно пиры, любовь и веселье...
“Дитя харит и воображенья...” - в стихах “К живописцу”. Так там такое раздевающее воображение описывается...
“Возможно все тебе - харита/ Улыбкой дряхлость победит,/ С ума сведет митрополита/ И пыл желаний в нем родит...” - “К Огаревой”. Без комметариев...
И уже в самом 1819 году, когда катастрофа началась: “И ты на миг оставь своих вельмож/ И тесный круг друзей моих умножь,/ О ты, харит любовник своевольный...” - “Послание к кн. Горчакову” - в ответ соученику на увещевания остепениться...
Везде здесь больше подходит иронический смысл, зафиксированный в БСЭ.
В “Словаре языка Пушкина” значение слова “хариты” не раскрывается. А это обозначает,- так оговорено в словаре,- что слово “
совпадает по своему смыслу с современным его употреблением”. Конечно, это не отменяет своеобразия слова, которое оно приобретает в контексте целого произведения, в нашем случае - в “Дориде”. Но, похоже, можно больше не сомневаться, что Пушкин столкнул здесь “стыдливость” и “харит”.И что же следует из этого (и других) столкновений? - А то, что лирический герой все-таки не верит спасительной соломинке, тому, что нужно его сердцу: взаимности хотя бы от такого невозвышенного существа, как Дорида. Да и о своих чувствах он молчит тут. И они сомнительны в ценности. - Нет у автора идеала.
(Косвенным подтверждением, что художественный смысл именно такой, а Дориде он таки не верит, являются слова, написанные через несколько месяцев в “Эпилоге” к “Руслану и Людмиле”: “...Измены ветреной Дориды...”)
В “Дориде” не то, что было еще сравнительно недавно, в конце 1818 года:
Прелестнице
К чему нескромным сим убором,
Умильным голосом и взором
Младое сердце распалять
И тихим, сладостным укором
К победе легкой вызывать?
К чему обманчивая
нежность,Стыдливости притворный вид,
Движений томная небрежность
И трепет уст и жар ланит?
Напрасны хитрые старанья:
В порочном сердце жизни нет...
Невольный хлад негодованья
Тебе мой роковой ответ.
Твоею прелестью надменной
Кто не владел во тьме ночной?
Скажи: у двери оцененной
Кто смелой не стучал рукой?
Нет, нет, другому свой завялый
Неси, прелестница, венок;
Ласкай неопытный порок,
В твоих объятиях усталый;
Но гордый замысел забудь:
Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь!
Неси другим наемны узы,
Своей любви постыдный торг,
Корысти хладные лобзанья
И принужденные желанья,
И златом купленный восторг!
Как должен бы относиться опытный порок,- как себя называет лирический герой,- к попыткам проститутки его “нравственно” морочить? - Иронично, не более. И просто хладнокровно потребовать грубого скотства.
А здесь? - Он же гневается. Что: он оскорблен, что его приняли за неопытного? - Нет. Что-то слишком он завелся.
А просто тут опять столкновение противоречащих друг другу элементов, чтоб вызвать противочувствия и последующий от их аннигиляции катарсис: обнаружение высокой нравственности идеала сочинителя данной коллизии.
И этот катарсис в нас получается потому, что у поэта - вдохновение, со включением подсознания, а не из-за технического расчета умельца по катарсису. Поэтам, наверно, даже вредно знать о психологическом законе художественности по Выготскому.
Раз со мной был такой случай. Умер мой сослуживец, подчиненный. Неожиданно для всех умер. Молодой. Скрывал свою смертельную болезнь. А я его ругал еще так недавно за какую-то провинность... Кто б мог подумать?.. Увлекался эстрадой... Я почувствовал угрызения совести и написал некролог для доски объявлений (а закон Выготского уже был мне знаком, и я его применил), а потом меня еще попросили выступить и над гробом у могилы.
И я столкнул в некрологе и в речи: молодость всего нашего коллектива - с необходимостью хоронить все же нашего сверстника, молодость сотрудника - с его смертью, его жизнерадостность - со смертельной болезнью, нашу нечуткость к нему - с его гордой обреченностью и т. д.
После того, как некролог был вывешен, ко мне подошел близкий товарищ, человек сильного характера, и, скрывая волнение, с трудом произнес: “Прочитал... Я бы хотел, чтоб и на мою смерть некролог писал ты”. А назавтра после похорон я случайно подслушал о себе: “Когда он стал говорить, я вдруг чувствую: что такое?! - слезы у меня из глаз - кап-кап-кап. Что мне было до
** ? Я его и не знала, собственно...”Впрочем, мне стоило здоровья, пока я написал некролог и речь. Несмотря на знание закона Выготского.
Но - вернемся к почти онемевшему Пушкину. Вот еще одно из его редких в начале 1820-го года стихотворений.
Мне бой знаком - люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет, свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.
Что он “сказал” этим (а сказано тут по поводу начавшейся Второй Испанской революции)? Что “сказал” этот обиженный
словом революции поэт? - Может, что он, “свободы верный воин”, привержен делу революции?Вы помните, как его манило гусарство за слитность разгула и вольнолюбия и как это повернуло его к идеалу общественного вольнолюбия, закономерно эволюционировавшему к отрицанию чувственного разгула? Ну так вот: революция началась. И, коль скоро ты соотносишь себя с нею (“свободы верный воин”), то будь на высоте задачи, жертвуй собой (хоть виртуально, в воображении, как это сделает в будущем твой Сильвио в “Выстреле”, плюнув на свой интерес и уйдя, как Ипсиланти, к восставшим в османской Молдавии).
Ан нет. Опять - столкновение. Он, видите ли, готов на войну из глубоко эгоистических побуждений: вернуть, да что там вернуть - дать настоящую жизнь может только близость к смерти. Революционный героизм сталкивается с демонизмом гальванизации чувственности.
Так о чем мечтал создатель этого столкновения? - Ему не о чем было тогда мечтать.
В таком состоянии духа он был сослан на юг. 6 мая 1820 года.
Глава 4
Спасение.
И куда был путь изменения его идеалов? - Логика говорит, что после разочарования в соборных, коллективистских (в данном случае - продекабристских) и в других подобного типа общественных ценностях люди, способные извлекать урок и от общественного отказаться, но неспособные все же примириться с самим фактом поражения, находят выход в героическом противопоставлении себя, дорогого, миру. Духовный путь Пушкина был ко много что отвергающему байроновского типа бурному романтизму.
Но... Этого не случилось.
В первые же дни в новых местах (уже в Киеве) он познакомился с молоденькой княжной Анной Гирей, крестницей генерала Раевского (она собиралась путешествовать с Раевскими на юг, на Кавказ и в Крым, а те взяли с собой Пушкина), и у него начался роман с нею (Краваль). Успешный и благотворный во всех отношениях. Она была потомком крымского хана, то есть принадлежала к высшему обществу, а это значит, была для Пушкина как бы существом высшего рода. Не то, чтоб он был сноб. Нет. Но так уж было устроено тогда, что самая интересная, образованная, утонченная женщина могла быть создана только в высшем свете, среди аристократов. Судьба подарила ему как бы вторую графиню Наташу Кочубей, но не отвергшую его.
И к Пушкину вернулась
* одухотворенная “новым” идеалом творческая способность: на Кавказе он написал “Эпилог” к “Руслану и Людмиле”. И... сообщил в нем, что творческий дар он потерял.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Лотман связывает это с тем, что Пушкин попал как родной в атмосферу семейного счастья Раевских, а вокруг, на Кавказе, был вольный мир горцев и казаков.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На самом деле, он его вновь обрел и именно потому и стал опять писать.
“Руслан и Людмила” должна была вскоре выйти, а он был теперь уже совсем не тот, кем был ее сочинитель. Вот он и сделал “Эпилог” в чем-то противоположным тому, что написал об основном корпусе поэмы Фомичев.
<<
В “Руслане и Людмиле”,- пишет Фомичев,- поэме-сказке, рисуется мир во всех отношениях гармонический.Хотя сюжет поэмы и основан на соперничестве четырех героев, хотя в конце концов торжествует главный из них, каждый из остальных тоже по-своему утешен; нашел свое идиллическое счастье мечтатель Ратмир, прощен ничтожный Фарлаф и даже гибель жестокого Рогдая смягчена сказочным мотивом:
И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла.
>>А прочтите “Эпилог”, и, хоть там тоже после бурных дней наступает затишье, но отдает оно все - утонувшей музой поэта, и, в общем, очень минорно.
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек -
И скрылась от меня вовек
Богиня тихих песнопений...
1817 - 1820
Но это уже знакомое противочувствие по Выготскому.
Не верьте ни одному из пары (всегда пары) противочувствий. Верьте тому, что является, так сказать, геометрической суммой этих разнонаправленных векторов. И сумма эта тут равна какой-то мудрости как бы американского наблюдателя. Он со стороны, спокойно рассматривает и то и другое и кивает: оба правы.
Это было уже предвестие реализма во всей его полноте. Это была новая гармония. Но не как та, что в личной судьбе в принципе могла бы осуществиться с Наташей Кочубей, на подъеме
общественного вольномыслия, а на спуске с него, зарывшегося, куда не следует. (Краваль очень психологически убедительно показывает, что Пушкин морально был готов жениться на Анне Гирей.)В общем, равнодействующая противочувствий от всей поэмы в целом - новая гармония.
Этого никто потом не понял, что Пушкин и предчувствовал, наверно, каким-то седьмым-восьмым чувством. А может, и сам еще недоосознавал, что не поймут. Но интуиция ему шептала верно. И поэтому есть и второй, и третий смысл декларируемой в конце “Эпилога” утраты способности творить. Здесь не только итог мирской суеты, равный нулю, но и (пока) сегодняшняя неудача дать об этом понять читателю вот-вот выйдущей в свет поэме с эпилогом.
Но новый идеал - родился. Поэтому, когда Пушкин - чуть позже, в Крыму - приступил к “Кавказскому пленнику”, он не просто дал в нем байронического героя, который должен был бы - будь это просто байроническая поэма - быть рупором автора (Пушкин не зря о нем
заметил: “...я... в герои романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19 века”). Пушкин не только “заставил” утопиться, героиню, <<которая,- по Фомичеву,- полюбив “европейца”, заражается его тоской, трактуемой как закономерный симптом одряхлевшего мира цивилизации>>, и потому остаться жить не должна. Пушкин не только дал романтический эпилог поэмы, <<смущавший многих критиков и казавшийся инородным дополнением к романтическому происшествию>>, а на самом деле был <<принципиально важен: в нем... запечатлено будущее вольного Кавказа, уже соприкоснувшегося с цивилизацией и тем самым обреченного на гибель>> (Фомичев). - Пушкин в этой поэме вступил в соперничество с байроновскими неистовыми поэмами и по-своему победил: как зарождающийся реалист. <<Характер героя в большей степени, чем у Байрона, если пока и не объяснен, то во всяком случае предопределен общественным воспитанием, современной действительностью>> (Фомичев). А широкое эпическое полотно вольного Кавказа, этот идеал якобы романтического автора, являясь мажорным противочувствием перечисленным выше упоениям от трагического, дает катарсис, еще более близкий к реализму: острую наблюдательность Пушкина, стоящего над схваткой, над схваткой цивилизации и дикости, каждая из которых предопределяет характер своих жителей. Авторское всеведение относительно этого предопределения есть этот “новый” идеал.Вот этой новой гармоничности как-то соответствует и некая симметричность: относительно героя поэмы - его “северной любви” и черкешенки, а также некая симметричность относительно Пушкина в жизни - русской, Наташи Кочубей и татарки, Анны Гирей.
Некая симметричность...
То же чувствуется и в первой элегии, написанной после кризиса, написанной на палубе корабля, везущего его с Раевскими в Гурзуф, где он собирался с Раевскими же пожить и возле которого, в горах, перегнавшая их Анна Гирей должна была,- по Краваль,- снять себе отдельный дом (для встреч с ним).
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
[к Анне,]
Воспоминаньем упоенный...
[Воспоминаньем о том, что было у него с Анной на Кавказе.]
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
[Наташу, потому что Анна - это оказалось
так же сильно.]И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
[Можно разорваться... между Натальей и Анной...]
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
[Он хоть угрюмый, но хорошо успокаивает. Как, впрочем, и послушный парусный корабль.]
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей;
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
[а на излете молодости женятся...]
Где легкокрылая мне изменила радость
[женитьбы (в принципе)...]
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
[полуссыльный,]
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
[он хочет теперь жить нравственно,]
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
[т. е. временем, которое всего дороже с точки зрения вот теперь остепенившегося...]
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
[златая весна, а не подруги...]
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
[от Наташи...]
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...
И некое равновесие, все-таки, эта волнующаяся стихия приносит. Некое.
Хотя точнее: она зарядила его потенциалом душевной стойкости. Это и есть “геометрическая сумма” разнонаправленностей на Наташу и на Анну.
Ведь он понимал, что за бедного, еще все-таки мало известного поэта да еще плюс к тому полуссыльного - княжну не отдадут, хоть та бы и пошла. Но княжна вернула его к творческой жизни. И он смог уже поэтически испытывать свою любовь к ней неизбежной разлукой.
К
***Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать,
И неизбежную разлуку
В уныньи робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней!
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный! будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой.
Хоть легкий шум ее шагов.
Любовь сильней горит на грани разлуки. И в этом сталкивании вопроса “зачем... разлуку... ожидать?” с фактическим смакованием - что ли? - разлуки проглядывает... демонизм, желание души испытать свои силы, которые теперь, после возрождения, кажутся самой себе могучими.
Признаться, я очертя голову взялся за это стихотворение. Книги Краваль под рукой у меня не было. Мне помнилось, вроде, что она его привлекала для иллюстрации своих мыслей об Анне Гирей. Я взялся - и получилось что-то смутно противоречащее тому, что Краваль написала об отношении Пушкина к Анне после отъезда из Крыма. По Краваль, эта любовь определила его отношения с женщинами надолго: он, мол, вел себя с ними ровно, и лишь после того, как ее выдали замуж (в 1823 году), пошли, мол, у Пушкина какие-то катастрофические одесские любови - к Ризнич, Собаньской, Воронцовой; и даже еще позже, в Михайловском, Пушкин, мол, не чувствовал себя совершенно свободным, а то бы женился на ком-то из тригорских соседок, и совсем он освободился, мол, лишь после ее безвременной смерти (в 1827 г.). То есть, по Краваль, демонизм у Пушкина прорвался только в Одессе, только после замужества Анны. У меня же - он начал прорезаться уже в Крыму, когда Анна была еще рядом, а он лишь предвидел разлуку.
А потом я заглянул в комментарии относительно “К
***”, что в моем томе Пушкина (1949 года издания), и ужаснулся. <<Стихотворение написано в Гурзуфе под впечатлением болезни Е. Н. Раевской>>. Так кто эта Е.: Елена у той был туберкулез, и она была не жилец, или Екатерина, вроде, здоровая?Я тут уже много женщин пропустил вместе со стихами, вдохновленными ими, и сделал это намеренно: они не определяли изменений идеала Пушкина. Но тут я, что называется, влип. Влюбленность (легкая, по мнению многих пушкинистов) в Елену Раевскую не могла, вроде бы, влиять так глубоко, чтоб идеал у поэта изменился и чтоб Елене в эту книгу мою попасть. А Екатерина вот-вот замуж должна была идти за Орлова..
.Что могло меня спасти? - Например, тот факт, что <<
в 1826 году, уезжая 1 ноября из Москвы в Михайловское, Пушкин написал это стихотворение приятелю В. П. Зубкову, к свояченице которого, С. Ф. Пушкиной, поэт в это время неудачно сватался. Таким образом, стихотворение было переадресовано последней>>. Значит, оно и написано могло быть не Раевской, возможно, не жилице, а Анне (ее-то довольно скорую смерть Пушкин не мог предвидеть)... Зато,- если проникнуться доводами Краваль о брачной перспективе с Анной, в какой представал Пушкину Крым, когда он плыл на корабле в Гурзуф,- о сватовстве у него с Анной разговор мог быть, и ответить она вполне могла, как черкешенка из “Кавказского пленника”, чьим прототипом, если проникнуться гипотезой Краваль, она является:Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят...
И тогда ассоциативная связь естественна между неудачным сватовством к С. Ф. Пушкиной и к, словно бы получается, Анне Гирей. Вот Пушкин и переадресовал стихотворение от одной - к другой, первой к кому он по всей форме впервые в своей жизни посватался-таки.
Оставалось только эту догадку подкрепить хоть каким-то авторитетным сведением.
Не вышло. “Летопись...” отослала к Томашевскому. И оказалось, что авторитетнейший Томашевский в 1949 году выдвинул гипотезу, что очень сильная “таврическая любовь” Пушкина (а может, и “северная любовь”) это любовь к одной и той же (так он намекает) женщине - Катерине Раевской. И, мол, Пушкин знал ее еще в Петербурге, и тоже больна была она серьезно тогда, в Гурзуфе (она тоже - с Еленой - в Гурзуф приехала, только не через Кавказ, и уже ждала в Гурзуфе прибытия путешествующую часть семьи), и Орлов (уже мужем) писал ей (сохранилось письмо) насчет вечерней звезды, которая была “ее”, а Пушкин - со своей стороны - очень нервничал впоследствии, что против его воли опубликовали в одной его элегии три строки насчет “ее” вечерней звезды (Екатерина могла быть узнана
* ).-----------------------------------------------------------------
*
- Надо отметить, что стихотворение то было не любовное.-----------------------------------------------------------------
Но. Если принять на минуту, что правы те, кто не через идеал, а более непосредственно соотносит любовные стихи Пушкина с его любовями, то рассудите сами: мог ли Пушкин, опомнившийся на Кавказе от “глубоких ран” “северной любви”, вышедший из творческого застоя ну пусть только под влиянием природы и благодетельных путешествующих Раевских, а не еще и под влиянием новой любви, плывя в Гурзуф, где, он знал, встретит Ее, старую любовь, опять,- мог ли Пушкин “с волненьем и тоской” “воспоминаньем упоенный” стремиться к Ней? Снова?
Не мог
**.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**
- Почти через 50 лет после Томашевского очень мощный удар по любым версиям “утаенных любовей” (не анализируя их) сделал Лотман, показав, как Пушкин мистифицировал современников своей утаенной “таврической любовью”. Но даже Лотман понимал мистификацию как проводимую не без намека на персоналии - на Катерину Раевскую. И... пытался доказать, что на самом деле Пушкин ее не любил.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да. Это почти дословное повторение Кагульской элегии: “Воспоминаньем упоенный / С благоговеньем и тоской”... Но 30 марта 1819 года воспоминанья его “воспламеняют”. Чем-то позитивным веет от этого слова. Видно, лишь позже он был отвергнут и впал в творческую депрессию. А теперь? Что произошло теперь, чтоб Она переменилась? - То, что он, путешествуя по Кавказу, прожил в Ее семье (путешествовавшей без Нее)? - Невероятно.
Да у него и творческого возрождения просто не могло бы произойти в путешествующей семье, где все только и думают и говорят о больной, о Ней, которая его отвергла.
Не мог он на корабле душой стремиться к ней. А вот к новой любимой - да еще если она никак не связана с Той, прежней - мог. И “с тоской” - в том числе. Потому что - к любимой и любящей. Соскучился.
По-моему, упоенным воспоминание не может быть, если любовь нанесла глубокие раны. Если, конечно, Пушкин не мазохист.
Вы поймаете меня, сказав: “Вы же сами, чуть выше, вывели, что, обретя духовную стойкость, Пушкин стал косить в демонизм поэтического испытания любви разлукой. А это ли не мазохизм?”
Вы правы. Но пойти на него, по-моему, может только человек, вышедший из духовной и творческой депрессии. А выйти из них можно лишь по принципу “клин клином вышибают”: повергнувшую ниц любовь - другой любовью.
Поэтому я не понимаю, почему стихотворение “К
***” (“Зачем безвременную скуку...”) напечатали в “моем” томе сочинений Пушкина перед “Погасло дневное светило”. Тот же Томашевский (правда, в год издания “моего” тома) нумерует “К***” четвертым номером в перечне гурзуфских стихотворений, а “Погасло...” - первым. И Мария Раевская не зря писала, что когда они плыли на корабле в Гурзуф, Пушкин всю ночь что-то сочинял. И сам Пушкин не зря писал в письме то же и именно об элегии “Погасло дневное светило”. А что в черновике ее есть следы очень большой работы и правки... Так кончить-таки он мог действительно где угодно. Но начал-то - еще до Гурзуфа.(Я потом только сообразил посмотреть на место этой элегии в собраниях сочинений, изданных после 1949 года. Там все в порядке. “К
***” - после “Погасло дневное светило...”. То есть я открыл уже открытую Америку! Но я не стал выбрасывать этого “открытия” отсюда. Оно прекрасно иллюстрирует возможности метода осознавания катарсиса от произведения и психологически мотивированного предположения об очередности его создания в ряду других, близких по времени сочинения.)Так вот. Пожив в Гурзуфе (он пробыл там лишь три недели), насладившись всем, и любовью тоже, в преддверии разлуки возможно навсегда, оценив это неким изгнанием из рая, получив новый импульс негативизма, он смог начинать поворачивать к мазохизму в элегии “К
***” (“Зачем безвременную скуку...”).Но начинать - это не провалиться..
Поэтому был еще шанс и не проваливаться.
Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной,-
Мне вас не жаль, о таинства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной.
Мне вас не жаль, неверные друзья,
Венки пиров и чаши круговые,
Мне вас не жаль, изменницы младые,-
Задумчивый, забав чуждаюсь я.
Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины?
Где прежний жар и слезы вдохновенья?..
Придите вновь, года моей весны!
Так все-таки как: “не жаль” или “придите”? - Ни то, ни то, а “геометрическая сумма”: ноль, некая симметрия. Это как опять нулевой наклон кривой идеалов к горизонтальной оси времени, это перед поворотом спускавшейся синусоиды опять вверх. Только на этот раз не так, как с Марией Смит, не глубоко внизу осуществляется поворот, а на гармонической середине.
Глава 5
Опять гармония. Некая.
Анна Гирей не дала ему упасть до настоящего демонизма. Беспощадным, до мазохизма, он позволил себе быть только с собственной душой. А своих демонических героев жалел и снабжал смягчающими обстоятельствами их злые дела. В “Кавказском пленнике” герой, удирая из плена и разбивая тем жизнь влюбленной черкешенки, зовет ее с собой и не предвидит, что та откажется и утопится с горя... Впрочем, полностью написал он поэму позже. А в сиюминутных стихотворениях - примерялся. <<
Важно подчеркнуть,- пишет Фомичев,- что при всей романтической природе главного героя пушкинской поэзии 1820-х гг. между ним и поэтом сохраняется, как правило, некоторая дистанция [а это предвестие реализма]: это не alter ego поэта, а скорее родственная душа...>>Дочери Карагеоргия
Гроза луны
[Турции], свободы воин,Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал -
Братоубийством изощренный...
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он молча над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар -
И лепет твой внимал и не был чужд веселью...
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнию пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.
Карагеоргий - серб, южный человек. Это одно уже много объясняет: через какие только моральные запреты ни способен переступить - страстный. Да еще Сербия угнетаема Турцией, а Карагеоргий восстает против этого. Тут и отца родного убьешь, если он мешает... А дочь - все-таки представительница слабого пола. Ее естественно ужасали дела отца. Да и воспитывалась она в нежности с его стороны...
Это уже есть зародышевая фаза объяснения героев обстоятельствами. И в этом - пафос автора, не даваемый “в лоб”. Вы его чувствуете из-за столкновения русского (того, кто обращается к дочери) с сербским.
В “Черной шали” тоже наивнореалистически сочувствуешь герою, убийце изменницы и ее любовника, сочувствуешь за то,
как герой переживает, особенно - в конце:Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.
С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.
Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
В “Черной шали” (когда она была напечатана в “Сыне отечества” с подзаголовком “Молдавская песня”) сталкивалось с русским молдавское. А и когда нет теперь подзаголовка, вы чувствуете, что дело происходит между южными людьми из низкого сословия, людьми, не умеющими сдерживаться. Вы это чувствуете и по количеству действующих тут инородцев (гречанка, еврей, армянин), что могло быть только на южной окраине России, вы это чувствуете и по тому, что волны - дунайские, и по отрывистой, плебейской речи этого “я”.
А время шло. Пушкин в Каменке, в Кишиневе, как когда-то в Петербурге, удовлетворяет свои плотские потребности с окружающим контингентом доступных женщин. Но душа его с Анной. И она, по сути утерянная, как-то смешивается для него с утраченной еще раньше Наташей. И он не включает в “Кавказского пленника” элегию тоскующего героя и там мазохистки мучает себя в лирическом герое этой элегии.
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец -
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один - на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.
Здесь столкновение уже в первой строчке. Может ли живущий не желать чего-нибудь? Может ли не спящий не думать? - Нет. Разве что в состоянии какой-то патологии психологической, в трансе, в состоянии, при котором потеряно господство воли, помрачено сознание, например, при гипнозе. То же с “разлюбил свои мечты”. Ведь “мечта” здесь - в значении “предмет желаний, стремлений”. Это все оксюмороны, как “живой труп”. Соединение несоединимого. Типичный признак искусства барочного типа, того искусства, которое создает некую минорную гармонию после разочарования в гармонии мажорной, что была в искусстве типа Высокого Возрождения. И опять - Фомичев: <<
Оксюморон самохарактеристики... выработанный в южной лирике Пушкина, весьма для нее характерен>>.И все-таки, как ни необычно значение “геометрической суммы” от противоречий оксюморона (здесь - живой труп), все-таки и тут можно увидеть некоторое смотрение на себя со стороны. Это ж так зримо: “на ветке обнаженной / Трепещет запоздалый лист”. Это не только пейзаж души, но и объективный пейзаж.
Глава 6
Снова к общественному вольнолюбию!
По логике синусоиды из такого, нулевого, состояния американского наблюдателя обычный выход - вверх, в гражданственность. Увидим ли мы ее, что и “предвещает” тот же Фомичев (<<
...время южной ссылки Пушкина совпало с рядом исторических событий, которые на первом этапе внушали надежду на достижимость идеалов свободы и вольности>>)?Война
[Написана по поводу слухов о предстоящей войне России с Турцией в связи с восстанием греков.]
Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамены бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Уже знакомый демонизм, к которому он уже примерялся было год назад, в период упадка: вдруг да соседство смерти пробудит к жизни. Но если там у него от столкновения революционного героизма с эгоистическим демонизмом получался пшик, ничего, упадок был слишком глубок, то теперь такого бессилия нету. И лирический герой прикидывает минусы предприятия, ориентируясь не на революционную жертвенность, а на шкурный интерес. ]
...Кончину ль темную судил мне жребий боев?
И все умрет со мной: надежды юных дней,
[Вот видите. Он таки не пуст теперь. Есть что терять.]
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь!.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он просто ушел от вопроса: идти или не идти на войну. Это просто внутренняя трусость.
И от столкновения демонизма и такой трусости рождается третье: трус не тот, кто не боится, а тот кто внешне не преодолевает страх смерти. И раз дело дошло до таких колебаний (внутренних), то ситуация стоит уже на практическом пути. Ясно, что, начнись война - он пойдет на нее, подчиняясь великому “надо”, то есть из нравственных, глубоко идейных соображений, а не тех, которые здесь, в стихотворении сшиблись.
Это третий с начала жизни поворот кривой идеалов Пушкина вверх (как мы условились называть ориентацию на общественное в пику ориентации на частное). И опять он случился не из-за женщин. Явные стихотворения этого периода - “Эллеферия, пред тобой”, “Кинжал”, “Наполеон”... С ними трудно переживать противочувствия и катарсис, потому что, как я уже отмечал, наиболее приближенные к плакатному искусству вещи (когда их автор довольно точно знает, что хочет) читаются “в лоб”.
Правда, он прибегает к иносказанию. В “Кинжале” говорится, что в Древнем Риме республиканец Брут заколол самодержца Кесаря, что во время Великой Французской революции Шарлотта Корде заколола революционного диктатора Марата, что теперь, в эпоху посленаполеоновских дворянских революций, в Германии студент Занд заколол реакционера Коцебу. Понимай, и русского главного реакционера - царя - найдет кинжал. Но иносказание и намек это если и не “в лоб”, так “по лбу”. Какая разница с точки зрения приверженца противочувствий и катарсиса по Выготскому?
То же в “Наполеоне”: разъяренный галл (Великая Французская революция) отрубила голову королю. “И день великий, неизбежный, / Свободы яркий день настал”. Использовавший на порабощение мира “волненье бурь народных” Наполеон побежден какой Россией? - Свободолюбивой, раз поработителя низвергла. Вот и итог жизни Наполеона:
Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру
[а значит, и российским крестьянам - от помещиков, а российским дворянам - от царя, и вообще, всем сословиям и народам - от других сословий и народов]
вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Так разве не было это все противоправительственным?
И раз Александровская Россия все-таки не вступилась за свободу Греции от Турции, то и прогреческие настроения разве не были противоалександровскими?
Лукавил Пушкин, оправдываясь, что держал обещание не писать против правительства два года (обещал за то, что ссылку в Сибирь или на Соловки ему заменили службой на юге). Лукавил. А в революционной дворянской среде из искр его - не члена тайного общества - огневых намеков рождалось пламя вовлекавшее других в заговор декабристов.
Так если там Пушкин все-таки только намекал, то в “Гавриилиаде” он мог себе дать волю: он же не давал обещания два года не писать против религии и церкви, этой приспешницы реакционного царизма... И что мы видим в его сталкивании позитивной ауры натуралистических фривольностей описания очень даже порочного, мол, зачатия Христа - с негативизмом насмешки над божественным творением, то есть миром, каким его создал Бог по своему подобию? - А то мы видим, что мир-то (с религией в том числе) подл и лжив. И в этом - через катарсис - отвергании библейской легенды о непорочном зачатии во имя спасения мира видится претензия на серьезную атеистическую переделку того, с чем не справился Бог, посылая на землю Спасителя. История-то расстается со своим прошлым, смеясь!.. Вот Пушкин и шутит своей версией зачатия Спасителя. Пушкин в 1821 году верит Истории насчет будущего.
Я хочу здесь позволить себе не согласиться с Губером, что Пушкин в “Гавриилиаде” издевается над любовью и, тем самым, выражает демонизм своего идеала. Это так - если “в лоб” читать и не видеть насмешки над “действительностью”, сотворенной по образу и подобию Божьему. Например:
“...Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и Богу”.
Всевышний Бог, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына,
Но Гавриил (завидная судьбина!)
Не перестал являться ей тайком;
Как многие, Иосиф был утешен,
Он пред женой по-прежнему безгрешен,
Христа любил, как сына своего,
За то Господь и наградил его!
Неужели вы, зная, как Пушки кончил жизнь, не видите его насмешки в 1821-м году над своим будущим, а значит - пушкинского неприятия будущего не видите таким, каким он его представил в финале “Гавриилиады”?!. Смотрите:
Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель [Гавриил]
!Молю тебя, колена преклоня,
О рогачей заступник и хранитель,
Молю - тогда благослови меня;
Даруй ты мне беспечность и смиренье,
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь,
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь.
1821
Неужели у кого-то повернется язык сказать, что насмехающийся над рогоносцами Пушкин времен “Гавриилиады” был не таким, как в 1837 году, когда пошел на смерть, только бы не смириться с тем, что ему наставить рога хочет сам царь, наперегонки с Дантесом.
Как это ни неприятно может показаться некоторым нынешним поборникам свободы и антитоталитаризма, правда заключается в том, что революционеры (истинные) - нравственны. А так же - все, кто находится на подъеме по синусоиде изменения их идеала (если в их жизни случалось их идеалу много меняться).
И дело даже не в том, что в 21-м и 37-м годах идеалы Пушкина были в чем-то подобны.
Пушкин таки менялся, но по очень большому счету - нет. Он был (тут Губер где-то прав) завершителем российского XVIII века, не только века <<
удачи и успеха>>, но и века Просвещения и его общественных ценностей. И женщины, такие, как царица, Карамзина, Голицына, Кочубей, Гирей, внесли свою лепту, чтоб поддерживать его творчество на, в общем, высоком нравственном уровне.Другое дело, что просветительская (главным образом, риторическая) форма искусства эту высоту выражавшая, его не удовлетворяла. Но в чисто литературные импульсы, изменявшие поэта, мы в этой книге не вникаем. Ограничиваемся только влиянием жизни
.
Глава 7
Еще выше! Еще!
А в жизни властвует инерция. Дворянские антифеодальные и народно-освободительные революции (в Испании, Неаполе и т. д.) стали терпеть крах. Но это не остановило прогрессивных дворян в России. И Пушкина.
В. Л. Давыдову
[Это отставной гусарский полковник и видный член Южного общества декабристов, по делу декабристов был осужден по 1-му разряду.]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье тех и той
[
те - революционеры, та - свобода или революция]До дна, до капли выпивали!..
Но те в Неаполе шалят,
[“
Послание Давыдову писалось непосредственно после падения революционной власти в Неаполе, когда вслед за австрийскими войсками в покоренный город вошел Фердинанд и восстановил абсолютизм, отрекшись от всех своих клятв. Карбонарское движение было разгромлено при равнодушии народа, не затронутого революционной пропагандой” (Томашевский).]А та едва ли там воскреснет...
[Задушенная революция в Испании.]
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! - мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся -
И я скажу: “Христос воскрес”.
Это тоже стихотворение, выражающееся “в лоб”. Я за него взялся потому лишь, что оно ярко показывает переход к следующему типу идеала. Если предыдущий был высоковозрожденческого типа, то этот - типа поздневозрожденческого: “А не смотря ни на что!.. Авось!..”
Но каким кровожадным здесь предстает Пушкин, а?
Если б не Лотман, я бы никогда не смог соотнести, такого Пушкина с таким (прочтенным у Губера) о нем, тогдашнем, отзывом Катерины Орловой, только что вышедшей замуж: <<Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек - вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия>>.
(Я б не стал так отдаляться от любовной тематики, если б это не оказалось по дороге, да еще если б теперешние подлипалы к так называемым нашим демократам не старались нынче преуменьшить и замолчать продекабристские тенденции, бывшие одно время у Пушкина. А мой бог - истина.)
Так вот, господство держав-победительниц Наполеона от имени Венского конгресса осуществлявшееся под лозунгом умиротворения Европы лишь поначалу имело либеральную окраску, скоро обратившись против напора революций. А революционеры, наоборот, были воинственны. Орлов, участник декабристского Ордена Русских Рыцарей - организации, ориентировавшейся на решительные действия (а не на пропаганду), не получив дивизии во внутренних областях России (откуда он бы мог начать поход на Москву, лишенную тогда внутренних войск), прибыв в Кишинев летом 1820 года, чтоб командовать 16-й дивизией, думал вмешаться в греческое восстание против Турции даже если царь и не поможет единоверцам. Он сговаривался с Ипсиланти о получении в отвоеванной Валахии и османской Молдавии базы для революционной войны против правительства, которая должна спровоцировать гражданскую войну. Пестель после победы революции в России ее внешнюю политику видел наступательной. А друг Орлова, Дмитриев-Мамонов, совсем в традиции Наполеона, проектировал обширные захваты в северной, центральной и южной Европе и даже вторжение в Индию. И Орлов отчасти разделял его идеи.
Пушкин, споря с Орловым, был за вечный мир. Но не по типу реакционного Венского конгресса, а по Руссо - как результат союза революционных правительств. Через кровь революций - к миру.
А если революции за пределами России пока терпели крах, то надо - по одному из “рецептов” устранения отрицательных эмоций - повысить уровень притязаний, будить свою революцию.
Генералу Пущину
[Это учредитель масонской ложи в Кишиневе, куда был принят и Пушкин. А масоны ставили цель совершенствования себя и общества и были близки к декабристам.]
В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квирога!
[Квирга - участник испанской революции 1820 года.]
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
И т. д. Пушкину можно было не стесняться того, что он, по сути, пишет против правительства и его политики вечного мира реакционеров.
Такие откровения друзья,- по-видимому, члены конспиративной организации (он их подозревал),- не распространят среди чужих.Было ли что-то по “рецепту” повышения уровня притязаний и в любовной лирике? - Да.
Юрьеву
Любимец ветреных Лаис,
Прелестный баловень Киприды -
Умей сносить, мой Адонис,
Ее минутные обиды!
Она дала красы младой
Тебе в удел очарованье,
И черный ус, и взгляд живой,
Любви улыбку и молчанье.
С тебя довольно, милый друг,
Пускай, желаний пылких чуждый,
Ты поцелуями подруг
Не наслаждаешься, что нужды?
В чаду веселий городских,
На легких играх Терпсихоры
К тебе красавиц молодых
Летят задумчивые взоры.
Увы! язык любви немой,
Сей вздох души красноречивый,
Быть должен сладок, милый мой,
Беспечности самолюбивой.
И счастлив ты своей судьбой.
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний;
С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.
Итак, оба лирических героя должны быть, вроде, удовлетворены: на них глядят. Но ведь это пониженный уровень притязаний! Особенно - у потомка негров: “любви не ведая” это скотство, если позволить себе, имеющему сейчас высокий идеал, сказать без обиняков.
А теперь вчувствуйтесь: не от хорошей жизни идут советы. Потомок негров Юрьева утешает. У того какие-то “обиды”. А поскольку потомок себя пристраивает к Юрьеву - видно, что утешая, он и самоутешается заодно. Не шибко что-то у обоих.
Так как дистанцируется автор от их самообманов, если в утешения вносится ирония: “С тебя довольно”, “в дикой простоте”? В утешения - ирония... Это ж всегдашнее противоречие элементов и, соответственно, - противочувствия. Значит, за автором ни то, ни другое. За ним - повышение уровня притязаний как идеал. Не хорошая мина при плохой игре, а игра ва-банк.*..
*
- Хорошо, пусть подобранные здесь стихотворения соответствуют как бы движению идеалов по синусоиде. Но стихотворение “Юрьеву” разбирается после нескольких глав, иллюстрирующих это движение идеалов по синусоиде: “Спасение”, “Опять гармония. Некая”, “Снова к общественному вольнолюбию!”, - разбирается в главе “Еще выше! Еще!”. А сочинено стихотворение было на стыке апреля и мая, когда был у Пушкина идейный кризис. То есть его б надо было рассматривать до главы “Спасение”. Какая может быть устремлённость ва-банк, - а это ж идеал, мол, стихотворения “Юрьеву”, - у опустошённого автора?- Между известием о стихотворении “Мне бой знаком…”, последним из выражающих безыдеальность (осложнённую переспективой ссылки), и сведением о заносчивом стихотворении “Юрьеву” в “Летописи жизни и творчества” вот что написано ободряющего:
“Апрель, 14 (?)—18. Получение Милорадовичем приказания Александра I сделать у Пушкина обыск и арестовать его. Политический сыщик Фогель, придя к Пушкину в его отсутствие, просит дядьку Пушкина, Никиту Козлова, дать почитать рукописные стихотворения Пушкина, обещая за это пятьдесят рублей. Никита отказывает. Пушкин сжигает часть рукописей. На другой день Пушкина вызывают к Милорадовичу. Встреча Пушкина с Ф.Н. Глинкой на Театральной площади и разговор о происшедшем. Пушкин отправляется к Милорадовичу (Невский проспект, д. 12; дом не сохранился) и заявляет, что бумаги его сожжены, но он сам напишет все стихотворения, распространяющиеся в копиях с его именем, с указанием, что написано им и что ему приписывают. Пушкин заполняет этими стихами (за исключением эпиграммы на Аракчеева) целую тетрадь. Милорадович со смехом читает стихи, выражает сожаление, что Пушкин ничего не написал против Государственного Совета (или Сената), и от имени Александра I объявляет Пушкину прощение. На другой день доклад об этом Милорадовича Александру I , который недоволен его поспешным прощением Пушкина.
Апрель, 15 (?) . . . 18. Случайно узнав о грозящей Пушкину ссылке в Соловецкий монастырь, Чаадаев едет к Карамзину и просит его заступничества перед имп. Марией Федоровной и гр. Каподистрией. Карамзин исполняет просьбу Чаадаева.
Апрель, 15 (?) . . . 18. Пушкин просит у Карамзина его заступничества перед властями и в ответ на предложение Карамзина не писать против правительства в течение двух лет дает в этом слово”.
“Апрель, 15 (?) . . . 18. Карамзин просит имп. Елизавету Алексеевну о смягчении участи Пушкина.
Апрель, 15 (?) . . . 18. Чаадаев просит И.В. Васильчикова о заступничестве за Пушкина перед Александром I , а Гнедич с этим же обращается к Оленину.
Апрель, 16 (?) . . . 1 8 <…> Энгельгардт заступается за Пушкина”.
“Апрель, 20. Н. И. Тургенев пишет С. И. Тургеневу в Константинополь: “О помещении Пушкина <в военную службу> теперь, кажется, нельзя думать. Некоторые из его стихов дошли до Милорадовича, и он на него в претензии. Надеяться должно, однако же, что это ничем кончится””.
“Апрель, 21. А. И. Тургенев, приехавший 16 апреля из Москвы, куда уехал 20 марта, пишет Вяземскому в Варшаву, что “на два года положено хранение либеральным устам его <Пушкина>“ и что “из беды, в которую попал, спасен моим <А. И. Тургенева> добрым гением и добрыми приятелями””.
“Апрель, 23. Н. И. Тургенев пишет С. И. Тургеневу в Константинополь: “Пушкина дело кончилось очень хорошо. У него требовали его оды и стихов. Он написал их в кабинете графа Милорадовича. Как сей
последний, так и сам Государь сказали, что он ничего не должен опасаться и что это ему не повредит и по службе. Он теперь собирается ехать с молодым Раевским в Киев и в Крым””.От радости, что не в Сибирь, можно было на краткий миг и занестись в идеал ва-банк.
Но дальше всё пошло плавно, эволюционно, как будто и не было этого краткого всплеска. И разбора стихотворения “Юрьеву” не должно было быть при таком масштабном подходе, как изменение аж мироотношения поэта. Ошибка.
И Пушкин задумывается об “Адской поэме”, о том, как во влюбленном бесе пробуждается чистая любовь... Отсюда уже один шаг до сюжета, как возвышенная любовь возникает в жестоком владетеле гарема... И все это рождается от невоплощенного замысла элегической поэмы “Таврида” (“Ты, сердцу непонятный мрак...”), которую напечатать было нельзя.<<
Этому мешали прямые указания на те обстоятельства прошлого, которые он тщательно устранял из печатных текстов своих произведений. Здесь устранение темы о крымских встречах разрушило бы все стихотворение>> (Томашевский).Это часто бывает в искусстве: то, что наиболее недосягаемо, изображается реалистически, “как живое”. Таков был реализм Шекспира, перешедшего к маньеризму, не чуждому мистических залетов. Такова была “Таврида”. <<Чтобы показать, что любовь преодолевает смерть, Пушкин говорит о бессмертии, о потустороннем мире... Бессмертие в элегии есть выражение неистребимой силы любви>> (Томашевский).
И все это еще более соответствовало вскоре последовавшему политическому краху. Разгромили “орловщину”. Арестовали майора В. Ф. Раевского (Пушкин, случайно подслушав об аресте, предупредил майора, но тот был слишком неосторожен и не все бумаги сжег). Против Орлова началось следствие. В пору пришлось спасать идеал в какой-то запредельности
На память приходят недосягаемые гармонические Анна... Наташа... Смешиваются. Становятся безымянным идеалом. Вспоминается платоническая любовь и стихотворение с таким названием, написанное им одной... неприступной... когда-то... еще до ссылки - Софье Потоцкой...
Он написал тогда “Платоническую любовь”, и Вяземский, влюбленный в Софью, прочитав стихи, угадал к кому это: к “Минерве в час похоти”, так он называл ее (Гроссман). Минерва - богиня мудрости. Софья, дочь разнузданнейшей женщины, ударилась в противоположную крайность. Наверно, это имел в виду Пушкин.
Я знаю, Лидинька, мой друг,
Кому в задумчивости сладкой
Ты посвятила свой досуг,
Кому ты жертвуешь украдкой
От подозрительных подруг.
Тебя страшит проказник милый [бог любви]
,Очарователь легкокрылый,
И хладной важностью своей
Тебе несносен Гименей
[бог брака].Ты молишься другому богу,
[?]Своей покорствуя судьбе;
[судьба, видно, - быть в чем-то противоположностью матери]
Восторги нежные к тебе
Нашли пустынную дорогу.
Я понял слабый жар очей,
Я понял взор полузакрытый,
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
[Вы что подумали? Что она мысленно изменила своему богу с Амуром? Я тоже так сначала посчитал. Но давайте вдумаемся в дальнейшее.]
Твой бог не полною отрадой
Своих поклонников дарит.
Его таинственной наградой
[Почему таинственной? Потому что интимной, как и награды Амура и Гименея? Или хуже? Потому что никто не поймет?]
Младая скромность дорожит.
Он любит сны воображенья,
Он терпит на дверях замок,
[Что: не надо партнера для этого? некому отпирать?]
Он друг стыдливый наслажденья,
Он брат любви, но одинок.
[Это как Нарцисс, что ли? Влюбился сам в себя и засох от любви... С древних греков стало... Ведь для них красота - превыше всего. У них <<Афродита, собственно, была не богинею любви, но богинею красоты. Когда родилась она из волн морских, к ней сейчас присоединились любовь и желание. Грек обожал в женщине красоту, а красота уже порождала любовь и желание; следовательно, любовь и желание были уже результатом красоты. Отсюда понятно, как у такого... народа, как греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная мифом Ганимеда,- могла существовать не как крайний разврат чувственности (единственное условие, под которым она могла бы являться в наше время), а как выражение жизни сердца>> (Белинский).]
Когда бессонницей унылой
Во тьме ночной томишься ты,
Он оживляет тайной силой
Твои неясные мечты,
Вздыхает нежно с бедной Лидой
И гонит тихою рукой
И сны, внушенные Кипридой,
[Киприда - другое имя богини любви. Значит, обычные эротические сны этот бог гонит.]
И сладкий, девственный покой.
[Девичье томленье - неясное, полуосознаваемое явление, и, пожалуй, к покою ближе. Так этот бог такой покой гонит, спать не дает.]
В уединенном наслажденьи
Ты мыслишь обмануть любовь.
Напрасно! - в самом упоеньи
Вздыхаешь и томишься вновь.
[Ну конечно. Потому что это противоестественно - получать упоение в одиночку. А значит, есть надежда...]
Амур ужели не заглянет
В неосвященный свой приют?
[Это уже его приют. Осталось только его освятить мужчиной.]
Твоя краса, как роза, вянет;
[Как Нарцисс, в мифе превращенный за свой грех в цветок.]
Минуты юности бегут.
Ужель мольба моя напрасна?
Забудь преступные мечты,
[
Наконец, разоблачающее слово произнесено - преступные.]Не вечно будешь ты прекрасна,
Не для себя прекрасна ты.
Так и есть. Нарциссизм.
Может, платоническая любовь по названию действительно происходит от имени Платона и когда-то обозначала любовь между мужчинами. Но сейчас платонической называют лишенную эротики любовь, возвышенно-одухотворенную. Может, по противоположности всему стихотворению Пушкин и назвал его так - “Платоническая любовь”. И тогда и тут - столкновение противоречивых элементов, а не только намеки... А катарсис - идейное безразличие, охватившее тогда поэта, в конце 1819 года.
А сейчас не идейное безразличие, а идейный заскок, и платоническая любовь была кстати. И, может, действительно, как утверждает Гроссман, к “Бахчисарайскому фонтану” Пушкина могло подвести и воспоминание о Софии Потоцкой. И не только из-за фамилии Потоцкая, фигурировавшей в крымской легенде. Вот ее отзвук: “Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была <...> именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем”
(Муравьев-Апостол). Не только из-за фамилии... А и по ассоциации с противоположным - нарциссизмом. (Не зря ж Пушкин впоследствии включил под обложку “Бахчисарайского фонтана” “Выписку из путешествия по Тавриде И. М. Муравьева-Апостола”, кончающуюся девичьей фамилией Софии*.)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Объективности ради надо упомянуть, что Гроссман прочил Софью Потоцкую (по мужу Киселеву) в кандидатки на утаенную “северную любовь” Пушкина на том основании, что: 1) в “Отрывке из письма к Д.”, который впоследствии Пушкин стал присоединять к изданиям “Бахчисарайского фонтана”, есть такая фраза: “К*** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes...” [фонтан слез] и 2)в посвящении к поэме (впоследствии отброшенном) видно, что автор узнал о легенде еще в Петербурге.
Так Томашевский, заметив, что в черновике “Отрывка из письма к Д.” и в наброске посвящения стоят глаголы в мужском роде, справедливо бросил: “...мы даже не знаем - он или она скрывались под буквой “К””. И предположить можно, что Пушкин забыл, от кого он легенду слышал. И, возможно, - в самом Бахчисарае, как и Муравьев-Апостол.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И... полился “Бахчисарайский фонтан”, полился фонтан слез, этот материальный символ бессмертия любви, тем более - вот теперь воспетый поэтом, когда в нем, казалось бы, живет трансцедентальный идеал маньеристского типа. Но... Пушкин присоединил к поэме прозаическое письмо. А там - низкая утрированная проза: “развалины какой-то башни” - гробница Митридата, “там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления”
; “не сильнее” - с развалинами Пантикапеи; Четырдага “не различил... да и не любопытствовал”; Юрзуф подействовал только на миг, а вообще там “жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом”. “В Бахчисарай я приехал больной... Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает”. И т. д.Столкновение!
И мы понимаем, что с залетами пора кончать.
(Мне могут сказать знающие люди, что “Отрывок из письма” Пушкин присоединил к поэме лишь при третьем издании, в 1830 году, когда он был суперреалист.
Что ж. Зато “Выписка из путешествия...” была сразу. И замечательны слова Лотмана: <<Это связано с органически свойственным Пушкину и противоположным поэтике романтизма стремлением допустить возможность “другого” взгляда на жизнь...>>
Все-таки с залетами пора было кончать.)
Впрочем, Пушкин не только дотянул до последнего и потом только спохватился. Поражения революций влияли на него в том числе и без инерционного отставания следствий от причин. Слишком близко от него была одна из революций: <<...
когда в январе 1821 г. вспыхнуло восстание в турецкой Молдавии под руководством Т. Владимиреско, вслед за которым 22 февраля генерал русской службы, сын молдавского господаря грек А. Ипсиланти переправился через Прут - границу России и турецкой Молдавии - и, прибыв в Яссы, призвал греков Оттоманской империи к общему восстанию, Пушкин оказался в самом центре событий>> (Лотман).И что он увидел! <<
...трагический раскол в лагере восставших - кровавый конфликт между интересами крестьянской по составу армии Владимиреско и аристократического руководства Ипсиланти>> (Лотман). И - особенно для нас сейчас интересная деталь: <<личные свойства Ипсиланти способствовали разочарованию в романтическом культе “великого человека”>> (Лотман). А эталоном великого человека для революционеров 20-х годов XIX века был Наполеон с его бескрайней гордыней и эгоизмом в насаждении во всем мире бессословного общества... силой. Хищник.Так если для разочарованных в тогдашней реакционной действительности радикалов, по Лотману, <<
носителем протеста был энергичный, сильный духом “разбойник” или “хищник”>>, то,- особенно при его поражении,- по Лотману же, <<в сознании Пушкина вырисовывалась возможность иронического отношения к разочарованному герою или оценки этого персонажа глазами народа>>.И тогда Пушкин замышляет поэму, которая <<
содержит историю двух любовниц разбойничьего атамана... Разбойники разбивают купеческий корабль, и атаману в добычу достается дочь купца. Первая наложница ревнует, сходит с ума. Вторая не любит его и умирает. Атаман пускается во все злодейства>> (Томашевский). И тут что-то не чувствуется оправдания злодею, любовь навязывающему силой. (Лишь предшествующая всему история двух разбойников, превратившаяся в поэму “Братья разбойники”, наводит на мысль о каком-то все же раскаянии во зле. Да родившаяся из этого замысла плюс из “Тавриды” поэма о фонтане слез намекает на проснувшуюся совесть хана Гирея, этого горе-реформатора гарема в моногамный брак по любви. Но то были бесперспективные повороты.)А перспектива была в осуждении романтического героя: и хандрящего, и хищничающего, и того с другим вместе (Алеко в “Цыганах”, этого поборника верности в любви; Бориса Годунова в одноименной трагедии, этого властолюбца любыми средствами стремящегося к власти, так как он будет - и оказался - самым заботящимся о народе царем). Но то будет в будущем. И как ни будет там превалировать народный интерес в пику частному, все же пока к нему надо было еще спуститься и из запредельности платонической любви, и из скепсиса к великим эгоистам.
Глава 8
Спокойно!
И политическая обстановка требовала нового спуска идеала. И на этот раз женщина играла весьма незначительную роль. (Хотя и играла. В 1823 году Анну Гирей выдали замуж.) В апреле 1823 г. Орлова формально отстранили от командования дивизией.
<<...разрушение всего круга друзей и единомышленников... Измена и предательство становятся теперь постоянным предметом размышлений Пушкина. [Хуже того], разгром кишиневского кружка совпал с кризисной полосой в эволюции декабризма... переход декабристов к тактике военной революции ставил... новые задачи, в свете которых отрыв передового человека от народа рисовался в особенно зловещем свете. Романтическому герою-одиночке предъявлялся упрек в эгоизме и неспособности понимать народ, а народу - в рабском терпении. Просветительская идея врожденной доброты и разумности человека подвергалась сомнению в целом. Все это вызывало трагические настроения у ряда декабристов. Трубецкой утверждал: “Конституцию мы написать сообразно с духом народа не можем, ибо не имеем довольного познания отечества своего”, а Пестель говорил близкому к нему Барятинскому, “что он тихим образом отходит от общества, что это ребячество, которое может нас погубить, и что пусть они себе делают, что хотят”. Бобрищев-Пушкин “года за полтора или несколько более” “начал весьма сомневаться” в тактике и успехе дела декабристов. Трагические настроения захватили ряд передовых деятелей: 12 сентября 1825 г. Грибоедов в письме С. Н. Бегичеву писал: “Пора умереть”, - и намекал на возможность самоубийства... Настроения эти остро выразились в лирике одесского периода [Пушкина (он переведен был в Одессу через пару месяцев после отстранения Орлова от командования)], когда были созданы стихотворения “Свободы сеятель пустынный...”, “Демон”, “Недвижный страж дремал на царственном пороге...”, “Зачем ты послан был и кто тебя послал?..”>> (Лотман).Я тут часто позволял себе спорить с Лотманом. Я,- да позволено будет мне так сказать,- как и Лотман, враг плоского биографизма в трактовке художественных произведений. Но случилось так, что на меня произвели большое впечатление Краваль и Губер: мне открылся интимный секрет творческого упадка Пушкина перед ссылкой и возрождения поэта недемонистом в ссылке. И я начал писать эту книгу. И, получилось, уже не мог игнорировать женщин, хотя бы тех, кто повлиял, по-моему, на изменения пушкинского идеала. И - спорил с Лотманом, держащим такую высокую планку научности в биографизме, что ни мне ее не преодолеть, ни моему читателю: <<Бесполезно безоговорочно рассматривать художественный текст как материал для вычитывания биографических подробностей. Это относится и к тексту “поэтического поведения”, создаваемого романтическим поэтом из сложного единства поэтических произведений, писем, реальных поступков, дневниковых записей, бытового поведения, перенесенного в жизнь со страниц литературы. Реконструировать на основании этого “текста поведения” внепоэтическую реальность вполне возможно, хотя и достаточно трудно из-за органического слияния в эпоху романтизма литературы и быта. Однако для такой реконструкции следует анализировать все документальные свидетельства... Наивное перенесение отдельных строк и “фактов”... в чуждый для них контекст биографического исследования здесь противопоказано>>.
Однако моя цель - не биография, а художественный смысл произведений одного за другим, пусть и не сплошь, но рисующих траекторию изменения идеала художника. И чтоб привлечь читателя, не умеющего читать научный текст, я прибег к парапушкинистике. Ведь паранаука все-таки что-то угадывает правильно. А паранаука уже вполне досягаема для неподготовленного читателя.
(Вы помните эпиграф к предисловию этой книги?
Так вот, с Кавказа и Крыма Пушкин, “счастливый человек”, не написал ни одного письма, никому. А потом, в “Путешествии Онегина”, превратил этот отрезок времени во “ввек”...)
И вот, отспорив, теперь пришла пора мне с Лотманом согласиться и в его попытке что-то угадать: <<
Любовь к Собаньской, любовь к Ризнич, любовь к Е. Воронцовой так страстно и мучительно заполняют короткое время его пребывания в Одессе, что психологически совершенно невозможно предположить отсутствие связи между столь высоким эмоциональным напряжением и трагическим кризисом мира интеллектуально-культурных ценностей, переживаемых им в это время>>.Ведь вы посмотрите, кто эти женщины! Все - неверные жены, все - в то или иное время изменницы своим любовникам. Как показали разные пушкинисты (каждый - относительно “своей” дамы), все - недоступными оказались для Пушкина: кто - из-за чрезвычайной влюбленности, чуть не физиологической привязанности какой-то в ту пору к другому, кто - из-за последних месяцев беременностей, болезней и отъездов. Пушкин как бы нарывался на душераздирающие любови. И целых три их, почти одновременных... Это, знаете, как нанимают плакальщиц на похороны. Они заражают человека, оцепеневшего в горе от смерти дорогого существа (у нас - от краха продекабристских идеалов), страдалец плачет (у нас - испепеляюще любит) и - отрицательная эмоция уничтожается (у нас - рождается полноценный реализм, в Одессу Пушкин переехал с уже начатым “Евгением Онегиным”).
Покорность Анны Гирей своим братьям (отца уже не было в живых) была сродни покорности народов Германии, Пьемонта, Неаполя, Испании, Османской Молдавии и т. д. да и России, а потенциально-матримониальное поражение Пушкина в чем-то сродни было поражению дворянских революций и движений в упомянутых странах. И в чем-то насчет роли Анны Гирей в катастрофических одесских любовях Краваль права. Чуть-чуть.
Одесские любови были способом успокоиться, что мы и видим, осмысляя катарсис от противочувствий его потрясающих любовных стихов.
Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!
Хочу бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, -
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.
Кощунство,- скажет кто-то,- брать и анализировать такие стихи. Это как резать по живому. - И будет по-своему прав. Я сам когда-то переживал их как поразительную иллюстрацию моего случая. С этого случая я и стал любить стихи: стал переписывать их. И попробуй кто тогда предложить мне их попрепарировать!.. И все-таки они изливали словно бальзам на мое измученное сердце, если я правильно помню. А почему? А потому, что сердце мое мучилось еще и тем, что я понимал, что в такой ситуации нельзя и помыслить предложить ей выйти за меня замуж, хоть я и люблю и она, вроде, любит. Что-то не то... Я не верил ей. И это оправдывало мое принципиальное нежелание вообще жениться так рано. А если б я к тому времени уже пожил, как говорится? Как Пушкин... Я б понял, сейчас мне кажется, что по крайней мере в этом стихотворении - равновесие веры и недоверия. И результатом, “геометрической суммой” противочувствий от него является ноль. Это точка перехода от романтизма к реализму. И житейски - у меня, и у Пушкина - эстетически. Это у Пушкина очередной нулевой наклон линии перегиба синусоиды изменения его идеала к горизонтальной оси хода времени. Это точка перехода от “подымающейся” дуги синусоиды к “спускающейся”.
Я было думал ограничиться разговором только об этом стихотворении. Но потом решил, что это малодушие. Надо идти по пути наибольшего сопротивления. Надо взять стихи счастья и в них доказать, что Пушкин нарывался на несчастье, чтоб его изжить.
Самое подходящее для этого - “Ночь”.
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя...
Биографист, доказывавший, что у Пушкина был совершенно
безуспешный роман с такой-то, выглядел здорово убедительным. И один, и другой, и третий... Так что, если и в этой ночной сцене нет этого?А ведь и нет! Вы посмотрите на свечу: она “печальная”. Вы посмотрите на этот перебой внутри стихотворной строчки: “Горит;”. Она зажжена для стихов, свеча, понимаю. Она сейчас будет потушена, после таких призывов... Но почему она была все-таки “печальная”? Что если она зажжена не для того, чтоб стихи читать, а чтоб их сочинять, записывать? Что если и в голос они произносятся для того же, для сочинения, для проверки, как получается, как звучит. Да, это стихи для “нее”. Но что если - для воображаемой? И глаза ее и голос - тоже воображаемые? Он вживается и успешно... В воображении - успешно. А на самом деле?.. Не отсюда ли печаль свечи? И столкновение этой печали с этим эфемерным восторгом - что?... - Да. Насущно требует успокоения (да простят меня приверженцы наивнореалистического восприятия произведений!).
Что я не ошибаюсь, мне подсказывают соседние по времени написания стихи.
Как наше сердце своенравно!
. . . . . . . . . . . .томимый вновь
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой томный взор;
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Все впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине.
Это ж мазохизм - лелеять в памяти запреты, запреты кому? - тому, кого уже хорошо подогрели разрешениями. Или это смакование процесса вхождения ее в роль любящей... В роль! Договоренную заранее, что роль!!!
Нужно иметь какое-то другое колоссальное горе (не оно ли многими точками обозначено в стихотворении?), чтоб ради забвения о нем подвергать себя приведенным истязаниям.
Или вот - “Прозерпина”. Только оно длинное. Читайте полностью в собраниях сочинений... Прозерпина, жена подземного бога Плутона, ревниво обидевшись, что тот уехал к нимфам, снизошла до влюбленного в нее простого смертного юноши, а когда Плутон вернулся, вывела любовника к потайному выходу из подземного царства:
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой.
Вещь на этом кончается. И понимай иди: приснилось ему то, что было или нет? И зачем Пушкину эта дразнилка?
Или вот:
Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено - я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану вновь,
[Значит, до того обманывал. Что она любит?]
Тебя тоской преследовать не буду,
[Так, видно, не было взаимности, раз тоска?]
Прошедшее, быть может, позабуду -
[Совсем нет уверенности, как было с настоящей любовью?]
Не для меня сотворена любовь.
[Взаимная?]
Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.
Парадокс? Он утешается любовями других? Взаимными? К ней? - Никакого парадокса: нужны сильные средства, чтоб встряхнуть себя для дальнейшей жизни не на тех эмпиреях, куда его занесло.
Он - на перевале, и пора спускаться.
Глава 9
Аут
За этим перевалом женщины в жизни Пушкина уже, можно сказать, не влияли на ход этой продолжавшей извиваться то вверх, то вниз кривой идеалов.
Непосредственно за этим перевалом его ждала мудрость реалиста или снова некая гармония барочного типа - соединение несоединимого. И если посмотрим, например, на послание “К А. П. Керн” (“Я помню чудное мгновенье...”), нам это подтвердит столкновение возвышенности стихов с вынесенным в название адресатом, широко известным современникам как аморальная личность. Лотман об этом пишет мягко: <<
...его Керн - “гений чистой красоты” и (все последующее - из писем) “одна прелесть”, и “милая, божественная”, и “мерзкая”, и “вавилонская блудница, и женщина, имеющая “орган полета”, - все верно и все выражает истинные чувства Пушкина>>. Так же - о других пушкинских романах в соседнем с его Михайловским Тригорском: <<...веселье, шутки, розыгрыши, почти серьезные, серьезные и совсем серьезные влюбленности, кипевшие в Тригорском, были полны смысла: ...проступали контуры той свободной, раскованной жизни...>> Лотман генерализует соединение несоединимого, похоже, на Пушкина как личность. Всегда, мол, он такой. - Вряд ли он таким был хотя бы в период кризисов.Казалось бы, целую поэму (и какую - “Полтава”!) посвятил Пушкин Марии Волконской (в девичестве Раевской). Это ее некоторые называют утаенной “таврической любовью”
*.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Некоторые относят даже буквы NN из донжуанского списка к ней. Достаточно, впрочем, почитать психологические возражения Гроссмана, чтоб навсегда отказаться от этой гипотезы.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И, может, они и правы, ибо это была поистине платоническая любовь к девочке-подростку. А мы уже видели, как во время идейного кризиса после разгрома “орловщины” Пушкин дошел в таврических мотивах до воспевания безымянной любви.
Но смотрите. Подвиг Марии (она поехала в ссылку в Сибирь к мужу, декабристу Сергею Волконскому), явно давший новый импульс этой платонической любви и вдохновивший Пушкина на сочинение поэмы,- этот подвиг к какому столкновению элементов, касающихся героини поэмы, Марии Кочубей, стихийно привел поэта? - К столкновению впечатления очарования с... полным отсутствием содержательности характера. Мария-героиня-в-поэме есть ничто в пику живой носительнице этого имени. И осознание катарсиса от такого столкновения дает пушкинское осуждение декабристских методов двигания истории, в том числе - и осуждение деяния Марии Волконской
**.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** - - Навеяно докладом члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученных Т. А. Савиловой “Имя “Мария” в пушкинской поэме “Полтава””.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А не явилась ли эта идея порождением реалистического идеала о соединении несоединимого: революционности романтических героев-одиночек с пассивностью угнетенных, но могучих народов, т. е. идеала <<
анонимной,- по Лотману,- и неистребимой оппозиции общественных сил>> ? И кому - разве Марии Волконской можно приписать возникновение у Пушкина такого идеала?Когда его идеал - уже в который раз - еще “спустился”: до низкого и достижимого - и стал называться на этот раз:
<<
Дом [с большой буквы пишет это слово Лотман], свой очаг, спокойное и достойное существование>>, которые понимались <<не последним бастионом, куда скрывается разочарованный и усталый поэт, махнувший рукой на общественные цели, а передовым редутом... цитаделью личной независимости и человеческого достоинства>> - тогда тоже не женщины повлияли на становление этого идеала. Ни С. Ф. Пушкина в 1826-м, ни А. Оленина в 1828-м, ни Е. Ушакова, ни Наталья Гончарова в 1830-м. <<Пушкин собирался жениться не потому, что влюбился, а влюблялся потому, что собирался жениться>> (Лотман).Правда, почти синхронно со сватовством к будущей жене у него стал брезжить новый идеал: консенсус в сословном обществе и вообще в мире (см. об этом в моих книгах “Понимаете ли вы Пушкина?”. Од., 1998 и “Беспощадный Пушкин”. Од., 1999). <<
Пушкин отчетливо сознавал, что ему предстоит брак с женщиной, которая в лучшем случае его терпит, но не любит... “Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери,- писал Пушкин матери своей невесты... 5 апреля 1830 г...”>> (Аринштейн).Правда, почти синхронно с предчувствием семейной трагедии,- а это случилось 1 января 1834 года - <<он записал,- отмечает Аринштейн,- в своем дневнике: “Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры - (что довольно неприлично моим летам). Но двору [Николаю I] хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове...”>>,- началось и трагическое осознание утопичности идеала консенсуса.
Но... При всей всегдашней остроте переживания им чувства собственного достоинства, теперь личное представляется, по-моему, слишком незначительным по сравнению со всей остальной окружающей жизнью, чтоб влиять на идеал. <<Поверьте мне...- писал Пушкин в октябре 1835 года,- хотя жизнь и susse Gewohnheit [сладостная привычка], однако в ней есть горечь, делающая ее в конце концов отвратительной...>>
В общем, повторяю, женщины больше почти не влияли на изменение идеала поэта, и рамки этой книги полностью заполнены. Тема исчерпана.
* * *
Кто хочет, об идейном и эстетическом содержании Синусоиды идеалов пусть читает упомянутую книгу, предшественницу этой. Или другие мои книги.
Здесь же я посмею привести Синнусоиду любовей, соответствующую Синусоиде идеалов. Я давно смутно чувство-
вал возможность ее “построить”. И это мне, наконец,- худо-бедно,- удалось после того, как я прочитал книгу Губера (слава его памяти!). Вот она.
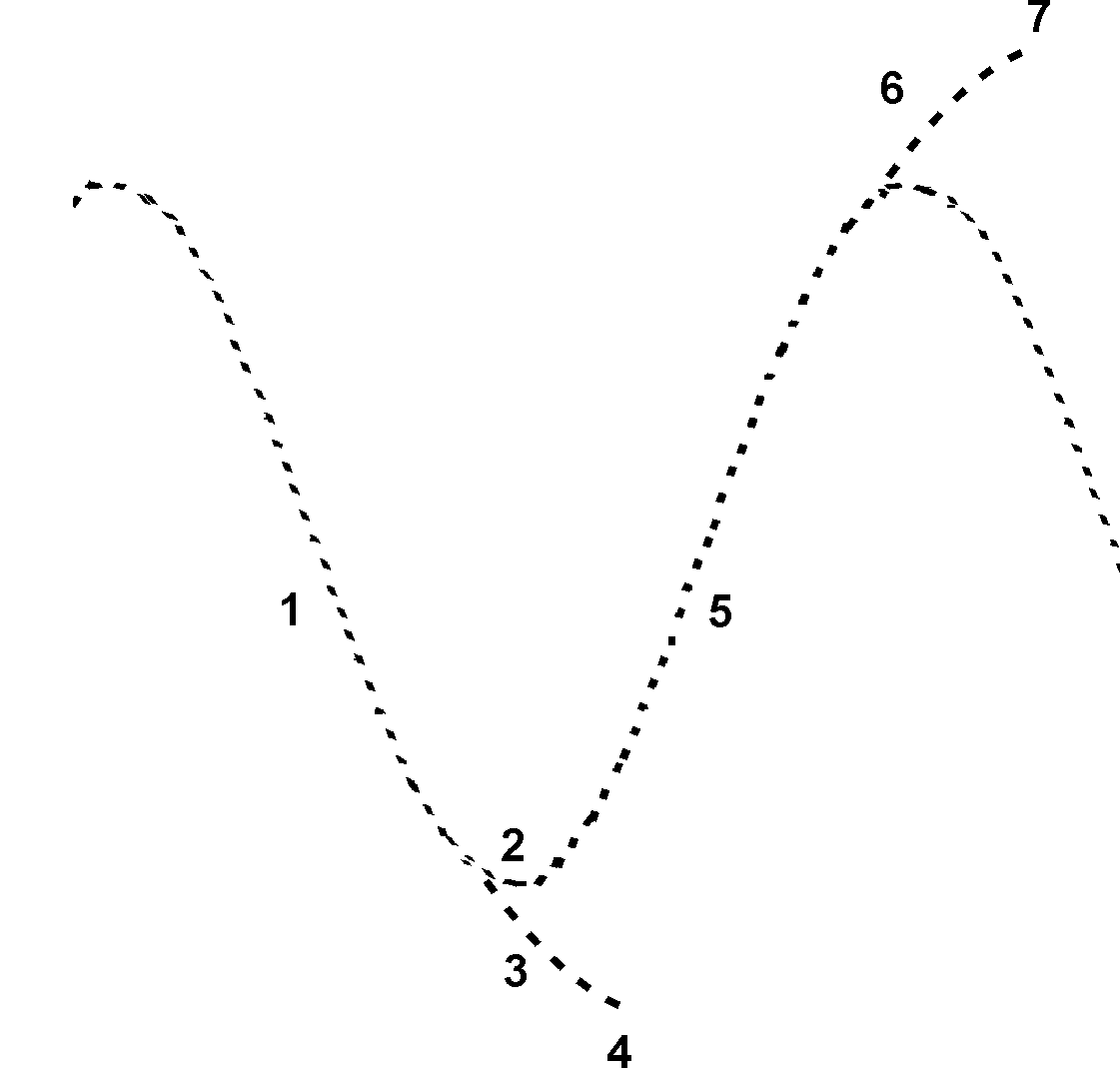
1 - Полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли; в своем незлобливом смирении рада была (рад был) и малому. Это любовь периода примирения с действительностью.
2 - Что мне дело до вашего характера? И разве красивые женщины должны иметь характер? Самое существенное - глаза, зубы, руки и ноги...
Это необузданная жажда жизни со всеми ее радостями...
Они страстны, влюбчивы и доступны...
Она пользовалась жизнью очень просто, по-видимому, ничего не искала в ней, кроме удовольствий, и постоянно отворачивалась от романтических ухаживаний, словно ждала чего-то более серьезного и дельного.
3 - Любовь-катастрофа, страсть к роковой, демонической личности. Мазохистское наслаждение изменой.
4 - Яростное оскорбление любви: разоблачить пленительный кумир, растоптать идеал чистой женственности и показать воочию призрак безобразный, скрывающийся за ним.
5 - Любовь - индивидуализированная, личная социальная сила; внешнее сближение - от случайности; на самом же деле - оно от общих высоких стремлений.
6 - Она предстает не как свободный выбор, а каприз, фатальная неизбежность, нечто из царства необходимости. Кроме полового влечения нет иных мотивов для развертывания любовной интриги, ибо в обществе нет более почти ничего, что могло бы сблизить людей. Любовь - с первого взгляда, как магическая сила, колдовство, которое нельзя вплести в ткань реальной жизни.
7 - Любовь одухотворенная, эфирная и даже носит какой-то мистический отпечаток. Платоническая любовь.
Этой синусоидой я пользовался для осознавания того, что хотел сказать,- большей частью невольно и во многом подсознательно, а потому в принципе не поддающееся цитированию,- что хотел сказать художник своим произведением о любви, созданным в какой-то миг его творческой биографии.
Послесловие
Как могло произойти, что столь необычные интерпретации произведений, расположенные в хронологическом порядке создания самих произведений, смогли довольно хорошо проиллюстрировать уже сложившуюся в науке картину эволюции творчества Пушкина? - Не знаю. Может, потому, что пушкинисты (да и все люди, всем своим существом, а значит, и подсознанием тоже) воспринимают пушкинские стихотворения адекватно. Вот ученые и строят все более и более верные схемы периодизации творчества. И лишь из-за их привычки не говорить прямым текстом о художественном смысле произведений имярек, а только иллюстрировать отрывками из них кое-какие свои мысли - получается, что я “сказал” то, что почти никто не произносил, а кое-кто считает даже кощунством произносить.
Так нужно ли было это делать мне? - По-моему, нужно, хоть это и понижает роль подсознательного в переживании искусства. Понижает не в момент восприятия искусства, а потом.
Осознавание же катарсиса уменьшает вероятность ошибки при дальнейших осознаваемых действиях с текстами (раз), и это есть сотворчество, то есть великое счастье (два).
И чтоб этому второму научиться, нужно пошире применять открытие Выготского, чему я и содействую по принципу “делайте с нами, делайте лучше нас”.
Я, наверно, многих не убедил и много ошибок наделал в интерпретациях произведений. Меня поправят. Но прошу снисхождения: по-моему, примененные здесь приемы имеют будущее. Я для того пишу и пишу. И печатаю. И эту вещь. Чтоб накопился запас новых истолкований, казалось бы, давно известного, чтобы продемонстрировать возможности психологической теории художественности Выготского в сочетании с идеей синусоподобного изменения идеалов для интерпретационной критики.
Мне не посчастливилось предыдущими книгами найти восторженное признание публики и хоть какое-то - специалистов. Тем настойчивее я издавал - хоть крошечными тиражами, для библиотек - в надежде на будущее.
Ну а если какой-нибудь современник оценит, и последует моему примеру, и я об этом узнаю - я буду вполне счастлив. Хотя и без того мне грех винить Бога.
Когда я все это написал, загладил шероховатости и приготовил к печати, мне стало очень грустно. И не потому, что это, наверно, последнее, что меня осенило и больше не будет мне радости сотворчества. Я и перед этой вещью год “молчал” и привык к этой серости. А грустно стало от перспективы опять искать спонсора... Что опять я не могу предъявить ни одной рекомендации специалиста... И, подумалось,- уже в который раз, а сейчас как-то особенно остро,- случайно ли это, что для специалистов я что-то вроде фокусника и книги мои не стоят внимания? А может, и правда это фокус? И не только эта работа, а и все, что я делал тридцать лет... Бывают же карточные домики очень сложной архитектуры... замки из песка или домино... Я только от тех фокусников отличаюсь иллюзией, непонятно, откуда взявшейся, что постройка моя - прочна...
И ведь даже сам Выготский позволил себе осмыслить катарсис от столкновения противочувствий лишь один раз: он назвал его переживанием парения к Богу - от развоплощения толщенных стен готического собора ажурными, узкими и стрельчатыми окнами в этих стенах (все остальные разы он ограничивался лишь указанием на противочувствия)...
И ведь почему-то никто так и не применяет психологическую теорию художественности Выготского для практики осознавания катарсиса от противочувствий... Десятилетиями не применяет...
Ну неужели же я один шагаю в ногу, а вся рота - нет?..
Говорят же, что быть логичным не значит быть правым...
И потом эта страшная трудность,- прямо роды какие-то,- каждый раз, пока осенит: и - в чем противоречия элементов, и - в чем,- чтоб словами его назвать,- катарсис...
Грустно, если я зря морочу голову людям...
Простите.
Одесса.
Весна 2000 г.
Литература
Аринштейн Л. М.
Пушкин. Непричесанная биография. М., 1999.Белинский В. Г. Собрание сочинений в трех томах. М., 1948.
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.
Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. Главы из биографии с 9-ю портретами. Петербург, MCMXIII.
Кирнан В. Дж. Взаимоотношения между людьми у Шекспира. В кн. “Шекспир в меняющемся мире”. М., 1966.
Краваль Л. А. Рисунки Пушкина как графический дневник. М., 1997.
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: в четырех томах. Т. I. (1799 - 1824). М., 1999.
Лотман Ю. М. Пушкин. С.-Пб., 1995.
Михайлова Н. И. Образ Сильвио в повести А. С. Пушкина “Выстрел”. В кн. Замысел, труд, воплощение... М., 1977.
Печать и революция, 1924. Кн. 1. С. 260.
Русский современник, 1924. Кн. 1. С. 323.
Тарасов Б. П. Я. Чаадаев и русская литература первой половины XIX века. В кн. П. Я. Чаадаев. “Статьи и письма”. М., 1989.
Томашевский Б. В. Пушкин. Книга первая (1813-1824). М., 1956.
Томашевский Б. В. “Таврида” Пушкина. В кн. “Ученые записки ЛГУ, № 122. Сер. Филол. наук” Л., 1949. Вып. 16.
Утаенная любовь Пушкина. С.-Пб., 1997.
Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986.
Содержание
Предисловие стр. 4
Глава 1. К земному, достижимому, приватному! стр. 7
Глава 2. К общественному вольнолюбию! стр. 17
Глава 3. К гармонии, и - крах. стр. 27
Глава 4. Спасение стр. 42
Глава 5. Опять гармония. Некая. стр. 51
Глава 6. Снова к общественному вольнолюбию! стр. 54
Глава 7. Еще выше! Еще! стр. 58
Глава 8. Спокойно! стр. 68
Глава 9. Аут. стр. 75
Послесловие стр. 79
Литература стр. 82
ББК 83.3 (4Рос=Рус) 5-844.5 Пушкин
В 68
УДК 821.161.1:801,61 1 Пушкин
Воложин Соломон Исаакович
Пушкин: идеалы и любови. (Книга не для сердца – для ума) - Одесса: ООО Студия “Негоциант”, 2001. - 76 с.
ISBN 996-7423-67-0
Книга члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых дает набор новых прочтений ряда стихотворений А. С. Пушкина. Новизна явилась результатом отказа автора воспринимать стихи “в лоб”, отказа в пользу осознавания того катарсиса, который возникает под впечатлением противоречивых элементов пушкинского текста.
Упомянутый ряд стихотворений соотненсен с известной современной пушкинистике интимной “историей сердца” поэта в ее особо значимых моментах и с историей изменения его мировоззрения, подпадающих под типичный закон изменения идеалов и любовей, предложенный автором. Так соотнесенный ряд стихотворений находится в хорошем соответствии с современной периодизацией эволюции пушкинского творчества.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
| В 4603020101 без объяв. | ББК 83.3 (4Рос=Рус) 5-844.5 Пушкин |
| 2001 | УДК 821.161.1:801,61 1 Пушкин |
| ISBN 996-7423-67-0 | O Воложин С. И., 2001 |
| O Студия “Негоциант”, 2001 |
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ
Соломон Исаакович Воложин
Пушкин: идеалы и любови
(Книга не для сердца – для ума)
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
В книге использована иллюстрация
художника Н. В. Ильина
Н/К
Сдано в набор 11.09.2001 г. Подписано в печать 12.09.2001 г.,
формат 148?210. Бумага офсетная. Ризограф. Тираж 40 экз.
Издательский центр ООО “Студия “Негоциант”
65014, Украина, г. Одесса, ул. Б. Арнаутская 2а
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |