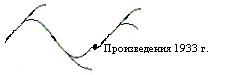
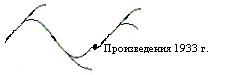
С. Воложин
Пушкин. История Пугачева.
Скрытый смысл.
| Скрытый смысл не в вечном варварстве в России ее народа и государства. |
Огрызаться - так огрызаться
Собака лает, а караван идет.
Восточная пословица
Я постановил себе не проходить мимо негодно используемых анализов текстов, которые оказались в системе моих синтезов, выявлений художественного смысла художественных произведений. Глядишь, когда-нибудь докричусь до научной общественности. Хоть она Интернетом и брезгует. Но… Все ж на свете меняется.
Я, было, принял на веру, что, работая над не художественной, а научной, исторической “Историей Пугачева”, Пушкин пришел к выводу, что “...выгоды их [сословий] были слишком противуположны...” и что это и было причиной пугачевского восстания, а осознание этого явилось причиной очередного изменения идеала Александра Сергеевича в 1833 году, что сказалось на его художественных произведениях.
И вот я читаю доказательства (М. Ланглебен. Наказание мятежной природы. В кн. “Пушкинский сборник. Выпуск 1”. Иерусалим, 1997), что причина восстания лежит не в общественном строе, а в разбойничьей этнической природе яицких казаков, с одной стороны, и, с другой, в свирепости “
варварского Государства” (С. 154), возглавляемого лишь на вид просвещенной Екатериной II.И доказательства у Ланглебена такие, будто текст “Истории Пугачева” - художественный, а не научный. По крайней мере, в некоторых местах: во вступительном абзаце, в эпилоге, в конце 4-й главы, а также в кое-каких словах начала.
Начнем разбираться с этих отдельных слов.
Ланглебен не утаил, что найденное им противоречит общепризнанному и в пушкинское время и в ХХ веке. Он дал такую сноску:
“
А.И. Чхеидзе отмечает, что А. Левшин (книгой которого “Историческое и статистическое обозрение Уральских казаков” Пушкин воспользовался как главным источником этнографических и исторических сведений об Урале) настойчиво приписывал казакам природную склонность к разбою. Сравнивая тексты Левшина и Пушкина, Чхеидзе показывает (ibid., с. 57-59), что в ИП отсутствуют все описания и эпитеты, подчеркивающие черты дикости и жестокости, свойственные, по Левшину, казакам по природе, - но, как мы видим, Пушкин предпочел сказать о врожденной разбойности казаков в менее откровенных словах” (С. 159).Ну посмотрим, что это за менее откровенные слова:
“
О беззаконной дикости казачьей вольницы сообщается максимально скупыми средствами: всего одно-два слова в каждом из последующих абзацев вплоть до 11-го абзаца, конец которого непосредственно вводит читателя в хронику Пугачевского восстания. Не утомляя читателя цитированием десяти абзацев, приведем только эти выражения; легко проверить, что, помимо выделенных слов, в этих абзацах нет прямых лексических эквивалентов “дикости”:2-й абз.: разбойничали до глубокой осени…
3-й абз.: положили между собой убивать приживаемых детей…
4-й абз.: Живя набегами…
5-й абз.: Нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения…
6-й абз.: Казаки, на лодках, еще нагруженных добычею…
8-й абз.: Несчастные бродяги убивали и ели друг друга…
9-й абз.: в куль да в воду – за измену, трусость, убийство и воровство…
10-й абз.: казаки возмутились, сожгли свой городок…
Единичные слова, тонкой нитью вкрапленные в десять обзорных абзацев, образуют пунктирную линию неистребимой врожденной дикости казаков… Сама собой напрашивается мысль обо всей этой огромной территории, о природе, укрывающей и питающей дикие орды кочевников, кабанов, тигров и разбойных казаков – что эта земля тоже причастна к пожару восстания
” (С. 145).А у меня сама собой напрашивается другая мысль: что Пушкин дал беглый обзор эволюции казаков в направлении ОТ дикости К цивилизации.
Во втором абзаце, где “разбойничали”, речь идет о “пятнадцатом столетии”. В третьем “убивать приживаемых детей” написано в связи с переходом к “семейственной жизни” и как раз прекращением убийств. В четвертом “живя набегами” хоть и касается уже XVII столетия, зато упомянуто еще и как видимость, чтоб “могло казаться завоеванием” царю, и как повод (враждебность-де окружения), чтоб тот их “принял под свою высокую руку”. В шестом разбойное слово поставлено для осознания “вины” разбоя. Седьмой абзац Ланглебен вообще обошел цитированием. А ведь там есть жестокое “побиты или потоплены”. В чем дело? А в том, что здесь рассматриваемые казаки предстают уже цивилизованными и настолько послушными власти, что посетившего их бунтовщика Стеньку Разина они приняли “как неприятеля”. Это не подходит под ланглебеновский ярлык вечной дикости, и исследователь решил неприятный факт обойти молчанием. В восьмом абзаце ужасные слова “убивали и ели друг друга” касаются уже не правила, а исключения. Несколько человек “сбились с дороги” в пустыне, “принуждены были зимовать”, и “их постигнул голод”. А есть такой естественный закон. Группа людей, оказавшись изолированной вне цивилизации вследствие несчастного случая, – на необитаемом острове, например, - возвращается к первобытным формам жизни. И каннибализм как раз и является одной из таких форм. Но подобные исключения лишь подтверждают правило: яицкие казаки цивилизовались. Относительно, конечно. Ибо “в куль да в воду”, что из девятого абзаца, хоть и касается казни (чем это хуже гильотины в век Просвещения во Франции?), но все же, будучи употребляемо всего за воровство, а тем более за трусость, – это жестоко. Ну так это все еще только XVII век. И даже “сожгли свой городок” из десятого абзаца есть акт гражданского неповиновения демократии диктатуре, что вряд ли свидетельствует о дикости. Скорее тут – классовый антагонизм. Он и спустя века демонстрировал крайность реакций. И Ланглебен это знает.
Кроме того непонятно, зачем было Пушкину шептать о народной дикости, когда он имел основание предполагать, что царь желал знать правду, и оказался прав: царь разрешил печатать “Историю Пугачева”, не дочитав до конца, в обход цензуры и Уварова, недавно выдвинувшего концепцию “самодержавие – православие - народность” и считавшего, что сначала нужно народу – просвещение дать, а потом – свободу, то есть считавшего народ слишком диким для свободы (Петрунина.
http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/im6/im6-229-.htm). Скорее можно б наоборот счесть, что Пушкин работал против Уварова и вышеупомянутого Левшина, а не в унисон с ними, но тихонько.Если Пушкин что и таил, так антагонистические противоречия сословий.
Так что все эти “единичные слова, тонкой кистью вкрапленные в десять обзорных абзацев” есть НЕ вид “итераций” (С. 142), повторений, применяемых “в художественной литературе” (С. 142), А кажимость итераций в просто научном тексте, где на самом деле их нет. (Не предвзята ли у Ланглебена эта кажимость в свете нынешних веяний, что Россия есть извечно отсталая и дикая страна?)
Теперь перейдем ко вступительному абзацу.
“…в него введены еще два неявных мотива – в начале абзаца намечен мотив переименования, а в конце появляется мотив естественной дикости” (С. 144).
Соответственно вышенаписанному мною, натяжкой представляется, что последнее слово вступительного абзаца “тигры” у Пушкина, когда тот в 1833 году пишет о животных устья Яика, ассоциируется у автора и современного ему читателя с шестидесятилетней давности эвфемизмом (благоречием) Державина, не только заменившего в вариантах какого-то стихотворения слово “Пугачев” на слово “тигр”, но и сделавшего примечание, что замена сделана во исполнение указа Екатерины II о запрещении упоминать имя бунтовщика.
Ясно, что Державин дал Ланглебену замысел его статьи, но ни у кого, кроме предвзятого человека, такая ассоциация с пушкинским “тигры” возникнуть не могла.
Другое высасывание из пальца – переименование.
Действительно, что крепость Оренбург, основанная в 1735 году, переименована в 1739-м в Орск при переносе крепости, а Яик и Яицк переименованы Екатериной II в Урал и Уральск, чтоб искоренить память о восстании 1773-1775 года. Действительно и то, что в первом абзаце упомянуто переименование реки Екатериной II, а также – имена Яик, Урал, Оренбург и Орск.
Но действительно и то, что царю “представлялось, что в исторической ситуации 1830-х годов, перед лицом опасности новой пугачевщины, для ее предупреждения может оказаться полезной книга, напоминающая о событиях и уроках крестьянской войны XVIII в.” (Петрунина).
Поэтому Пушкину совсем не нужно было, чтоб в его “Истории Пугачева” “мотив смены имени станови<л>ся стилистически маркированной темой, которая <…> искусно проведена через весь текст” (С. 144), но проведена художественно, то есть неявно. И Пушкин, ничтоже сумняшеся, повторил в своем исследовании слова “Яик”, “Яицкий Городок”, “яицкие казаки” и т.п. (с компьютером это легко посчитать) 155 раз в первой части да еще 348 раз во второй, где приложения.
Ланглебен прав. Пушкин действительно тщательно отделал вступление, действительно в черновиках есть четыре редакции первого предложения и действительно в четвертый внесена географическая ошибка – умолчание о втором повороте Яика, на юг. Но счесть, будто Пушкин это сделал специально, чтоб обратить внимание читателя, что в приложенной карте поворотов реки два и при втором стоит городок Яицк (так на карте и написано, не переименован)… - Это тоже навязывание научному тексту свойств художественного:
“В дальнейшем тексте много говорится о Яицке и о событиях, в нем происходящих; что же касается вступления, то в нем этот главный очаг восстания не упомянут. Однако, и здесь мятежный казачий городок отмечен - многозначительной фигурой умолчания” (С. 149).
Лотман писал об отличии поэзии от не-поэзии:
“…мы обнаруживаем, что:
1. Любые элементы речевого уровня могут возводиться в ранг значимых.
2. Любые элементы, являющиеся в языке формальными, могут приобретать в поэзии семантический характер, получая дополнительные значения” (http://www.gramma.ru/BIB/4/Lt02.htm).
Вот Ланглебен, зная это и пользуясь ассоциацией, что Пушкин – поэт, и позволил себе из пушкинского научного текста извлекать несуществующий в нем смысл “Истории Пугачева”: “варвары против варваров” (С. 154).
В таком же духе разбирается и эпилог.
“Исключительная роль последнего слова ИП возвращает нас к роли ее первого слова. Невозможно не заметить, что на обоих концах текста стоят на страже два запретных имени – Яик в начале и Пугачевщина в конце” (С. 156).
Тут Ланглебен делает последнюю сноску:
“К этому можно добавить и третье запретное имя – Стеньки Разина, заканчивающее текст примечаний к ИП; см. предыдущую сноску” (С. 162).
И вот она:
“Главный из таких намеков содержится в заключительном примечании ИП (см.: прим 13 к гл. 8), где Разин называется по имени, и восстание его отождествляется с пугачевским: “Подробности сей казни разительно напоминают казнь другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пугачевым почти в тех же местах и с такими же ужасными успехами. См. Relation des particularite`s de la re`bellion de Ste`nko-Rezin contre le grand Duc de Moscovie… tradit de l’anglais par S.Desmares, MDCLXXXII. Книга эта весьма редка…”. Примечание это достаточно прозрачно само по себе, но, может быть, стоит также обратить внимание на слово “разительно”, вобравшее в себя имя Разина (с ударным “и”, как во французском Rezin)” (С. 161-162).
То есть понимаете, зачем Ланглебен пропустил для нас дикость в 7-м абзаце? Там же открытым текстом говорится: “Стенька Разин посетил яицкие жилища”. Значит, он, если в черновике своей статьи и не пропускал 7-й абзац, то в чистовике, вспомнив про выисканные “дополнительные значения” начальных и конечных слов, застеснялся собственной натяжки и обманул хотя бы нас, тех, кто не станет проверять его. Лишь бы протянуть свою идею о художественности этого научного труда Пушкина.
Кстати, эта предпоследняя ланглебенская сноска естественно приводит к последнему, четвертому, фрагмету текста “Истории Пугачева”, который, - в совокупности с рассмотренными тремя, - заставляет Ланглебена найти скрытое, художественное проявление общей идеи произведения. Разин задает ряд: Разин – Пугачев – далее… В общем, вечно варварский народ.
А противостоит ему вечность “варварского Государства” (С. 154).
И в упоминавшемся конце 4-й главы, мол, есть незаакцентированный признак его – языческие магические действия, выполненные по велению правительства: сожжение дома и имущества Пугачева на Дону и развеяние пепла по ветру, окапывание, огораживание и оставление навеки в запустение двора, где стоял и сожжен дом, переименование станицы с Зимовейской на Потемкинскую.
Ланглебен считает, что факт помещения этого эпизода в самую середину текста всей вещи ЗНАЧИМ:
“Отсюда, из сожженного дома, берут начало все последующие наказания; и связь здесь не только временная, но, при соответствующем уровне общества [варварском], и причинная <…> Утилитарная цель событий в Зимовейской, по-видимому, гораздо менее важна, нежели цель магическая” (С. 151).
И тут Ланглебен – для внушительности - дает сноску о принципах магии. И не одну.
И игнорирует, что это таки было ритуальное действо. Но не языческое, а православное. Проклятие великого грешника.
Я не знаток православия, но там присутствовал “священный той станицы чин” (http://rvb.ru/pushkin/01text/08history/01pugatchev/1065.htm), который, - перед Богом, - не потерпел бы язычества, магии. То есть – варварства.
Я сомневаюсь, что Ланглебен прав в своем определении скрытого смысла “Истории Пугачева”. Очень уж получился он страшным. Вечное варварство!
Как факт: если б он был прав, никакого следа от прежнего идеала Пушкина – консенсуса в сословном обществе – нельзя б было обнаружить в произведениях 1833 года. А он там, по инерции, еще сохранился в какой-то мере.
30 июня 2005 г.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |