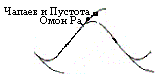
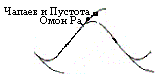
С. Воложин
Пелевин. Омон Ра. Чапаев и Пустота.
Художественный смысл.
| России – средний путь. Но не в буддистском духе. |
Плоды тоски и упованья
Живу я, - старик, думаю, что писатель, - скоро уж год, в городке Натания на берегу Средиземного моря, в Израиле, и тоскую. Тоскую по жене, умершей тут на десятый день по приезде (поздно приехали, даже израильская медицина оказалась бессильной). Тоскую, по России, в которой никогда я, впрочем, не жил постоянно. Тоскую потому, что нет, совсем нет тут у меня читателей (трудные тексты пишу).
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей! -
и жена, и Россия, и моя вечно невостребованная культуртрегерская писанина.
Живет в Натании двоюродная сестра двоюродного брата. Когда-то москвичка, когда-то филолог… Казалось бы, кому как не ей читать мои трудные тексты
. - Ни сном, ни духом. Она лишь год своей жизни поработала по специальности. А теперь по силам ей, как сама говорит, лишь чтиво, женские романы. И она не понимает, как я, научившийся ухаживать за больной женой, отказываюсь ухаживать за чужими, работать – ибо можно ж сойти с ума иначе. И она очень невзлюбила меня за то, что я и так занят: продолжаю писать. Она протелепала, что я пишу трудное.А я пишу и пишу. Хоть читать не кому. Хожу, думаю, возвращаюсь в дом и пишу.
Гори, гори, моя звезда
,Гори звезда приветная!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.
Теперь уж точно – никогда. Скоро на покой.
Каждый день хожу я вечером на берег моря смотреть закат. И еще до касания солнечным диском
горизонта зажигается на западе какая-то яркая-яркая звезда.Очень не скоро нашел я свою звезду. Распознал ее моею.
Я популяризатор, просветитель. Меня разорвало б, если б
тем очередным, что открылось мне, я не поделился.В отрочестве я часто собирал довольно большую группу пацанов со своего и соседних дворов и рассказывал им. Уж и не помню что. Иногда мы сидели почему-то на густом каштане. Может, потому что там мы были не видны и можно было игнорировать призывы идти домой. В пионерском лагере – пересказывал Шпанова, про шпионов – раз все не пошли на обед, так захватило. И
меня, и их – чтоб докончить, дослушать.Вот бы теперь так!
Разошлись мои пути с массовой аудиторией. Меня тянуло все более и более тайное и трудное.
Что такое шедевр искусства? Нет, за что именно его так называют – шедевром? “Фэ-фэ, как ты меня любишь?” - насмехается дочка над моими изысканиями. Тем более странными, что заимствованные и выработанные критерии, какими я стал пользоваться, никем не разделяются.
Лучей твоих неясной силою
Вся
жизнь моя озарена.Многим совсем безразлично, почему им нравится, например, Исаак Левитан и не нравится, скажем, Сальвадор Дали. А я…
Вот был почти счастлив совсем недавно, когда столкнулся – по-моему, это литературный сюрреализм – с описанным Пелевиным расстрелом Белого Дома в Москве в 1993 году.
Нет. У Пелевина то было описание галлюцинации одного сумасшедшего, называвшего себя женским именем Мария, в восприятии другого пациента больницы для душевно больных. Под звуки танковой канонады, в дыму от снарядных разрывов отдавала, будучи в каком-то трансе, свою самобытность-женскую-честь Мария-Россия Шварценеггеру-США. На фюзеляже летящего самолета
. (SNN оказалась же единственной компанией, показавшей миру тот расстрел с какого-то высокого этажа или крыши близстоящего дома. Кто-то ж взял деньги за то, что впустил американского корреспондента на такое место.) Меня почти трясло. Я впервые чувствовал сюрреализм (если это он). Когда я смотрел тот расстрел по телевизору в режиме реального времени, я так не переживал. Но я почувствовал полное счастье в другой, более спокойной, главе пелевинского романа. Когда вдруг понял, какое удовольствие получал Пелевин, обнаруживая что,- пожалуй, для него самого немного неожиданное,- выводит на бумаге его рука, пишущая этот роман – “Чапаев и Пустота”. (Если, конечно, Пелевин на бумаге писал, а не щелкал клавишами, как нынче я, что, впрочем, теперь и не важно - как.)Решающую роль для достижения полного счастья сыграло, видно, то, что я с большими перерывами читал – всегда по одной – главы этого романа. Я каждый раз забывал фабулу, сюжет. И оказалось, что это полезно. Потому что разве может быть ведущей фабула, сюжет в перетекающих друг в друга картинах бреда.
Самое интересное – что выкаблучится на следующей странице, на следующей строчке. Что? Вернее, чем этот новый выбрык связанным оказывается все-таки с общим настроением катастрофы, какой охвачен автор, Пелевин, лицезреющий, как неуклонно гибнет Россия.
Я был хорошо, хоть и случайно, подготовлен к восприятию эстетического наслаждения от главы
о Марии-России этого сюрреалистического, по-моему, романа.В чем она была, та подготовка?
С одной стороны
, я был в тупике, в который меня привела книга Самария Великовского “Умозрение и словесность. Очерки французской культуры”. А тупик – это тревога и повышенная восприимчивость.Ведь я как понимал дадаизм до
Великовского? - Что бесящиеся от скучности индивидуалистического мещанства его индивидуалистические же враги призывали – в ненависти к рационализму – отказаться от разума и, например, стали бесконтрольно записывать, что в голову ни прийдет – любую бессмыслицу. Первая мировая война, мол, как воплощенное неразумие, их расковала еще больше и как бы легитимизировала. Так вот,- понимал я до Великовского,- когда, например, уже после войны, в мае 1920 года на “фестивале дада” дадаист Элюар в одеянии фокусника тесаком прокалывал воздушные шары с написанными на них именами членов правительства, то он от общественного мнения этим “требовал полного доверия к глубинным побуждениям натуры” (требовал приятия всеми вседозволенности), а не будировал в чем-то рациональные для какой-то группы требования отставки правительства.После же чтения Великовского в каком виде предстал дадаизм
? – Умонастроением “далеко не беспочвенного протеста против порядков, ухитрившихся выхолостить и опошлить самые чтимые святыни <…> Честь, Родину, Нравственность…”.Но отрицание отрицания – это ж утверждение
!.. Опять же – Чести, Родины, Нравственности…Спустя три четверти столетия, после новой передряги, распада СССР, реставрации капитализма и разразившегося от этого экономического, морального и вообще всяческого краха, я как-то в одном арт-клубе резко выразился против матерщины в песнях одного из новых авангардистов. Так его товарищ мне указал, что я не понял иронии автора. Старый-де я и отсталый.
Итак, тупик. С одной стороны.
С другой стороны, я как-то вдруг чувственно понял, что России приходит конец.
От незнания иврита и полного морального одиночества я тут ни с кем почти ни одного слова за день не выговариваю. Дни, недели, месяцы… И смотрю почти исключительно Москву по кабельному телевидению. Живу Россией, так сказать. А там!...
Еще когда была у России национальная идея: Третий Рим, коммунизм, - тогда народ мог быть забитым, но великим, жить в значительной мере ради будущего, возможно, и всечеловеческого. И – усиливался народ, например, территориально, численно или по образованности. А теперь? Под гнетом диктатора хозяина… - Все на продажу. Все. И незачем жить.
Пустили новый канал в кабельное телевидение. На нем передача тележурналиста Караулова меня пронзила. Ум уже давно не воспринимал непрекращающийся вал негативного с телеэкрана. Особенно – про Россию. Так Караулов начал с Франции (там прошлым летом в период отпусков – стариков пооставляли родственники одних и уехали на курорты и по деревням – от небывалой жары этих стариков умерло 45000, в одном Париже 15000, и никто не обратил внимания, почему). И еще Караулов врезал в свою передачу пиковые куски трагических арий в исполнении великих итальянских певцов. На итальянском. Не понятно – так тем действеннее. А между ними – тихо – про, например, школьника из Подмосковья, умершего во время военно-тренировочного трехкилометрового забега с песней в противогазе после изнурительного целого дня подобных тренировок. И не было возбуждено уголовное дело. Как камень в воду и… нет кругов на воде. – Кончилось действие законов физики.
Конец света. – Конец России.И мне показалось, что в принципе можно унять боль… идиотической выходкой, если она адекватна окружающему родному безобразию,
когда я опять стал читать Пелевина. 7-ю главу “Чапаева и Пустоты”.*
“
- Динама! Динама! Куда пошла, твою мать!Я вскочил с кровати. Какой-то малый в рваном фраке, накинутом прямо на голое тело, бегал по двору за лошадью и орал:
- Динама! Стой, дура! Куда пошла!
”Уже это, по-моему, несоответствие неодушевленного имени
- лошади есть хорошо. Рваный фрак на голое тело – тоже свежо. Хорошо и что первые два слова, звучащие вот, во времена Чапаева, это слова из видений времени бредовой реставрации капитализма и утраты национальной идеи Россией. Бред перетекает в бред. И мы переносимся во времена бредовой гражданской войны.“
Под окном фыркали кони, и толпилось огромное количество солдат-красногвардейцев, которых еще вчера здесь не было. Собственно говоря, понять, что это красногвардейцы, можно было только по их расхристанному виду - они были одеты как попало, преимущественно в гражданское, из чего следовало, что экипироваться они предпочитали с помощью грабежей”.Что хорошо тут? – По-моему, хорош абсурд, будто красногвардейцы экипировались с помощью грабежей. Красногвардейцы ж приходили из дому. Не жили ж они раздетыми? Они были одеты разнородно. Да. Но не анекдотически ж. Я понимаю, что в БСЭ не стали б помещать анекдотические фотографии. Там и правда видны вполне прилично одетые люди. Комизм есть. Один в шляпе. Вообще головные уборы разномастные: русские и немецкие военные фуражки с замененными, наверно, околышами, ушанка, папаха. Один в белой рубахе с отложным воротником. Один в галстуке. Ну почти в чем дома ходили. Они ж и формировались-то в Красную Гвардию по месту жительства.
Но Пелевин возжелал их окарикатурить. Ладно. Бред есть бред. Молодец.
“
В центре толпы стоял человек в буденовском шлеме с косо налепленной красной звездой и махал руками, отдавая какие-то распоряжения. Он был удивительно похож на комиссара ивановских ткачей Фурманова, которого я видел на митинге у Ярославского вокзала, только через всю щеку у него проходил багровый сабельный шрам”.Военный комиссар, по определению был носителем дисциплины и воплощением революционного долга. В комиссары направляли отборных людей. Ясно, что для бредовых видений нужно было Пелевину снабдить такого косо налепленной красной звездой и заставить махать руками, что ассоциируется с несобранностью и бестолковостью.
“
Но я недолго рассматривал эту пеструю публику - мое внимание привлек экипаж, стоявший в центре двора. В него как раз впрягали четверку вороных”.Вот где главное – эволюции в мозгу “я”-рассказчика, не вполне еще пришедшего в себя после предыдущего бреда. Далее описывается, как он вылупился на снаряжаемую тачанку.
Перед нами, собственно, абзац за абзацем, - блуждающий взгляд потерявшегося в мире человека и вольные ассоциации в связи с фрагментами, вплывающими в поле зрения. Вот - что-то ностальгическое в связи с остатками роскоши ландо (прошлое)
… Вот - что-то неуловимое о будущем… Вот - доисторическое – по антитезе с будущим…“
Это было длинное открытое ландо на дутых шинах с рессорами и мягкими кожаными сиденьями, сделанное из дорогого дерева с сохранившимися следами позолоты. Что-то невыразимо ностальгическое было в этой роскошной вещи, в этом осколке навсегда канувшего в небытие мира, обитатели которого наивно надеялись переехать в будущее на таких вот транспортных средствах. Вышло так, что поход в будущее удался только самим транспортным средствам, и то ценой превращения в подобие гуннских боевых колесниц. Именно такие ассоциации рождали три соединенных штангой пулемета "Льюис", укрепленные в задней части ландо”.Четверти-мыслей. Купание в их случайных сцеплениях. Как смотрение в калейдоскоп
Мне уже стала понятна прелесть такой минимизации в состоянии внутренней жизни
.“
Я отошел от окна, сел на кровать и вдруг вспомнил, что такие колесницы называются у бойцов непонятным словом "тачанка". Происхождение этого термина было загадочным и темным - натягивая сапоги, я перебрал в уме все варианты возможной этимологии и не нашел ни одного подходящего. Правда, мне пришел в голову забавный каламбур: "тачанка" - "touch Anka". Но после вчерашнего объяснения с Анной, одно воспоминание о котором заставило меня покраснеть и нахмуриться, поделиться этой шуткой мне было не с кем”.Для нечитавших
.Что я помнил из того, что читал месяца два тому назад?
Повествование ведется от имени Петра Пустоты, случайно (?), в Москве (?) прихваченного себе в комиссары (?) Чапаевым
(?). Причем этот Чапаев, как и Петр, никакие не большевики. Как и Анка – вряд ли пулеметчица. Какая-то утонченная красавица при Чапаеве (но что-то без никакой клубнички). Что там за “вчерашнее” было у Петра с Анной, я не помнил. Что не очень-то и важно. Петр к данному месту представлен тоже с некоторыми провалами в памяти. Его недавно контузило, и все, что ни было на фронте (до контузии), для него и нас не существует.Я не думаю почему-то, что петербургский интеллигент (поэт, помнится, этот Петр) в те годы мог не
знать, что такое тачанка. Вон, пулемет Люиса для него вещь обычная. Вероятнее, что это слово для него, гуманитария, интересно филологически. Пелевин же не совсем чурается обычной психологии. Хотя… Почему Петру знать тачанку? Тем более, что он ничего фронтового не помнит…А вот английский он, получается, настолько хорошо помнит, что не считает нужным считаться с нами и перевести это
touch.Пелевин это тоже не считает нужным (мог бы дать сноску, но не дает
). Меня и это позабавило.Забавность каламбура намекала на что-то кудрявое. Так и оказалось:
“touch III 2. (обычно отриц. или вопр.) 5) касаться, иметь половые отношения I doubt if he had ever touched a woman before his marriage — сомневаюсь, что он имел дело с женщинами до женитьбы”.Нет, с Анкой какая-то все же интрига Пелевиным завязана. К ней Петра тянет. Чувствуется. Помнится. Все остальное Петр делает как бы не по своей воле, а как лист древесный осенью, оторвавшийся от своей ветки и мотаемый куда ни попадя. А с Анкой… похоже, все бреды, касающиеся гражданской войны, под сурдинку станут фоном этой интриги.
Как в “Хождениях по мукам”. Посмотрим.Да еще постоянными являются довольно сложные философские рассуждения и героев, современников наших, и героев, современников наших прадедушек. Может, там и есть толк, в тех рассуждениях. Сходу не поймешь.
Но мыслимо ли и то и то для сюрреализма?
*
Впрочем, это я спустя время засомневался. А сидя в библиотеке, я упивался спонтанными скачками сознания героя и его автора. И попутно во мне поднималась волна восторга от самой моей увлеченности (как я думал) сюрреализмом. И глубже – волна восторга от приоткрывающейся перспективы освоить, по-настоящему освоить, наконец, эту для меня до сих пор терра инкогнита – сюрреализм. Глубоко понять, как я это называю…
Душа запела. Я еще не совсем старый! Я еще что-то могу!
Еле дочитал я до конца главы и ушел из библиотеки (“Чапаева и Пустоту” для разнообразия я читал только в библиотеке)
, ушел, чуть не в голос вторя зазвучавшей во мне песне.Гори, гори, моя звезда
…Волшебная штука – подсознание…
Я только эти слова и знал из песни.. Ну, и последние:
Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!
Но подсознание знало все слова. А там были актуальные для момента. Вот во мне и всплыла эта песня.
Ведь мне угрожает исписаться. Или хуже: не заметить, когда я стану банальным. Надо будет замолчать, а я все еще буду тужиться. И, чего доброго, еще и думать, что я кому-то могу быть нужен.
Здесь, чуть не в русскоязычной Натании, я очень остро чувствую, насколько я никому не нужен.
Меня заприметила служащая на выдаче книг в библиотеке. Поговорили. Я дал ей почитать предпоследнюю мою изданную в Одессе книгу, единственную, привезенную сюда. – Почитала. Вернула. Не для нее.
- А не сосватаете (через вас тут многие проходят), кто в городе мог бы такое читать?
- Нет. Тут нет таких.
Ну понятно. Большинство-то приехало в Израиль удовлетворять свои, так сказать, низкие, материальные потребности
.Да и “там”… Еще и когда деньги не были для большинства прямо звездой заветной… На меня открывали глаза шире (удивленно), узнав, что я делаю дома.
Помню, - я еще молодой был, еще только самообразованием (филологическим) занимался,- помню такой разговор.
- Чем твоя душа теперь тешится?
- Собираю коллекцию художественных деталей.
- Что это такое?
- Я записываю в особую тетрадку вычитанное: в каком элементе художественного произведения видна – и какая - идея целого произведения.
- Например
?- Например, первым у меня там такой экспонат. Зачем Радищев в оде “Вольность” перенасыщал стихи согласными: “Во свет рабства тьму претвори” (17 из 25-ти букв согласные
). Зачем? – Затем, чтоб выразить, как это трудно – революция.Собеседник на меня посмотрел озадачено (надо признать, что пример мой был самым кратким, но не самым впечатляющим)
.До того я увлекался социологией. До того – астрофизикой… А кончил самостоятельным открыванием художественного смысла. Да еще не просто - в элементах, а
- в их противоречивости.И надеяться стал на будущих людей (раз нынешним это не нужно).
А потом – и сомневаться все больше стал. В будущих людях. Да и в себе. Особенно, если я что-то не могу
понять. Скажем - авангард…И вдруг – сюрреализм открывается!
Подсознание вспомнило подходящую песню
, и я запел. Мысленно.А там (я дома узнал в интернете) было такое:
Звезда надежды благодатная, Звезда любви последних дней! Ты будешь вечно незакатнаяВ душе тоскующей моей!
В голос я петь эти слова не мог. Горло душили спазмы.
*
Но это что?!. Интернет-товарищ, оспаривая сюрреалистичность Пелевина, посоветовал мне прочесть пелевинскую повесть “Омон Ра”. Так над ней я просто плакал. За каждым по очереди погибающим
. Такого перед экраном компьютера со мною еще не бывало.Впрочем, тут был не сюрреализм, а соц-арт
. Горькая-прегорькая гиперболизация советской ингуманистической ставки на массовый героизм в трудных для страны обстоятельствах. Точно по Великовскому, пишущему про причины, породившие деятельность и деятелей дада: “…“пылких, честных, ненавидевших всяческий мрак, всякое примиренчество” (Арагон), она питалась умонастроениями далеко не беспочвенного протеста против порядков, ухитрившихся выхолостить и опошлить самые чтимые святыни <…> Честь, Родину…” - Чем не Пелевин “Омона Ра”!?!Не знаю, может, я единственный вижу в соц-артистах все-таки глубинную тоску по настоящему социализму. У давнего Пригова, например:
Неважно, что надой записанный
Реальному надою не ровня
Все что записано - на небесах записано
И если сбудется не через два-три дня
То через сколько лет там сбудется
И в высшем смысле уж сбылось
А в низшем смысле все забудется
Да и уже почти забылось
Рубеж 70-80-х годов
А вот “Омон Ра”.
Советских парней, оболваненных якобы секретным заявлением правительства о предвоенной ситуации, захотевших стать летчиками, в Зарайском летном училище имени Маресьева усыпляли
, отрезали ступни и обучали летному делу. А тем, кого брали в космонавты, ступней не отрезали, но объясняли, что нет у СССР никакого космического первенства перед США. И надо только делать вид, например, что мы посылаем на Луну беспилотные автоматические спускаемые аппараты, невозвращаемые. На самом же деле вместо автоматики приходится применять ручной труд, вплоть до отцепления первой, второй и так далее ступеней ракет. И всем: и отцепляющим ступени в космосе, и выставляющим радиобуй на Луне – приходится погибать. Каждому в свою очередь по ходу выполнения операций: отцепившему первую ступень, потом – отцепившему вторую ступень. И так далее. И парни соглашаются и гибнут. По очереди.Только дублера того, кто должен на Луне выставить радиобуй, Митьку, расстреляли, так как он не прошел реинкарнационного обследования (был ли он в прошлых жизнях лояльным власти человеком или нет
?).И только там применил Пелевин что
-то непонятно-сюрреалистическое, похожее на песню “А у дельфина” Высоцкого.У пра-Митьки что-то спрашивают (не демонстрируется), а пра-Митька отвечает.
“
Да и потом, эти два — просто разные проявления одного и того же. Можно так сказать: Геката — это темная и странная сторона, а Селена — светлая и чудесная. Но я здесь, признаться, не очень сведущ — так, слышал кое-что в Афинах… Бывал, бывал. Еще при Домициане. Прятался там. Иначе б мы с вами, отец сенатор, в этом паланкине сейчас не ехали… Как обычно, оскорбление величества. Будто бы у хозяина во дворе статуя принцепса стоит, а рядом двух рабов похоронили. А у него и статуи такой никогда не было. Даже и при Нерве вернуться опасались. А при нынешнем принцепсе бояться нечего. Он к нам легатом самого Плиния Секунда прислал — вот какое время настало, слава Изиде и Серапису! Недаром…”Попробуем разобраться.
“
БСЭ. Геката, в древнегреческой мифологии хтоническое божество (малоазийского происхождения), покровительница всякой ночной нечисти, колдовства и ворожбы. Брокгауз. Геката греч. божество лунного света; также божество преисподней и вообще всего таинственного; покровительница волшебниц”.“
Брокгауз. Домициан, (Titus Flavius Domitianus), рим. император. сын императора Веспасиана, родился в 51 по Р. Хр., с 81 по 96 императором; был жестоким подозрительным тираном”“
БСЭ. Принцепс (лат. princeps - первый), В период империи, начиная с Августа, термин "П. сената" обозначал носителя монархической власти”.“
Брокгауз. Нерва, (Nerva, Marcus Coccejus), римский император, 96-98”.“
Брокгауз. (Plinius), 1) Гай П. Секунд старший (Major), 23-79 по Р. Хр., римский писатель”.“
Брокгауз. (Serapis), египто-эллинистич. божество, мифологически и догматически соответствует Осирису (см.), культ его проник в Афины и др. греч. города в III в. до Р. Хр. в Рим в I в. до Р. Хр., где ему покровительствовали императоры, начиная со времени Нерона”.“
Брокгауз. Изида в римск. эпоху олицетворяла вседержавную богиню неба, земли и ада”.Омона и Митьку собирались слать на обратную сторону Луны. Так всегда, мол, поступали в советской космонавтике. (Для того, чтоб американцы не видели, что, собственно, туда шлют.) Так вот славшим было, выходит, интересно, не ассоциируется ли с обратной стороной Луны у пра-Митьки что-то негативное. И, оказывается, ассоциируется-таки: нечисть, хоть он и мало сведущ
. Но все равно - плохо.А. Ты был в Афинах? – Был. При Домициане (до 96 года), жестоком и подозрительном императоре, как и Сталин. Прятался. Подозрителен был Домициану. Казнили б, если б не спрятался. Так-так-так. А за что?
- За оскорбление величества, заключавшееся в том, что во дворе, где пра-Митек жил, возле статуи Домициана (которой там и не стояло) похоронили двух рабов. Очень, выходит, обижен на власть. Та-а-ак. Аж преемника боялся, Нерва (до 98 года), у нас Хрущева, значит.Я опускаю сомнения, что следующий монарх
(после 98-го года) послал легатом (наместником) в Афины образованного Плиния Старшего, умершего 19-ю годами раньше, в 79-м. Пелевин мог и ошибиться, а не специально, сюрреалистически путать.Я не стану также проверять другие эпохи того реинкарнационного обследования Митьки. Думаю, ясно. Опять гиперболы. И никакого сюрреализма
.*
Сюрреализм, если вчитаться в Великовского, есть двух типов: типа Бретона и типа Элюара. Бретоновский – это (с обычной точки зрения на него) гадский, аморальный, антиразумный и т. д.; запись снов и автоматическое письмо для такого сюрреализма есть техника для введения себя в транс: “
обычному человеку сделаться загипнотизированным сновидцем”. Элюаровский сюрреализм это когда сны и автоматическое письмо “само по себе есть только хаос сырых заготовок, накапливая которые “дух пользуется такой свободой, что не помышляет ПОКА (выделил я) о проверке самого себя””, зато ПОТОМ “требует обдумывания, осмысленного труда, подчиненного внятно уясненной задаче”.Ну, строго говоря, и у Бретона не без уясненной задачи: вседозволенности для
“я”. Зато у Элюара – наоборот: отрицание отрицания Чести, Родины, Нравственности, “выродившихся в скелетообразные условности”. То есть, за Честь, Родину, Нравственность. Но! “Упаси Бог внедрить желаемое в жизнь – белоснежное платье мечты замарается…”:Нагота правды
У отчаянья крыльев нет.
И у любви их нет,
Нет лица,
Они молчаливы,
Я не двигаюсь,
Я на них не гляжу.
Не говорю им ни слова.
И все-таки я живой,
Потому что моя любовь и отчаянье живы.
Свободный стих. Ни рифмы, ни певучести, ни повторяемости размера, ни регулярности. У кого крылья, лицо, способность говорить? – У абстракций: отчаянья, любви… Это образы внутренних переживаний? Речь – об интроспекции? – Но “Я на них не гляжу”. Речь о внутреннем монологе? – Но “Не говорю им ни слова”. Речь о воле их изменить? – Но “Я не двигаюсь”.
“И все-таки…”
И все-таки тут есть ритм – анапест. Почти._ _ / | _ _ / | _ /
/ | _ _ / | _ /
_ _ /
_ / | _ _ / | _
_ _ / | _ _
_ _ / | _ _ /
/ | _ _ / | _ _ / | _
_ / | _ _ / | _ /
_ _ / | _ _ / | _ / | _ _ / | _ _ / | _
Тут даже некая рифма есть: нет – нет
; молчаливы – живы. Тут даже почти психология, что-то аналогичное такому внешнему, как изометричекая зарядка (противоположность обычной зарядке): движения нет, а напряжение – огромное.Ну и еще раз
- все-таки то, да не то.“
Элюаровской поэтике … чужд аристотелевский завет подражания природе”. Нет происшествия, сегодняшнего или былого. Нет исторического, нет житейского. Нет внешних обстоятельств. Да нет и внутренних: “так, мол, случается, такие переживания по такому поводу бывают”. Вы видели: как я ни старался, я не смог увидеть психологию в “Наготе правды”. А это стихотворение в книге Великовского самое что-то, вроде бы, говорящее душе. Моей.Возможно, мне не приходилось в моей жизни доходить до такого состояния, как Элюар, так я, соответственно, и не пережил ничего от его прочтения. И,- имею такую наглость,- думаю, что и куда более тонкий Пелевин в год создания своей повести “Омон Ра” (1991-й я нашел в интернете
) этим стихотворением бы не растрогался.А 1991-й это время самого разгула антикоммунизма.
Так вот взяв материалом своей повести трижды явную выдумку – мнимость достижений Советского Союза в космической области (где мы опережали Запад еще больше, чем даже в авиации и вооружении)
– Пелевин смог развоплотить ее в правду об СССР, как царстве Липы, и тем создал истинную трагедию о Долге, о Родине, шире – о коллективизме. Трагедию, в жизни приведшую к утрате Россией национальной идеи. А может, приведет и к гибели страны.Но сделал это Пелевин в привязке к истории и к психологии. Сделал тем, чем не пользуется сюрреализм.
*
Тут, наверно, надо отвлечься на то, что наиболее резко отличает меня ото всех других интерпретаторов на свете. И отвращает от меня часть читателей. Одну – за формально-логическую недоказуемость моих построений. Другую - за то, что я – единственный, кто их применяет. Третью – за трудность метода.
(
Объективности ради надо тут же упомянуть о естественности приятия метода той частью читателей, которая его принимает.)Итак, что ж это такое?
Это вывод из психологической теории художественности Выготского о нецитируемости художественного смысла, того (впоследствии осмысливаемого) переживания (катарсиса), что охватывает потребителя искусства от противочувствий. Противочувствиями называет Выготский взаимно противоположного характера сочувствия, вызываемые противоречащими друг другу элементами произведения.
В живописи глубину изображают на плоскости. В скульптуре мягкость тела – твердым мрамором, а не воском. В графике цвет – степенью черноты. В стихах фразирующая тенденция противоречит тактирующей. В “Гамлете”, пишет Выготский, решительность принца сталкивается с затяжкой во мщении, в “Евгении Онегине” светский лев гибнет от любви. И т. д. и т. п. – бесконечно.
В повести “Омон Ра” Пелевин, по-видимому, считающий что социализм – несвоевременный общественный строй, непригодный для людей, ориентированных больше на материальное, чем на духовное потребление, и потому не смеющий соревноваться с капитализмом в материальной сфере, - так вот такой социализм, СССР, в чем взялся соревноваться с США? – В освоении космоса, где на самом деле преуспел.
Так во что это преуспевание в действительности превратил Пелевин в своей повести? – В отставание!
Ибо нельзя было не вовремя рожденному соревноваться в материальном!Как факт: во всем остальном отставали и, в результате, потерпели крах.
Из-за исторической несвоевременности социализма
чем он (строй) должен был бы заниматься по преимуществу, раз уж он явился на свет? – Инженерией человеческих душ. Может, селекцией того, кто сменит homo sapiens в истории человечества и будет иметь как естественное – превалирование общественного над частным. Должен был быть у государства акцент на перевоспитании. А такого акцента не было.Как факт: Не смогли устоять перед соблазном западного образа и уровня жизни. И – рухнул строй, основанный на идее справедливости.
Так во что это отсутствие акцента на перевоспитании превратил Пелевин в своей повести? – В его переналичие!
Образом чего является отрезание ступней у курсантов
?У Маресьева боль в ампутированных ногах при летных тренировках была личным началом. Оно требовало дать себе поблажку: повоевал – и хватит, теперь пусть другие воюют. Но дух Маресьева возрос настолько, что общее смогло преодолеть личное. И ампутированные ноги вернувшегося в строй летчика стали мерой превосходства коллективизма над эгоизмом и символом победы социалистической страны над авангардом агрессивности капитализма к социализму
, Германией.И вот ампутация, в случае Маресьева бывшая случайно (могло и просто убить или, наоборот, так и не ранить в боях), – ампутация, бывшая случайно спусковым крючком необычайного акцента на работу духа, превращена при переакценте в планомерную и без спроса ампутацию!
Отрезание ступней явилось образом несостоятельности гуманитариев от коммунизма.
Вопиющая неумелость. А результат все-таки есть. Парни становятся героями.
А от такого столкновения выть хочется. Какой человеческий материал загубили горе-строители нового мира
! И какая идея из-за них погибла!Это – катарсис. Возвышение чувств. Оно происходит от взаимоуничтожения противочувствий, возникающих из-за противоречивых элементов произведения.
Осознать, в чем этот катарсис очень и очень непросто. Мало кто на адекватное осознавание способен.
Другое дело – адекватно пережить, прочувствовать. На это способны многие.
А вот осознать пережитое…
В повести “Омон Ра”, например, имеем
ровное и скромное поведение Семы Умыгина, который вот-вот должен отцепить первую ступень ракеты (это один элемент) и погибнуть на ней, оказавшись в космосе без возможности вернуться на планету, что предполагает героизм (это противоположный элемент). Проявлением катарсиса тут были мои первые в жизни слезы перед экраном компьютера.Цитирую оба элемента в их слитности.
Несколько секунд мы молчали.
— Слушай, — опять заговорил Сема, — мне ведь четыре минуты осталось всего, даже меньше. Потом ступень отцеплять. Мы уж все друг с другом попрощались, а с тобой… Ведь не поговорим никогда больше.
Никаких подходящих слов не пришло мне в голову, и единственное, что я ощутил — это неловкость и тоску.
— Омон! — опять позвал Сема.
— Да, Сема, — сказал я, — я тебя слышу. Летим, понимаешь.
— Да, — сказал он.
— Ну ты как? — спросил я, чувствуя бессмысленность и даже оскорбительность своего вопроса.
— Я нормально. А ты?
— Тоже. Ты чего видишь-то?
— Ничего. Тут все закрыто. Шум страшный. И трясет очень.
— Меня тоже, — сказал я и замолчал.
— Ладно, — сказал Сема, — мне пора уже. Ты знаешь что? Ты, когда на Луну прилетишь, вспомни обо мне, ладно?
— Конечно, — сказал я.
— Вспомни просто, что был такой Сема. Первая ступень. Обещаешь?
— Обещаю.
— Ты обязательно должен долететь и все сделать, слышишь?
— Да.
— Пора. Прощай.
— Прощай, Сема.
В трубке несколько раз стукнуло, а потом сквозь треск помех и рев двигателей долетел семин голос — он громко пел свою любимую песню.
— А-а, в Африке реки вот такой ширины… А-а, в Африке горы вот такой вышины. А-а, крокодилы-бегемоты. А-а, обезьяны-кашалоты. А-а…А-а-а-а…
А бессмертие идеи справедливости, породившей несвоевременный социализм,
есть осознание катарсиса. То, что процитировать нельзя. Это ж, мол, какой силы должна быть идея коммунизма, ради будущего торжества которой Сема, обманутый, что наступила ситуация, называемая предвоенной (а война погубит Землю), он готов ценой своей жизни обмануть врагов социалистического лагеря, мол, у СССР такая ракетная техника, что лучше им войну не начинать. Так только грандиозная красота идеала коммунизма на столь дальних подступах к нему может в принципе формировать такой, сознательный, героизм. И какой же ужас, что в действительности такая прекрасная идея попала в такие отвратительные руки, что вот – 1991-й год – вершится всемирно-исторический крах ее. Когда не намного лучшая идея второго пришествия Христа держится уж два тысячелетия. А иудейского мессии – еще больше.И так как это процитировать
словами повести нельзя, то вполне понятны заявления, что произведения Пелевина “проникнуты, как сказали бы в Советском Союзе, "антикоммунистическим пафосом"” (http://users.northnet.ru/rolv/VPel/Pel.htm). Тот, кто пострадал от Системы или никогда не проникся, так сказать, евро-сибирской цивилизацией, тот в первую очередь Пелевина не поймет. Как не понимал русских, наверно, и Наполеон: он крестьянам – освобождение от крепостного права, а они ему, соборные по натуре, – вилы и косы в бок.Или такой пример… В зал, где играли во “Что? Где? Когда?” внесли черный ящик с двумя предметами (как оказалось, куском камня и куском дерева), суммарно символизирующими Запад и Россию по мысли какого-то мудреца
. Индивидуализм и коллективизм - другими словами. Из камня дом может сделать и одиночка, а из бревен (в России камня мало) - только с помощью соседей.Да еще северная природа… А чуть южнее – с засухами. Зона рискового земледелия… Да еще Великая Степь с ее чингисхановской идеей централизма
… Да еще православие с его идеей спасения только всем миром, а не индивидуально… Да еще просторы, приучившие мыслить глобально…Все это не вошло в корпус повести Пелевина, но имеется в виду как используемое Системой. И не выплескивается автором вместе с водой чудовищной Лжи Системы из купели.
Купели чего? – Неумелого священнодействия.
Уже почти в самом конце, когда обман
– перед главным героем (Омоном) и читателем - открылся, Пелевин позволил себе вернуть эпизод с посещением “космонавтами” Красной площади перед “полетом” и дополнить его:“…
я вспомнил свой последний день на Земле, темнеющую от дождя брусчатку Красной площади, коляску товарища Урчагина и случайное прикосновение его теплых губ, шепчущих в мое ухо:“ Омон. Я знаю, как тяжело тебе было потерять друга
[Митьку] и узнать, что с самого детства ты шел к мигу бессмертия бок о бок с хитрым и опытным врагом — не хочу даже произносить его имени вслух. Но все же вспомни один разговор, при котором присутствовали ты, я и он. Он сказал тогда — “Какая разница, с какой мыслью умрет человек? Ведь мы материалисты”. Ты помнишь — я сказал тогда, что после смерти человек живет в плодах своих дел. Но я не сказал тогда другой вещи, самой важной. Запомни, Омон, хоть никакой души, конечно, у человека нет, каждая душа — это вселенная. В этом диалектика. И пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная, центром которой станет вот это…”Он обвел рукой площадь, булыжник которой уже грозно и черно блестел
[от начавшегося дождя].“ А теперь — главное, что ты должен запомнить, Омон. Сейчас ты не поймешь моих слов, но я и говорю их для момента, который наступит позже, когда меня не будет рядом. Слушай. Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса, достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг — необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя…”
”.Читает это человек, я, только что открывший обман сюжета. А в повести говорит это человек с, видно, тоже отрезанными ступнями, хочется думать (потому думать, что зачем-то ж он отправил остальных обманщиков и остался ж один на один с Омоном на Красной площади)
, хочется думать, что говорит это человек, давно уже открывший Обман, но еще не смеющий это рассказать прямо.Но миг, когда Урчагин переходит на зачаточный идеализм насчет бессмертия души, признавая, что души нет, не является ли этот миг мигом прорыва – от противного - авторской, пелевинской воли
? Воля эта вот в чем: идеи бессмертны, потому нужно вполне оценивать могучую силу идеализма, а не беспомощно, как несчастный честный недоумок Урчагин.Я вот что имею в виду.
Когда-то я прочел, что учащимся на уроке истории задан был вопрос: если все преждевременные восстания (рабов против рабовладельцев, крестьян против помещиков и т. д.) всегда кончались поражениями угнетенных из-за того, что еще не было условий для перехода к следующей общественной формации, то, может, они, эти восстания, были зря? И меня поразил ответ: не зря, потому что в памяти человечества тем самым сохранялся идеал справедливости.
И вот – очередное поражение: СССР, социализма… А идея справедливости не умерла. Не зря
именно после смерти Обмана вспомнен самый честный из коммунистов, замполит отряда космонавтов Урчагин. Результатом деятельности не откровенных гадов был весь Обман (хоть и гады затесались), а – неумеек от воспитания нового человека.(Но я, в своей увлеченности повествованием, точно как сам Омон, только вместе с ним узнал об окончательном обмане полета. То есть Пелевин – умейка. По крайней мере – для единомышленников.
)И не говорит ли словами Урчагина
Пелевин иносказательно совсем об обратном тому,- уж точно сюрреалистическому,- с чего последняя глава начинается:““Социализм — это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низко летящей конницы, которая умирает, загнивает, но так же неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин
”.А может, и тут не сюрреализм. Уж больно привязано это
- по заимствованным словоблокам - к истории, и что-то очень уж горька на вкус эта бессмыслица.А может, все-то я не прав. Но если прав…
Так это перекликается с элюаровским “моя любовь и отчаянье живы”. И объяснит,- если окажется (для меня), что дальнейший ход реставрации капитализма в России привел-таки Пелевина к сюрреализму,- объяснит, почему Пелевин пришел к сюрреализму элюаровского толка (общественного), а не бретоновского (индивидуалистического).
*
Да и сам Элюар, мне кажется, не сразу дошел до сюрреализма.
Трудись в поту.
Копай нору –
Скелету сгнить дотла во рву.
“Долг и тревога”. 1917 г.
Биографическоя подпорка: “
Солдат нестроевой службы, он был назначен санитаром в госпиталь и четыре военных года провел в тылу, досадуя на свой недуг, вынуждавший отсиживаться вдали от передовой. Всего на несколько недель в январе-феврале 1917 года ему удалось добиться отправки с пехотным полком на фронт…”А в самом
стихотворении - явная, хоть и бедная рифма. Ровный ритм, хоть и искусственно разной длины строки. Сгущенная целенаправленная (негативная) аура словоупотребления. И вряд ли скрываемая дата сочинения.Это – из элементов стихотворения.
А вот – их художественный смысл
: “пропитанные едкой горечью мысли” (если отбросить путающие слова про “заложников “чужой войны””).И история тут – первая мировая война, и психология – “
нелепица подобного образа жизни – и смерти – мучительна для Элюара…”. А раз есть отрицание, то есть и то, во имя чего отрицается. Не во имя ли лучшего применения чувства долга?..То же, собственно, что и в повести “Омон Ра”.
Не волнует элюаровский стих? - Так
потому, что он действует “в лоб” (отрицание отрицательного рождает лишь умопостижение, а не катарсис).Может, виновата французская специфика. “
Существует… расхожее мнение… будто “острый галльский смысл” (Александр Блок) обрекает французскую лирику на головную умозрительность… и она страдает поэтому неизлечимой душевной недостаточностью”. (Тут, как и всюду без ссылки, я цитирую Великовского, написавшего свои “Умозрения…” как раз дабы оспорить это “отчасти не беспочвенное” “мнение, а вернее предрассудок”. Однако оспаривание оспариванием, а не волнует этот стих, переведенный лично Великовским.)Может, размер элюаровского таланта виноват? Может – переводчика Элюара
?Вот я и подозреваю, что чтоб и сюрреализм
- подействовал, надо еще, чтоб его применил талантливый художник.*
Гори, гори, моя звезда…
Вы не находите, что есть некое упрямство в этой песне?
В весенние закаты на набережной Натании я очень отличаюсь от окружающих. Те – летают на планирующих парашютах вдоль берега, бегают, даже старики, трусцой или энергично занимаются почти спортивной ходьбой, слушают громкую музыку из недр своих автомобилей, трындят, сидя на скамейках компаниями и парами, или в одиночестве молча провожают глазами белое, блеклое от пара, не слепящее солнце. А я стою, вперившись глазами вверх, в голубое небо, и отыскиваю свою звезду. Очень трудно. Но удается.
Вернемся к книге “Чапаев и Пустота”, которую я почитываю..
Любовная сцена Петра с Анной хоть и произошла
, в 9-й главе, но вдруг и в очередном сне Петра. Скоро конец романа. Любовной фабулы нет и не будет. – Значит, все больше надежды, что роман сюрреалистический.Философия… Все больше вроде буддистская мелькает
. Но почему от нее я чувствую себя сиротой на свете? Я читал Шри Кришнамачарью - “Йога-Сутры Патанджали”. Глубокое довольство собой утверждало читаемое. Был на выставке рисунков Шри Чимпоя. Самовлюбленным изящным умением жить и умиротворением веяло в зале. Внешней умеренностью и внутренней удовлетворенностью сияло радостное лицо с фотографии немолодого, но видно, что очень здорового телом и духом, самого Шри Чимпоя. А тут, от Пелевина, - смута-смута на душе. Вспомнилось, как я решительно не знал, - сорокавосьмилетний и семейный! – как теперь жить, когда умерла мама. – Нет, похоже, у Пелевина буддизма в идеале. Значит, тоже – все ближе к сюрреализму.Гори, гори, моя звезда,
Гори звезда приветная!
Определенным приветом повеяло мне от Пелевина в любовной
сцене Петра и Анны: все – на противочувствиях. Совсем по Выготскому. Анна, полуосознав, что решила отдаться Петру, уходит с места его триумфа - после декламации им своего стихотворения перед красногвардейцами. Петр, увезя ее – на описывавшейся тут коляске - в лес, чтоб овладеть, предлагает ей отказаться от своего порыва. То время, когда не думает никто, начинается словами Анны: “О чем вы сейчас думаете?” - и дальнейшее описывается монологом Петра о недостижимости цели мечтаний, монологом, перебиваемым иногда лишь соответствующими словом-двумя, из которых ясны процедура их взаимного раздевания, поза, темп и длительность их совокупления и момент оргазма. Совпадающий – опять противочувствие – с моментом просыпания ото сна.А стихотворения в этой главе!
..Два матроса в лесу
Обращаются к ветру и сумраку,
Рассекают листву
Темной кожей широких плечей.
Их сердца далеко,
Под ремнями, патронными сумками,
А их ноги, как сваи,
Спускаются в сточный ручей.
Император устал.
Ведь дорога от леса до города
Это локтем поддых
И еще на колене ушиб,
Чьи-то лица в кустах,
Санитары, плюющие в бороду,
И другие плоды
Разложения русской души.
Он не слышит ни клятв,
Ни фальшивых советов зажмуриться,
Ни их "еб твою мать",
Ни как бьется о землю приклад
–Император прощается
С лесом, закатом и улицей,
И ему наплевать
На все то, что о нем говорят.
Он им крикнет с пенька:
"In the midst of this stillness and sorrow,
In these days of distrust
May be all can be changed - who can tell?
Who can tell what will come
To replace our visions tomorrow
And to judge our past?"
Вот теперь я сказал, что хотел.
Эта сшибка обращения с… непонятным расстрельщикам языком обращения…
Или вот – то, триумфально принятое красногвардейцами, что “добило” Анну
, думающую, что этим стихотворением Петр издевается над эгоистами аристократами, издевается над их солипсизмом (для “я”, мол, есть только его собственные ощущения, а не то, что их вызывает; утрированно: онанизм лучше женщины), издевается над этаким идеализмом, недалеким от ее, Анны, отказов от его, Петра, домогательств, отказов во имя чего? – не тоже ли онанизма. (Не даром она, сидящая на концерте, кстати, в таком же платье, как героиня стихотворения, поднялась и ушла с концерта.)Так вы посмотрите, какое тут противоречие: срамное эксплуататоров выставлено завоеванием эксплуатируемых.
У княгини Мещерской была одна изысканная вещица
Платье из бархата, черного, как испанская ночь.
Она вышла в нем к другу дома, вернувшемуся из столицы,
И тот, увидя ее, задрожал и кинулся прочь.
О, какая боль, подумала княгиня, какая истома!
Пойду сыграю что-нибудь из Брамса - почему бы и нет?
А за портьерой в это время прятался обнаженный друг дома,
И страстно ласкал бублик, выкрашенный в черный цвет.
Эта история не произведет впечатления были
На маленьких ребят, не знающих, что когда-то у нас
Кроме крестьян и рабочего класса жили
Эксплуататоры, сосавшие кровь из народных масс.
Зато теперь любой рабочий имеет право
Надевать на себя бублик, как раньше князья и графы!
Или вот:
Они собрались в старой бане,
Надели запонки и гетры
И застучали в стену лбами,
Считая дни и километры...
Мне так не нравились их морды,
Что я не мог без их компаний
–Когда вокруг воняет моргом,
Ясней язык напоминаний
,И я…
Разве не ясно, что “я”
“не мог без их компаний” ради ракетной отдачи при взрыве отвращения к ним.Но лучше всего “переделка из Пушкина”
:Но в нас горит еще желанье,
К нему уходят поезда,
И мчится бабочка сознанья
Из ниоткуда в никуда.
С одной стороны – заимствование из революционного стихотворения “К Чаадаеву”, у Пушкина-декабриста, ассоциации со стройками коммунизма, куда уходят комсомольские поезда, с коммуной, последней остановкой паровоза революции, с другой стороны – тоже атеистическая, но бессмысленность жизни человеческой, раз нет бессмертной души, а есть только более или менее краткий миг смертного сознания среди небытия прошлого и будущего.
При таком умении возбуждать противочувствия от художника можно ждать даже волнительности сюрреализма, если он захочет к нему прибегнуть для каких-то целей.
*
Твоих лучей неясной силою
Вся жизнь моя озарена
.Интересно, мог ли б я размышлять о Пелевине, когда б ухаживал за каким-нибудь немощным стариком?
Когда-то, в Одессе, подметая лестницы, мог я такое
. Но тогда – во время работы - я все-таки ни с кем не общался.Мне кажется, что если у меня с Пелевиным что-нибудь получится нынче, то только потому, что я не работаю. Вся жизнь моя теперь им озарена.
А сегодня – День Победы. По кабельному телевидению показывают старые и новые фильмы о войне
.Война как усилитель жизни
… Вот есть человек, а вот его может не стать. Оттого стремительные фронтовые романы.Помню, нарвал я в такой майский день желтых одуванчиков, принес домой и поставил в вазочку. Так как они, бедные, рванулись жить! Они не завяли, а в часы развились до парашютиков, готовых разлететься и продолжить род.
Сегодня, бредя как бы деревянными ногами по улице, а несильным умом – по художественному миру “Чапаева и Пустоты”, я вдруг наткнулся на мысль, что Петр, в сущности, - не является олицетворением буддистского смысла своей фамилии. Он – не пустота, а усилитель жизни. В начале романа, поневоле прикинувшись чекистом по фамилии Фанерный
, смотрите, что он предпринял в “Музыкальной табакерке”, где мирно сидел Брюсов, уже принявший, как нам известно, и Алексей Толстой, потом приймущий Октябрьскую революцию? Фанерный учинил стрельбу. Петр действовал как усилитель жизни. Большевики – это безобразие, ну так перебезобразить безобразников. Во имя того, что… было до революции. То же он спровоцировал на концерте своим бунтарским стихотворением про княгиню Мещерскую.“…
хлопали мне просто потому, что мои стихи показались им чем-то вроде мандата, еще на несколько градусов расширившего область безнаказанной вседозволенности: к данному Лениным разрешению "грабить награбленное" добавилось еще не очень понятное позволение надевать на себя бублик”.Ткачи-красногвардейцы в конце концов устроили всеобщий погром.
То есть Петр – за порядок.
Вспоминаю (7-ю главу), что он монархист:
“
- Скажите, Петр, - заговорил он наконец, - кто вы по политическим взглядам? Я полагаю, монархист?- Разумеется, - ответил я, - а что, я даю повод для каких-то других...
”Так. Я приобретаю ориентир для осознавания того катарсиса, что охватывает от чтения только что процитированных стихов Петра
.Ведь противочувствия – они в сознании, а катарсис – в подсознании. Его еще предстоит осознать, и Бог его знает, удастся ли.
Замечательно это описал Толстой в “Крейцеровой сонате”.
“- Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо?
Знаете?!- вскрикнул он.- У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом,- вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу.<…>Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное
состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, - Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии,- это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, - нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует”.Толстой противопоставляет идеологическому искусству прикладное.
Выготкий писал, что первое воздействует на установку. А установка это бессознательное. И последействием Выготский называл действие
этой измененной установки. Лишь осознав, можно более или менее благополучно для себя прежнего отделаться от полученного воздействия. Герой Толстого не смог и убил жену. Ткачи у Пелевина не смогли и учинили погром. Анна не смогла и отдалась Петру.Ну а я – смогу осознать свой катарсис?
Надеюсь, что монархизм Петра, установка на порядок, мне помогут осознать, что – третье, не соответствующее ни одному из пары противочувствий – двигало Петром в его стихах (если, конечно, Пелевин не учинил с творчеством Петра каши).
Итак.
Почему надо, чтоб император говорил расстрельщикам на непонятном им языке? И обязательно ль нам, читателям, знать перевод?
“
Средь этой неподвижности и горя,В эти дни недоверия
,Может быть, все может быть изменено - кто может сказать?
Кто может сказать, что прийдет
Заменить наши представления завтра
И судить наше прошлое?
”Все, что перед этим, по-русски, есть ярко окрашенные презрением к расстрельщикам слова контрреволюционера. Но слова на английском есть как бы монаршее обращение к тем, кто сегодня за него, императора. Большинство из них знает английский. И он им говорит
, что, может быть, в эти дни, его расстрелом, все может быть изменено. Кто, мол, знает, что завтра прийдет заменить собою и судить по-своему наше (их и его), монархистское, воззрение. В смысле, если прийдет в Россию большинству россиян подходящий тоталитаризм, более жесткий, чем рыхлый царизм, то он и принявшее его большинство и не осудит сегодняшних расстрельщиков.Военспецы, в действительности пришедшие в Красную Армию воевать против белых, наверно, как бы услышали эту английскую речь. Ее – в действительности - как бы услышал даже непобедимый - в гражданскую войну – белый генерал Слащев, вернувшийся после конца гражданской войны из эмиграции, чтоб преподавать красным командирам науку побеждать очередных - а они непременно будут - врагов
. Россия превыше всего! (А Дойчланд убер аллес…)Вот мне и кажется, не является ли некий авторитаризм (не монархизм русской части стихотворения и не тоталитаризм английской) тем – третьим - художественным смыслом, который вложил в это свое творение Петр Пустота со своевластного – не известно пока зачем - разрешения Виктора Пелевина
.Заумно, конечно. И сам Пелевин вряд ли согласится. Но не художнику открывать скрытый смысл своих произведений, рожденных большей частью в подсознании и лишь воспитанных – для выхода их в свет - сознанием
.*
Лучей твоих неясной силою…
Вы понимаете, читатель, зыбкость получившегося у меня результата осознания катарсиса. На логику в таком деле не обопрешься. Но если я все-таки прав – согласитесь: какая сила эта правота, хоть зыбкая она и неясная.
По крайней мере в прежних, несюрреалистических произведениях, критерий истинности был единственным: надо, чтоб любой противоречиво-единый элемент подводил все к одному и тому же, к одному и тому же художественному смыслу целого.
И так как и количество схождений не имеет значение,- потому что в идеале
все должно сходиться (что не сходится, то есть или результат недостатка таланта художника, или необъяснимая случайность, или сигнал об интерпретаторской ошибке),- то я и не буду больше заниматься синтезирующим анализом рассмотренного стихотворения.А вы уж соглашайтесь с моим вариантом или нет.
Может,- сочтете,- оно написано во имя отказа от любых эмоций: небесных и земных, благодати и страстей,- как в буддизме. Потому, мол, по-непонятному и закричал царь. Русским-де буддизм не понять. Вот и неважно, что что-то - не на русском. И что там в переводе – не важно. Важно то, что непонятно и что в конце это.
Но мне такой подход не нравится.
Как не нравится и если б вы выбрали какую-то часть стиха, например, отрешенность императора от окружающего, и ее сочли художественным смыслом (буддистским), тем золотником, ради которого написано все остальное.
Не нравится мне, естественно, и подтасовка перевода, какую я встретил в типографском издании:
Среди этой неподвижности и грусти,
В эти дни недоверия,
Быть может, все изменится – как знать?
Как знать, что придет
На смену тому, во что мы верили,
Чтобы судить наше прошлое?
Как такое могло произойти при живом авторе, я не знаю.
И перехожу к попытке осознать кактарсис от следующего процитированного стихотворения Петра Пустоты.
Что здесь, вопреки моему коньку нецитируемости катарсиса, могло б спровоцировать на мысль, что и тут есть след Будды? – Наверно, бублик. Вернее, пустота в нем. А может – издевательство над акцентом на пользу, акцентом, столь почитаемым темною массою. Кто издевается над пользой, тот – за пустоту. Мол.
Но кто не согласится, что есть тут и издевательство над
аристократией, несколько склонной к некой ПРАКТИЧЕСКОЙ пустоте?Вряд ли столкновение этих двух издевательств (над низкой пользой и низкой бесполезностью) учинено Петром ради идеала высокой бесполезности а ля Будда
. Хотя признаю, что такой ход мысли возможен. Издевательство – из-за недостижимости отрешенности… Это хорошо. Фонтан эмоций – из-за недостижимости безэмоциональности…Мда.
Но абсурд скачков от низости к низости!.. Разве из гнилости верхов следует правота их оценки низами в качестве эксплуататоров? Нет ли тут обиды старорежимщика на неправоту истоков революции? Обиды в преддверии победы нового режима.
Абсурдный народ
… никчемные дворяне… Вот и получилось, что старому порядку не на кого оказалось опереться.А была, была в былом своя красота пестрости, если хотите. Расслоения.
Вот откуда исток негативизма.
Негативизма тем более, что порядка предвидится все менее. Как все больший – мы видим – отход в стихотворении от упорядоченного ритма
. Негативизм содержания при разупорядочении ритма утверждает – от противного – порядок как мечту.Опять у Пустоты – с позволения Пелевина - прорезается нечто охранительное.
Следующий стих разбирать, строго говоря, нельзя – он оборван. Но уже сказанное мною насчет ракетной отдачи опять намекает на функцию Петра как усилителя жизни.
И не то же ли видно и в переделке Пушкина?
Петр не только сталкивает лбами два мировоззрения: активно-материалистическое и пассивно-идеалистическое
, коллективистски-оптимистическое и индивидуалистически-пессимистическое, - но и подпускает тонкие шпильки под оба. К желанию не могут уходить поезда, а бабочка не может мчаться.Так что в целом тут не превалирование индивидуального, пассивного, идеализма (околобуддистского),- превалирование потому, скажем, что им стих заканчивается. Нет. Тут скорее что-то среднее между явившимися нам крайностями, которые можно процитировать. И среднее это – опять нечто охранительное, что процитировать, естественно, нельзя.
Но оно есть!
То же и в любовной сцене.
Петр все говорит, говорит, говорит о недостижимости мечты, о пустоте женщины-бутылки, красота-этикетка которой не внутри, а вовне. А Анна, как и все женщины любящая ушами, от этого пустого говора лишь все больше распаляется, распаляется. И оба достигают-таки мечты-совместного-оргазма.
Петр опять – усилитель жизни
.Не из-за этого ли Чапаев и взял его к себе? Что
, если Чапаев – ослабитель жизни? Что, если Чапаев это человек, видящий путь России, России, которой уготовано погибнуть, не остаться в прежнем качестве – что, если Чапаев хочет героического ухода своей великой страны в нирвану.То есть опять не по Будде, не тихо и не мирно…
Петька всех перебудоражит, и он, Чапаев, уничтожит всех. И они, прямо из боевого огня, окажутся в Валгалле, у барона Юнгерна, который заведует этим одним
“из филиалов загробного мира”, куда “попадают главным образом лица, при жизни бывшие воинами”, окажутся - у своих вечных огней.Описание Валгаллы такое жуткое и величественное, что заставляет опять подумать, не гений ли этот Пелевин. Потому опять, что когда я читал тут, в романе, бред про криминализацию России, то вспоминал аж легенду об Инквизиторе из “Братьев Карамазовых”. Читать легенду медленнее, чем со скоростью чтения, я не мог – так захватывало. А чтоб укладывалась вся грандиозная сложность и глубина читаемого в голове – не было того. И я решил, помню, что когда-нибудь вернусь к этой легенде. Что-то подобное я переживал и с Пелевиным.
Но меня уже не поколачивало, как в главе с Марией и Шварценеггером
.И в главе с бароном Юнгерном - тоже
. Это для меня было, наверно, слишком абстрактно. Я не вижу такою – героической - гибель России. Нет таких сил в действительности.*
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей!
Я пою об еще одной тоске, тоске вечной неудовлетворенности собой…
Ну что из того, что смотрите, сколько уже я наоткрывал, уверен, никем не увиденного у Пелевина? Что из того? – Это все частности. А нужно ж осознать художественный смысл целого романа! Нужно ж суметь объяснить (или почувствовать, что сумею
объяснить) любую частность. Зачем, скажем, введен Котовский? Фурманов? Бюст Аристотеля? Вся философия, занимающая большую, наверно, часть романа. Да мало ли?.. А сумею ли я разобраться с сюрреализмом? И он ли тут?И не повезло Пелевину. Показали “Идиота” по кабельному телевидению
.Вот эт-то трогает!
И ведь это тоже о роли России в мире.
Обновление мира должно начаться с России. Факт. Вот явился в ней князь Мышкин. Почти Христос. Только что не бессмертный и подвержен, увы
, болезни. Не то б что? – Вы посмотрите, что творилось с людьми вокруг него! Они ж перерождались. Как чудо. Вернее, не перерождались, а сбрасывали с себя, добрых и душевных людей, отвратительную змеиную кожу зла разного рода, в которую пришлось им облачиться, чтоб жить в нехорошем обществе. – Не вышло? Не выдержал князь, заболел? Пришлось Мышкину уехать опять в Швейцарию на лечение?.. – Ну и что! Разве не найдется другой? Насмотревшись Европы, разве не ясно, что нужно жить иначе? “Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы [русские], за границей, одна фантазия...” - такими словами кончается роман Достоевского, мечтавшего о религиозном социализме, в качестве начала обновления всего мира мыслимом только - в России.Не вышел социализм. Ни религиозный, ни атеистический.
Но тогда, в 1869-м, это еще не было известно. И потому получилась такая глубина и проникновенность. А в 2004-м, в экранизации, у Бортко?.. – Инерции хватает еще с ТЕХ пор? Или Бортко видит альтернативу?.. Или верит, что она появится?
..Потрясает.
Не то, что Пелевин.
Я кончил читать роман. И глубокая печаль охватила меня.
“Затаился” - так я его - для себя - мог бы переименовать. Впечатление, что никакой не буддизм Пелевин исповедует. Вообще, похоже, Пелевин ничего не исповедовал, когда писал роман (в
1996 году). Так,- навскидку,- мне кажется.Дезориентированность – вот признак постмодернизма, сколько мне известно…
Так вот эта дезориентированность, по-моему, и царит у Пелевина в душе и романе.
Я с каким постмодернизмом знаком? – Пластическим, поэтическим, музыкальным.
Так мне почему-то всегда удавалось различить там,- как тут нынче с Элюаром и Бретоном,- два направления. И только один, а ля Элюар, как-то волновал. Вот и с Пелевиным,- если и тут постмодернизм,- похоже, то же.
(Наверно-таки постмодернизм не един.)Но. Хватит плавать. Попробуем разобраться.
Что мы имеем твердое в предпосылках? – Что написан “Чапаев и Пустота” в 1996 году, когда Россия окончательно отвернулась от коммунистов (были выборы и опять избрали Ельцина). И вторая предпосылка – наличие фольклора о Чапаеве.
Каков общий смысл анекдотов о Чапаеве, рожденных при советской власти? -
Милая несостоятельность советской власти.Чапай с Петькой пьют водку. Подходит Фурманов:
- Ого ! Водка ! Буду третьим !
-
Hет - четвертым. Троих мы уже послали...
- Василий Иванович, Анка - провокатор !
- Hе может быть, Петька, с чего ты взял ?
- Иду я мимо бани, а оттуда Анка высовывается и руками
машет. Влетаю я в баню,
а у них там партийное
собрание...
Петька:
- Василий Иванович ! А
вот вы могете выпить литр без закуски ?
- Конечно могу
!
- А два литра ?
- Могу.
- А пять ?
- Пять ? Наверное,
смогу.
- А вот ежели ведро ?
-------пауза---------
- Hет,
Петька, не смог бы. Ленин, вот ОH бы смог ! Ммм-да-а-ааа... такое
только Ильичу под силу...
В 1996 году о возврате в прошлое, как новом обретении Россией себя, серьезно уже речи идти не могло. Поэтому, кстати, у Пелевина такая беззлобная, в сущности, гиперболизация большевистских перегибов.
Ну вспомните хоть ту же – цитировавшуюся - комичную экипировку красногвардейцев.
Без суда
, вспомнено правда, убили царя… Подло. – Так это передано стихотворным все же пафосом монархиста.Красный террор описан филологически:
“Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора - я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному "р-р" в словах "пролетариат" и "террор"”
.В 1996-м, вспоминая о Чапаеве, впору было думать о несостоятельности уже несоветской власти. За Ельцина голосовали оттого, что не за кого голосовать
.Теперь, когда я уже прочел весь роман, можно осмотреться. Какова его фабула?
Никакая не сюрреалистическая. Она, по крайней мере, то, что сюрреалист
Элюар называл у себя “плод достаточно определенной воли”.Петр Пустота с 14-ти лет стал проявлять признаки душевного заболевания. Из-за того, что его дразнили его фамилией. Став старше, во время катастрофическое для СССР, он
(повторно) попал в сумасшедший дом. В бреду он видел себя во времена гражданской войны монархистом. Лечение в больнице предполагало коллективное изживание по очереди бреда каждого сопалатника. В исцеляющем бреду живущее в больном сознании чужое этому сознанию “я” должно погибнуть. В палате вместе с Петром были еще трое (все небезразличны к судьбе России): Мария (назван так прозападно, в честь Ремарка, что причиняло носителю неприятности), Сердюк и Володин. Мария пытался искать национальную идею России в отвергании алхимического, так сказать, брака с Западом. Сердюк – то же самое, но – с Востоком, Дальним, с Японией. Новый русский, Володин – в покаянии криминалитета. А Петр – в отказе от активизма.Мария, оказалось, помешался от физического удара по голове во время разрыва снаряда, пролетевшего сквозь окна Белого Дома и попавшего в квартиру, где он был. А в данной больнице лечили от травм исключительно социально-психологического происхождения
. Поэтому Марию выписали. Володин выжил в своем бреду. Ему назначили дополнительный курс лечения, чтоб его чужое “я” умерло – в бреду. У Сердюка в бреду все вышло, как хотел японец (японец его поимел и принудил сделать харакири). У Пустоты тоже вышло. В его бреду Чапаев уничтожил весь мир, и Петька – уже самым последним – кинулся в Урал-нирвану. Пустота дважды туда попал. Очнувшись после первого раза, ему пригрезилось, что его выписали, но, увидев за пределами больницы результаты якобы демократизации: Россию без, например, памятника Пушкину в Москве на Тверском бульваре, со странным искусством, в котором не узнавалось “то вечное и неизменное, что скрывалось за неожиданной и изощренной формой”, с криминально ужесточившимися нравами, - он, как и прежде, восстал, но опять попал к Чапаеву, и тот его увозит в … нирвану, что ли?Такова фабула.
Теперь сюжет.
В основном корпусе романа сюжет представляет собой чередование (в порядке хода лечения) как бы радиальных походов (бредов) из центральной базы – сознания сумасшедшего Петра Пустоты
(в конце ХХ века). То это поход в бред (о современности) соседей по палате, то – в собственный бред (о времени гражданской войны). В одном из эпизодов – не первом - Петр прочитывает свою историю болезни, написанную врачом “до сюжета”.Перед основным корпусом романа есть предисловие. В нем упоминаются: якобы редактор текста и
якобы действительный автор текста, где главный герой – якобы Чапаев. И оставлено неизвестным, как рукопись попала к редактору.“Действительный автор” якобы написал
автобиографический роман якобы в 1921-1925 годах якобы в Кафка-юрте, монастыре во Внутренней Монголии (и лишь в повторном чтении виден тот абсурд, что главный герой вовсе не Чапаев, а видения главного героя этого романа включают в себя реалии будущих, 80-х - 90-х годов). Кроме того, перечитывая обнаруживаешь смешение “действительного автора” с “редактором”. А с первого чтения видна несусветная ерунда насчет романа Фурманова “Чапаев”: это, мол, подлог, напечатанный в 1923 году в Париже и перепечатанный после этого в СССР.“Редактор”
текста (омонголившийся) в 90-е годы выбросил для печатания описание петербургской жизни Петра и описание магических ритуалов, которым тот научился после попадания в Монголию. “Редактор” издает рукопись “действительного автора” под “своей фамилией: Пелевин”.Настоящий Пелевин
- выдал нам под своей фамилией всю сочиненную им мистификацию.Вот такая нарочитая путаница
.Теперь - предположительный пафос.
Петру, человеку, мучающемуся неизвестностью, от чего именно сгинет великая Россия
: от американизации, японизации, неполного покаяния в криминализации или чего-то еще, - (но не – почему-то – от захвата Китаем или Северным Исламским халифатом), - Петру, сошедшему с ума по этому поводу, - разрешено, видно, записать свои бредовые сны. С ним, похоже, более или менее стыдливо – раз так запутана связь, с ним – солидаризируются “действительный автор текста”, “редактор” и Пелевин.Мда…
И что ж хотел сказать Пелевин?
…душе тоскующей моей!
*
Есть кое-что и похуже, заставляющее меня тосковать. – Калечность моего вкуса.
Боюсь, что не только сюрреалистическая каша, которую намешал Пелевин, заставила меня не видеть его писательские ляпы.
Вы угадали, читатель. Я стал читать критику о Пелевине.
<<Чтобы стать писателем, недостаточно просто знать слова, а Пелевин и слов-то, прямо скажем, знает совсем не много. И скудость его словарного запаса легче всего показать на примере глагола "быть", которым кишат страницы романа. Иначе как с его помощью автор, видимо, не в состоянии осуществлять процедуру описания. Вот абзац, состоящий всего из трех предложений:
"У нее была длинная серебряная рукоять, покрытая резьбой, - на ней были изображены две птицы, между которыми был круг с сидящим в нем зайцем… Рукоять кончалась нефритовым набалдашником, к которому был привязан короткий толстый шнур витого шелка с лиловой кистью на конце. Перед рукояткой была круглая горда из черного железа; сверкающее лезвие было длинным и чуть изогнутым - собственно, это была даже не шашка…" (стр. 91-92) 1.
И это не исключение, а правило. Плюс ко всему невероятное количество главного глагола во всем его разнообразии напрочь опровергает заявление автора о том, что "действие романа происходит в абсолютной пустоте". Но так, наверное, было задумано, ведь он - сама парадоксальность
>> (Семен Ульянов http://www.russ.ru/journal/kritik/98-04-13/ulyan.htm).Ульянов вообще делает вывод, что стиль Пелевина это <<
стиль школьного сочинения "Как я провел лето">>.Какой ужас, - подумал я, бредя – опять - по улице своими деревянными ногами, - что я этого не заметил. Что из того, что я постановил себе не оценивать художника, а лишь интерпретировать. Все равно. Как-то нехорошо. В стиле ж идея прячется. У настоящих.
В тех трех предложениях речь идет о волшебной сабле, в лезвии которой можно видеть далеко-далеко происходящие события. Как волшебное зеркальце в “Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях”. Как глобус у Воланда:
“
Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала, как настоящая, ледяная и снежная”.Вон как гении пишут, подумалось.
И побежали мысли дальше.
Зря, кстати, я все жалуюсь на свою тут жизнь. Думаю о Пелевине, идя в бесплатную столовую для бедных
, и имею, тем самым, возможность (кроме выживания, будучи без работы) даже не готовить себе обеды и совсем уж целиком погружаться в литературу, литературоведение и критику.И я вспомнил Великовского, пишущего о сюрреализме и приводящего меткий упрек сюрреалистам писателя Дриё Ла Рошеля, что автоматическое письмо позволяет всплыть привычкам, привитым с детства.
Дома оказалось, что Великовский писал в том месте как раз осуждая сюрреализм. Но то было потом.
А сейчас…
Если, подумалось, Великовский, в общем, не против сюрреализма, то и
<<стиль школьного сочинения "Как я провел лето">> есть хорошо!И все с головы становится на ноги в иной вселенной!
А в иной, нерациональной вселенной можно и пустоту оценить ненегативно!
Ведь и Будда-то в нирвану убежал от дрянной жизни.
И я вспомнил эти озадачивающие коаны, хайку, вдохновленные буддизмом
… “Хлопок - звук от двух ладоней. Каков же звук от одной?”.И я вспомнил эпиграф, сочиненный Пелевиным для своего романа:
“
Глядя на лошадиные морды и лица людей,на безбрежный живой поток, поднятый моей волей
и мчащийся в никуда по багровой закатной степи,
я часто думаю: где я в этом потоке?
Чингиз Хан
”Фундаментальный же сбой тут. Что
: лошади ведут войска? Войско ведет своего повелителя? Двигатель отстраненно ищет себя в движителе. (Вы знаете разницу между тем и другим?)Или не отстраненно?.. А со смутой в душе?..
Если отстраненно, то – похоже на коан. Если со смутой – то противостоит коану.
Сейчас объяснюсь.
Вот элементарная частица (или что угодно: атом, молекула и т. д. – материя) – она
и волна, или или волна?В зависимости от того, какой прибор используешь, то и
“увидишь”. Можно свет – кусочками, можно – электрон волной. Чувствительным физикам при первом обнаружении таких ситуаций кончать с собою хотелось… Так де Бройль, как Будда для разочаровавшегося, открыл корпускулярно-волновой дуализм: и. И почти все успокоились. Это как процитированный коан.А есть воззрение, что теория де Бройля всего лишь феноменологическая. Т. е. описывает, что есть
, не понимая. И кончится-то открытием, пониманием. Но для этого нужна не успокоенность, а неуспокоенность.Так если я прав в своем финальном и интегральном переживании романа как “Затаился”, то и скрытый смысл эпиграфа не отстраненность, а тоже – “Затаился”. Ибо эпиграфу полагается кратко выразить то же, что и всему роману.
Мыслимо ли такое вычитать в той интроспекции якобы Чингиз Хана?
“В лоб” - нельзя. “В лоб”, хоть и по ассоциациям, вычитывается буддизм, пустота. Из-за слов
“мчащийся в никуда”, из-за вопроса “где я?”, из-за самой подписи “Чингиз Хан”, влекущей за собой воспоминание об эфемерности его империи, распавшейся сразу после смерти ее создателя, воспоминание о Монголии, стране почти не существующей теперь на земном шаре, ни на что в мире не влияющей, никого не манящей и черт знает в какой глуши находящейся. Из-за, наконец, коанного озадачивания, кто кого ведет: полк - полководца, или полководец – полк.Но что если не зря взят Чингисз Хан
? Создатель величайшей империи, в течение десятка веков в некотором смысле не умирающей в Евразии. Великий центрально-административный евразийский дух, возрождавшийся, пусть и во все другом сердце-столице, уж 800 лет которое – в Москве.От столкновения отстраненной пустоты с таким бессмертием и рождается “Затаился”!
Вот это и есть осознание катарсиса.
*
Вот теперь можно брать любой кусок текста и проверять, получится ли в синтезирующем анализе его увидеть это “Затаился”.
Гори, гори, моя звезда
,Гори звезда приветная
!Зачем сумасшедшие рисуют гипсовую статую именно Аристотеля?
“
БСЭ. У Аристотеля сущность не существует отдельно, помимо единичных вещей…”Сущность есть. Она – в явлениях – весома, груба, зрима… Власть имущие и победители это хорошо знают. Да и неимущие, и нормальные побежденные…
Разговор между рисующими:
“- …
А ты вот лежишь - это он [милиционер, вызвавший психиатров] мне [бомжу Сердюку] говорит, - и видно, что ты что-то такое думаешь... Как будто ты во все, что вокруг, не веришь. Или сомневаешься. [Сущность, наверно, пустотой, мыслишь и стремишься туда, недовольный реставрированным капитализмом.]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
Я ему возьми и скажи: а может, я действительно сомневаюсь. Говорили же восточные мудрецы, что мир - это иллюзия”.Противопоставляется, выходит, Аристотель восточным мудрецам. Например, Будде (Гаутаме).
А кто ж прав?
Статуя вещь тяжелая. Ею швырнет чуть позже один сумасшедший в голову другого. В то же время это вещь полая, то есть не настолько тяжелая, чтоб убить. Тем более, что еще и хрупкая.
К фигуральному столкновению головы Аристотеля с головой Петра Пустоты Пелевина явно вел пафос издевательства над философией не только аристотелизма. Пафос разочаровавшегося, но затаившегося человека.
“
- Нет, - сказал он [Мария], прищуренным глазом вглядываясь в бюст Аристотеля, - если ты отсюда выйти когда-нибудь хочешь, надо газеты читать и эмоции при этом испытывать. А не в реальности мира сомневаться. Это при советской власти мы жили среди иллюзий. А сейчас мир стал реален и познаваем. Понял?Сердюк молча рисовал.
- Что, не согласен?
- Трудно сказать, - ответил Сердюк мрачно. - Что реален - не согласен. А что познаваем, я и сам давно догадался. По запаху
”.Мария воняет? – Он уязвлен.
Мария, хоть и ушибленный разрывом снаряда, выпущенного реставраторами капитализма по Белому Дому, на них не в обиде. Он достаточно материальным, хоть и вонючим (с точки зрения Сердюка)
, занимался в той несчастной квартире, где снаряд взорвался. Анекдот в том, что бюст своего философского наставника, Аристотеля он разбил, открыв его внутреннюю “сущность” - пустоту, отнюдь не из-за отказа от аристотелизма, а в запальчивости. – Опять Пелевинская насмешка сквозит в сочинении именно такой ситуации. Затаился Пелевин.И, конечно же, не в реставрацию социализма его тайно тянет.
“…
мои [Петра, после вхождения, как окажется, в иной бред] мысли касались главным образом Аристотеля. Они были бессвязными и почти лишенными смысла - этот идеологический прадед большевизма вызывал во мне мало симпатии, но личной ненависти за вчерашнее [удар Аристотелем по голове – достался попавшемуся на пути Петру, а не Сердюку] я не ощущал; видимо, изобретенное им понятие субстанции было недостаточно субстанциональным, чтобы причинить мне серьезный вред. Интересно, что этому в моем полусне имелось убедительнейшее из доказательств: когда бюст разлетелся от удара, выяснилось, что он был пустотелым.Вот если бы меня по голове ударили бюстом Платона, подумал я, то результат был бы куда как серьезнее
”.А кто есть Платон?
“
БСЭ. По Платону, сущность (“идея”) несводима к телесно-чувственному бытию, то есть совокупности конкретных явлений; она имеет сверхчувственный, нематериальный характер, вечна, бесконечна. У Аристотеля, в отличие от Платона, сущность (“скорма вещей”) не существует отдельно…”Прежние победители жизни, большевики,
в этом месте романа критикуются, получается, Петром за недостаточный идеализм. И что это как не критика вещизма, куда скатились в СССР, будучи не в силах его обеспечить (Аристотель-то – пустой, Платон же – по противоположности – полный).А ведь, с другой стороны, пустота-то,- будь она буддистская цель или чья бы то ни была,- ближе ж к идеализму (Платону). Чего ж было бояться удара об него? – А просто тут вмешивается Пелевин и
смеется. Со скрытым смыслом смеется. Затаился.*
Несколько раз в романе у Пелевина упомянут неоплатонизм. И каждый раз – по соседству с ХХ съездом коммунистической партии Советского Союза
…“
БСЭ. Неоплатонизм как идеалистическая философская система сводится к учению об иерархическом строении бытия и к конструированию его ступеней, последовательно возникающих путём постепенного ослабления первой и высшей ступени в следующем нисходящем порядке: “единое”, “ум”, “душа”, “космос”, “материя””. Целая иерархия все менее - вниз – одухотворенных… ну не знаю, как сказать. Предложу вольную аналогию: первые, аскетические идеалисты-революционеры – гуманизация в результате ХХ съезда – перерождение идеалистов в исповедующих вещизм.Неоплатонизм у Пелевина все где-то около повествования о новом русском, Володине, появляется.
Этот Володин выжил в своем бреду. По его версии спасение России возможно по рецепту: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься. И вправду, много святых были в прошлом своем великими грешниками. Именно великими. Потому что лишь великий грех способен вызвать великое покаяние. А лишь великое покаяние приводит к святости.
Так в последний момент бреда, когда Володин с двумя товарищами-бандитами оказался-таки в нирване, реализм в нем воспрянул, он сообразил, что сам-то он немного нагрешил, а левым образом, с помощью убийцы Коляна попадает вот в нирвану. И – он объявил отбой, и они бросились вон от костра, возле которого на них стал нисходить как бы божественный свет, к которому Володин так было стремился, как к состоянию души четвертому.Счет такой: первый – бандит, второй – внутренний прокурор (совесть, понимай), третий – внутренний адвокат (обыкновенный человек-гуманист), а четвертый
…“- …
кто-то четвертый, которого никто никуда не тащит, кого нельзя назвать ни прокурором, ни тем, кому он дело шьет, ни адвокатом. Который ни по каким делам никогда не проходит - типа и не урка, и не мужик, и не мусор.- Ну представил.
- Так вот этот четвертый и есть тот, кто от вечного кайфа прется. И объяснять ему ничего про этот кайф не надо, понял?
- А кто этот четвертый?
- Никто
”.Так что ж Пелевин устроил Петру, внутренне наблюдающему и все больше сопереживающему бред Володина
?С одной стороны, Петр (не Володин)
начал отвращением к коммунистическому духу, пусть и выветривающемуся после ХХ съезда:“
Костер на поляне только начинал разгораться и давал недостаточно света, чтобы рассеять мглу и осветить сидящих вокруг него людей. Они казались просто размытыми призрачными тенями, которые падали на невидимый экран от головешек и комьев земли, лежащих у огня. Может быть, в некотором высшем смысле так оно и было [бандиты – тень от грязи; исчезающий элемент из-за победы костра-социализма]. Но, поскольку последний местный неоплатоник еще задолго до XX съезда партии перестал стыдиться, что у него есть тело [протрезвел, избавился в своем мировоззрении от костра-идеализма и сам стал приземленней - землей], в радиусе ста километров от поляны прийти к такому [идиотско-идеалистическому, до-протрезвленно-неоплатоническому] выводу [о кончающемся бандитизме] было некому [идиотов-идеалистов не стало; сам Пустота, неявным образом присутствующий в этом бреде Володина как созерцатель, не в счет, потому что он, Пустота, тоже не идиот-идеалист-коммунист].Поэтому лучше сказать просто - в полутьме вокруг костра сидело три лба. Причем такого вида, что, переживи наш неоплатоник XX съезд со всеми последующими прозрениями и выйди из леса на огонек поговорить с приезжими о неоплатонизме, он, скорее всего, получил бы тяжелые увечья сразу после того, как слово "неоплатонизм" нарушило бы тишину ночи
”.Негативное, как видим, понимание
неоплатонизма у современного нам Петра, оценивающего отношение к ученому слову со стороны бандитов (Володин еще не раскрылся идеалистом) как солидарное с собственным.С другой стороны, Петр – в совместном бреду – проникся володинским
, обратным,- так сказать (не от света к теням), а благоговейным (от теней к свету) - отношением к четвертому, тому столбу света, что встал тогда, у костра. Почему я думаю, что благоговейным? – Потому что к обратному, неблагоговейному, он приходит снова, после выхода из володинского (современного) бреда на переходе в бред о времени гражданской войны, где он, как мы видели, авторитарист-усилитель-жизни и враг коммунистов:“
И действительно, кто же был этот четвертый? [Спрашивает себя Петр, на переходе в бред о времени гражданской войны, но еще только на переходе] Кто его знает. Может быть, это был дьявол, поднявшийся из вечной тьмы, чтобы увлечь за собой еще несколько падших душ. Может быть, это был Бог, который, как говорят, после известных событий предпочитает появляться на земле инкогнито, и старается, чтобы окружающие его особо не замечали, а общается, как обычно, в основном с мытарями и грешниками [точка зрения Володина]. А может быть - и скорее всего - это был некто совсем другой. Некто гораздо более реальный, чем все сидевшие у костра, потому что если никакой гарантии, что Володин, Колян и Шурик, все эти петухи, боги, дьяволы, неоплатоники и двадцатые съезды когда-нибудь существовали, нет и быть не может, то ты, ты, только что сам [неявно] сидевший у костра, ты-то ведь существуешь на самом деле, и разве это не самое первое, что вообще есть и когда-нибудь было?"”То есть в бреду о современности (а также недалеко от нее отойдя
- в бред о прошлом) Петр то отрицательно относится к неоплатонизму, то положительно.Такое измывательство Пелевина над своим героем я объясняю его, Пелевина, состоянием “затаился”.
*
Твоих лучей неясной силою…
Сила неясности моих рассуждений такова,- я себе хорошо представляю,- что мало кто дочитал до сих пор.
Утешаю себя тем, что и самого Пелевина довольно мало кто прочел. Уж во всяком случае в Натании.
Хоть про него и пишут: “Последнее время Пелевин неизменно занимает первые места во всех рейтингах современной прозы. Весенние номера журнала "Знамя", где был опубликован его роман "Чапаев и Пустота", расхватали так, как расхватывали толстые журналы только во времена перестроечного бума” (Наталья Иванова http://www.exbicio.boom.ru/library/pelevin/stat/ogon.htm).
Я говорил уже, что первым заходом читал роман
с большими перерывами и только в библиотеке. А там подход к полкам с книгами свободный. Так вот: “Чапаев и Пустота” всегда был не востребован местной читающей публикой, да и все книги Пелевина месяц за месяцем стояли нетронутыми в одном и том же порядке. Упоминавшаяся моя собеседница-библиотекарша, интересуясь, чем я тут интересуюсь, и услышав, что Пелевиным, сказала с легим презрением, что его мало берут. Пренебрежение к нему выразила и одна известная мне почитательница Кастанеды и вообще всяческого чудесного. А так как Пелевин “в советское время … переводил Карлоса Кастанеду” (http://www.exbicio.boom.ru/library/pelevin/stat/ogon.htm), то можно было ожидать от нее уважения к Пелевину. – Не было.Мода и глубина постижения разные вещи…
И все же, хоть я претендую не на читателей-модников
, я сделаю перерыв в сложности.Смотрите, какие прелести для восприятия “в лоб” выдает нам Пелевин от имени Петра
.“
Я не понимал, где мы находимся. Холмы, летний вечер - все это исчезло; вокруг была густая тьма, и в этой тьме вокруг нас, насколько хватало глаз, горели яркие пятна костров. Они располагались в неестественно строгой последовательности, как бы в узлах невидимой решетки, разделившей мир на бесконечное число квадратов. Расстояние между кострами было где-то в пятьдесят шагов, так что от одного уже не было видно тех, кто сидел у другого, - можно было различить только смутные силуэты, но сколько там человек и люди ли это вообще, сказать с уверенностью было нельзя. Но самым странным было то, что поле, на котором мы стояли, тоже неизмеримо изменилось - теперь у нас под ногами была идеально ровная плоскость, покрытая чем-то вроде короткой пожухшей травы, и нигде на ней не было ни выступа, ни впадины - это было ясно по идеально правильному узору горящих вокруг огней”.“
Я вцепился в сукно его рукава, и мы пошли вперед. Сразу же я почувствовал одну странность - шел барон не особо быстро, во всяком случае, не быстрее, чем ходил до этой жуткой трансформации мира, но огни, мимо которых мы шли, уносились назад с чудовищной быстротой. Казалось, что мы с ним неспешно идем по какой-то платформе, которую с невероятной скоростью тянет за собой невидимый поезд, а направление движения этого поезда определяется тем, в какую сторону поворачивает барон”.“
Из-за узкой полосы невысоких кустов, поднимавшейся за нашими спинами, неожиданно вышел огромный белый слон. Он появился именно из-за кустов, хотя по высоте был раз в десять их выше, и я совершенно не в силах объяснить, как это произошло. Не то чтобы он был маленьким в тот момент, когда появился, а потом, приближаясь к нам, вырос в размерах в несколько раз. И не то чтобы он вышел из-за какой-то невидимой стены, совпадавшей по своему расположению с этими кустами. Выходя из-за кустов, слон уже был неправдоподобно огромным, и вместе с тем он вышел именно из-за крохотной полоски кустов, за которой вряд ли могла бы спрятаться и овца.Со мной повторилось то же самое, что и несколько минут назад, - мне показалось, что вот-вот я пойму что-то очень важное, что вот-вот станут видны спрятанные за покровом реальности рычаги и тяги, которые приводят в движение все вокруг. Но это чувство прошло, а огромный белый слон остался перед нами
”.Правда, чудо как хорошо.
Это – без всякого “Затаился” описан филиал того света для воинов, восточная Валгалла
.Сюжетно он вставлен как демонстрация – по инициативе Чапаева – для Петра Пустоты и Григория Котовского того места, куда им (и России) предлагается уйти из мира. Ибо Петр к тому времени еще имеет свою альтернативу – авторитаризм,
а Котовский – наркотические видения (не надуманный вариант, помня о психеделической революции на Западе и количестве наркоманов в России к тому времени, когда я это пишу).К слову: не абсолютно любой элемент в художественном произведении призван работать на противочувствия и катарсис.
Вот, Котовский, символ еще одного тут варианта решения вопросов типа “быть или не быть?” и “что делать?”
- психеделического. Относительно такого варианта совершенно определенно чувствуется в романе, что он неприемлем.Такое же отношение и относительно махновского типа демократии – анархии. Ее символом является Фурманов:
“
Они совсем перепились, - сказал он.- Почему вы не поговорите с Фурмановым? - спросил я.
- Я не думаю, что он в состоянии ими управлять, - ответил Чапаев. Он остается их командиром только потому, что постоянно отдает именно те приказы, которые они хотят услышать. Стоит ему хоть раз серьезно ошибиться, и у них быстро отыщется новый начальник”.
Дочитавшего до этого места, конечно, не удивляет, что исторические фигуры: Чапаев, Котовский, Фурманов,- представлены совсем не в соответствии с их действительными функциями. Тут как в “Омоне Ра” с блезирной советской космонавтикой.
Вот так – невзначай – я и коснулся ответов на вопросы, зачем Пелевин ввел Котовского, Фурманова, Аристотеля, вообще философию – и все, более или менее, в связи с четырехсложным “Затаился”, что навеялось мне при заканчивании первым чтением романа.
*
Остается – в повторном чтении – задержаться на конце “Чапаева и Пустоты”:
“
Броневик Чапаева…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Как дела? - спросил он.
- Не знаю, - сказал я. - Трудно разобраться в вихре гамм и красок внутренней противоречивой жизни.
- Понятно, - сказал Чапаев. - Тебе привет от Анны. Она просила передать тебе вот это.
Нагнувшись, он протянул здоровую руку под сиденье и поставил на стол пустую бутылку с золотой этикеткой, сделанной из квадратика фольги. Из бутылки торчала желтая роза.
- Она сказала, что ты поймешь, - сказал Чапаев. - И еще, кажется, ты обещал ей какие-то книги.
Я кивнул, повернулся к двери и припал к глазку. Сначала сквозь него были видны только синие точки фонарей, прорезавших морозный воздух, но мы ехали все быстрее - и скоро, скоро вокруг уже шуршали пески и шумели водопады милой моему сердцу Внутренней Монголии.
Кафка-юрт, 1923-1925
”Обратите внимание на жалкий символ – цветок в пустой бутылке – той полноты жизни, того любовного всплеска, что случился с Петром и Анной во сне Петра. Теперь это ничтожество символизирует зов Анны к воистину блезирному совместному существованию в нирване
.Так насколько – согласитесь! – этот бледный символ противопоставлен той ярко-черной Валгалле, которую вы, читатель, только что ощутили в приведенных цитатах… Опять – противоречия элементов ради выражения художественного смысла, опять – протвочувствия ради катарсиса: некого неприятия нирваны.
И сочувствуете ли вы самым последним словам:
“милой моему сердцу Внутренней Монголии”?Затаился Пелевин.
Я наврал, что все время правильно знал последние слова песни, лейтмотивом вставленной в этот разбор. Вот как мне помнилось:
Умру ли я – и за могилою…
Меня, неправильно помнившего, восхищал мистический тон, приобретаемый всей песней.
Теперь, осознав небуддистский художественный смысл все же постмодернистского (а может, сюрреалистического а ля Элюар?) романа “Чапаев и Пустота”, зная истинные слова конца песни, я тем более восхищаюсь ею, ее финалом.
Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда!
Все остается людям.
В кои веки погода подарила Натании красивый закат. Весь день дул свежий ветер, сдувал пар с моря и суши. Стали видны горы на востоке и морской горизонт на западе. К вечеру ветер улегся, и высокие облака остановились. Заходящее солнце, наконец, стало оранжевым, как в Одессе. Но я никогда не видел, чтоб и через четверть часа после захода из-за горизонта все еще били сквозь облака снопы лучей.
Вот также, подумалось, будет после смерти Пелевина, дай, Бог, ему долгие годы жизни.
Только моей звезды за облаками не было видно.
И вот такая, думаю, судьба моей интерпретации и повести, и романа.
А вообще моя судьба, наверно, похожа на все прежние весенние закаты в Натании. Пар, белое, блеклое солнце в пути до самого горизонта. Сядет – и никакой реакции в природе. Что было, что не было. Светло, пусто. И первая звезда уже давно видна высоко в небе. Звезда для всех живущих.
18 мая 2004 г.
Натания. Израиль
Еще о Пелевине
Есть повод продолжить сравнение моих переживаний по поводу Пелевина с вечерней звездой над Натанией, местом, где я все еще живу. Я много душевных сил потратил на Пелевина, и мне жаль с ним расставаться. Назначил стадию вылеживания тому, что написал о нем, а тем временем стал почитывать, что пишут о нем другие. То бишь приблизилась моя звезда к вечерней заре и потерялась в ее сиянии. И мое чтение
критики о Пелевине удручает. Да смел ли я, необразованный и неумный, вообще заниматься литературной критикой? Вон, какие аллюзии (намеки на известные произведения) в Ч и П видят. А я – нет. Вон, какие только грехи ни находят у Пелевина! И пока мне их не укажут, сам я не вижу. Хочу же – поместить свои размышлизмы о нем в интернет (а раньше – смел – в одесскую газету). Забьет же меня – сиянием от Пелевина-солнца – озаренная атмосфера-критика.Вечерняя звезда над Натанией исчезла, подойдя слишком близко к солнцу.
Она оказалась Венерой. О Венере сказали в телевизоре, что скоро она пройдет по диску солнца и можно это увидеть, если посмотреть сквозь очень темное стекло. При вхождении на диск она будет обрамлена ярким кольцом (так открыл когда-то на ней атмосферу Ломоносов). Моя недавняя писанина о Пелевине тоже очень оригинальна. Сам Пелевин вряд ли согласился б с моим толкованием художественного смысла, который я в его повести и романе открыл – все еще тлеющий патриотизм и соборность. Зато я своими разговорами об оригинальности, этим ореолом венерианским, сумел возбудить любопытство одного своего читателя к моему будущему сайту в интернете. Реклама хоть кого-нибудь да соблазнит… Вон, и на Венеру все станут вдруг смотреть. А вдруг для кого-то и я сверкну кольцом почти солнечного света!..
И, чтоб это случилось понадежнее, надо вступить в полемику с
суждениями, отличающимися от моих. И если те в чем-то правы – поправиться.*
“
Пелевин всегда утверждал, что объективной реальности не существует. Поэтому часто сам предпочитал исчезать… Пелевин стрижется почти наголо: "Это у меня буддистское"… охотно ездит в буддистские монастыри в Корею” (http://lib.ru/PELEWIN/interviewbratok.txt из интервью Карине Добротворской). “Буддизм меня привлекает еще и потому, что помогает очистить голову от мусора современной жизни” (http://www.svoboda.org/programs/RQ/2000/RQ.31.asp из интервью Джэсону Коули).Ну, это меня мало беспокоит. Как писал Г. А. Гуковский, “можно не до конца открывать себя (вольно или невольно), можно искажать самого себя - в письмах, в разговорах, в декларациях, в личных поступках, но никоим образом не в творчестве, если иметь в виду подлинно ценное творчество”. А творчество Пелевина, похоже, именно такое. И в нем я не чувствую стремления к нирване. Да и не думается, что это стремление объективно есть.
Беспокоит меня, что многие критики в Пелевине-художнике видят проводника буддизма.
“
Впрочем, основной тезис всех его книг не принадлежит автору. Скорее, говоря по-пелевински, это автор принадлежит своему основному тезису. Речь идет об универсальной для современной культуры проблеме исчезнувшей реальности.Ее-то Пелевин и сделал фамилией героя своего дзен-буддистского боевика "Чапаев и Пустота". Буддизм в нем - не экзотическая система авторских взглядов, а неизбежный вывод из наблюдения над современностью. Однако прелесть этого романа не в послании (message), а в средстве связи (medium). Заслуга автора в том, что путь от одной пустоты к другой он проложил по изъезженному пространству.. Роман заиграл от того, что содержание - буддистскую сутру - Пелевин опрокинул в форму чапаевского мифа
” (http://www.svoboda.org/programs/OTB/1999/OBT.02.asp Александр. Генис).“С завидным упорством, он всегда и при всех обстоятельствах (но под разным обличьем) проталкивает одну и ту же идею, - начиная чуть ли не с первого своего произведения. Настойчиво пытается отвратить сознание от всех иных соблазнов и преподнести ему свой собственный. Только не подумайте, ради бога, когда будете читать Пелевина, что он хочет навязать нам какую-то свою, свежевыдуманную версию буддизма, даосизма или элэсдеизма. Нет, как говорят специалисты, все, что он делает, и буквально и по духу вполне укладывается в ортодоксальную традицию Махаяны” (http://lib.ru/PELEWIN/korneew_2.txt#8 Сергей Корнев).
Ну что: поверим (раз я не нашел специалистов, на которых Корнев намекает) и начнем разбираться сами?
Буддизмов два: махаяна и хинаяна. По хинаяне Высший Религиозный Идеал достигает освобождения от мирского существования сам, не заботясь о спасении других, по махаяне он (в лице бодхисатвы) спасается со всеми единомышленниками и последним из них, будучи всю дорогу примером для них.
В “Омоне Ра” наподобие бодхисатвы тянет Омон. Он давно понял
“раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость” (а не нечто из сочинений “разных солженицынов”), и Омон раньше всех это понял, и он должен был позже всех “космонавтов” уйти из жизни. Ну и главное, как научил замполит Урчагин, - сохранить это стремление к свободе (и справедливости), не смотря ни на что. Что, похоже, в финале и выполняется. (Правда, не понятно, почему та сверхбудущая полная свобода и справедливость,- то бишь освоенный космос,- представляется – из-за вспомненного Омоном Урчагина – околокоммунистическим царством, а не чем-то трансцедентным. Ну да ладно. Простим Пелевину.)В “Чапаеве и Пустоте” на бодхисатву больше всего походит Чапаев. Но что-то мало у него единомышленников: только Анка и Петька. И последним освобождается от мирского существования не Чапаев, а Петр.
“
- Чапаев, - испуганно сказал я, - подождите. Вы не можете так меня бросить. Вы должны хотя бы объяснить...Но было уже поздно. Земля под его каблуками осыпалась, он потерял равновесие и, раскинув руки, упал спиной в радужное сияние - совсем как вода, оно раздалось на миг в стороны, потом сомкнулось над ним, и я остался один
”. И окончательно его Чапаев с собой забрал только через целую главу.Ну ладно. Не будем мелочиться. Простим Пелевину.
Правда, собственно и пафоса именно религиозности что-то не чувствовалось ни в повести, ни в романе. Все, что ни есть там странного, является игрой воображения, или сном, или бредом. Все не требует для своего объяснения мистики. А что за религия – без мистики?..
Ну, простим и это Пелевину.
Ведь буддизм (та же махаяна,- вроде, ее, коллективистскую, нужно-таки иметь в виду) породил же и собственно философию. Может, Пелевин на нее делал упор. И литературные критики виноваты лишь в том, что не стали отличать философию от религии…
Философий две, основных. Одна (йогачара) отрицает реальность внешнего мира, другая (мадхьямика) – и внутреннего…
Но тут случилась заминка. Я не смог дальше продвинуться в изучении ни буддизма, ни его философии
. На русском языке литературы по буддизму в библиотеке Натании нет. Платные русские сайты в Интернете я не могу себе позволить. Сайт “Словарь буддизма” http://mirror01.users.i.com.ua/~sangha/dharma/dict/index.html невозможно одолеть из-за неевропейской бесконечной какой-то сложности изложения материала. Например, слово дхарма зависит от контекста и имеет пять групп (групп!) значений. И все религиозные издания непостижимы мне, европейцу и атеисту. Знакомых буддистов у меня нет. А интернетско-буддистские тусовки меня не могут удовлетворить.А без спецов по буддизму, боюсь, не обойтись.
Не зря, видно, и процитированный Корнев написал такие слова: “
как говорят специалисты”,- рассуждая о буддизме Пелевина. А Корнев, похоже, один из самых серьезных – в этом отношении – его критик. И нигде у критиков Пелевина мне не встретился случай систематической проверки, действительно ли Пелевин проводит идеи буддизма в массы, так сказать. Все – как-то голословно или отрывочно…Один позволил себе конкретику, так и тот – не критик: “…
по ходу романа выясняется, что герой [Чапаев] является на самом деле аватарой будды Анагамы” (http://www.ilim.ru/peтlevin/bio.htm).Ну проверим. Ни “аватары”, ни “Анагамы” в “Словаре буддизма” нет. И правильно. “Аватара” – это, оказалось, “воплощение” по религии-предшественнице буддизма. Нечего этому слову быть в “Словаре буддизма”. Слово “анагами”, с маленькой буквы и с “и” вместо “а” в окончании, я нашел в книге ламы Анагарики Говинды “Психологическая установка философии раннего буддизма (согласно традиции Абхидхаммы)” в переводе Бреславца, в четвертой части. Анагами это один из четырех типов людей, “
устремленных к Цели”: “Тот, кто вступает на путь совершенного освобождения от чувственного желания и гнева и достижения цели невозвращения, или тот, кто полностью преодолел страсть и гнев: такой человек называется невозвращающийся (анагами)” (http://www.psylib.org.ua/books/govin01/txt04.htm#4).Выходит, пошутил Пелевин (слово “Анагама” встречается в романе один раз):
“Анна спустилась из башни, села рядом со мной и закурила папиросу. Я заметил, что ее пальцы дрожат. [Она уничтожила всех ткачей-красногвардейцев.]
- Это был глиняный пулемет, - сказал Чапаев. - Теперь я могу рассказать тебе, что это такое. На самом деле это никакой не пулемет. Просто много тысячелетий назад, задолго до того, как в мир пришли будда Дипанкара и будда Шакьямуни, жил будда Анагама. Он не тратил времени на объяснения, а просто указывал на вещи мизинцем своей левой руки, и сразу же после этого проявлялась их истинная природа. Когда он указывал на гору, она исчезала, когда он указывал на реку, она тоже пропадала. Это долгая история - короче, кончилось все тем, что он указал мизинцем на себя самого и после этого исчез. От него остался только этот левый мизинец, который его ученики спрятали в куске глины. Глиняный пулемет и есть этот кусок глины с мизинцем Будды. Очень давно в Индии жил человек, который попытался превратить этот кусок глины в самое страшное на земле оружие. Но как только он просверлил в глине дырку, этот мизинец указал на него самого, и он исчез. С тех пор мизинец хранился в запертом сундуке и переезжал с места на место, пока не затерялся в одном из монгольских монастырей. А сейчас, по целому ряду обстоятельств, он оказался у меня. Я приделал к нему приклад и назвал его глиняным пулеметом. И только что мы пустили его в ход
”.А выяснивший, что Чапаев – автара Анатамы, похоже, попался немного. По “Словарю буддизма” “
мифологические представления буддистов допускают вмешательство (и даже вступление) нирванических существ в сансару [в блуждание по мирскому бытию]: так, дхьяни-будды эманируются в сансару в виде бодхисаттв и земных будд, особо выдающиеся личности могут в исключительных случаях иметь контакты даже с Адибуддой [религиозной персонификацией всех будд и бодхисатв]” (http://mirror01.users.i.com.ua/~sangha/dharma/dict/dict-S.htm#12). Так в отношении Анны и Петра Чапаев таки выступает в роли нирванического существа. Он приводит этих двоих в нирвану, во что-то желанное с буддистской точки зрения. Но что он сделал с ткачами? Разве тоже ими желанное? Достаточно желанное? Не отправил ли он их в Валгаллу, тот свет для воинов, где они побудут некоторое время и вернутся в мирскую жизнь опять – по буддизму - страдать? И если да, то зачем приходил в мир бодхисатва Чапаев? Только ради Анны и Петра?А в отношении ткачей, похоже, он и не пытался выполнять свою функцию.
То есть не подшутил ли Пелевин над само
`й главной буддистской идеей? И если подшутил, то не ради ли другой, тайной и от святости непроизносимой идеи – все-таки мессианства России,- а не кого с Востока или с Запада,- для человечества? Что если Пелевин тихо-тихо думает, что России как-то надо продержаться на своем довольно низком (но не нирванически нулевом) хозяйственном уровне, пока земляне не созреют до понимания необходимости хозяйственного застоя (но тоже не нирваны) во избежание глобальной экологической катастрофы? Что если Пелевин ради этого и творит?.. Запад, мол, дает путь прогресса и катастрофы. Восток – путь регресса и тоже катастрофы. Россия – путь застоя и спасения. Средний, но не по-буддистски.Это тем более оправдано, что в романе используется и буддизм, и постмодернизм. Оба – конечные результаты совершенного разочарования во всем.
*
Но это я свернул с проверки
Пелевина на буддизм. Надо вернуться.В какой-то момент, прочитав такое
: “Мадхьямика утверждает, что признание существования всего - это одна крайность, непризнание - другая крайность, а истина в середине, что и есть шунья (пустота)” (http://relig.irk.ru/dict/s/shunja.htm), я подумал, что понял, почему у Анны дрожали пальцы после уничтожения ею ткачей и почему она “вздрогнула, и спичка чуть не выпала из ее пальцев”, когда услышала, что в городе видели черного барона Юнгерна, начальника, как выяснилось, пелевинского филиала того света для воинов, Валгаллы. Я подумал, что она отправила ткачей в одну из крайностей, по мадхьямике, в несуществование, а от Юнгерна опасалась попасть в другую крайность, в существование, в сансару, в Валгаллу, где страдание не прекращено навсегда. В Урал же (условную реку абсолютной любви), она, Анна, потому,- понял было я,- и бросилась первой из троих (ее, Чапаева и Пустоты), что это, мол, то самое, срединное - пустота.Но и это понимание оказалось обманкой.
Нирвана, если серьезно, неопределима.
“
Буддийские тексты не дают конкретного определения нирваны, заменяя его многочисленными описаниями и эпитетами, в которых нирвана изображается как противоположное всему, что может быть, и потому как непостижимое и невыразимое” (http://relig.irk.ru/dict/n/nirvana.htm).Единственное постижимое для меня, европейца и атеиста
, утверждение – такое (но оно – мнение извне): “Буддизм рассматривает все связи человека, в т.ч. и общественные, как зло и в этом смысле глубоко асоциален по своему характеру” (www.students.chemport.ru/materials/Philosophy/Phil).А все эти благие разговоры,- насчет “
безгрешности” нирваны, рассмотренной со стороны “нравственно-эмоциональной” (www.students.chemport.ru/materials/Philosophy/Phil), при наличии “абсолютной независимости от внешнего”, являющегося в рассмотрении “со стороны волевой” (www.students.chemport.ru/materials/Philosophy/Phil),- есть не что иное как пусть и самообманная, но дымовая завеса для обделывания ритуальных дел, дающих религиозным деятелям возможность вполне материально и достойно существовать за счет желающих удалиться от жизни индивидуалистов.“
…шуньяна означает не несуществование эмпирического бытия, а только отсутствие у него постоянной опоры и сущности, страдание в итоге оказывается вызванным отсутствием смысла и ценности этого бытия, что и дало повод для утверждений о нигилизме буддизма” (www.students.chemport.ru/materials/Philosophy/Phil).Вот это можно понять. Отсутствие ценности и смысла бытия. А не, мол: “
объективной реальности не существует”… Правильно Пелевин написал: “философию правильнее было бы называть софоложеством”. Такую философию. Правда, он эти слова отдал пьяному Петьке. Но все равно.Потому все равно, что Пелевин явно софоложеством занимается по отношению к буддизму (как он это же делает – я показал в предыдущем опусе – и с другими мировоззрениями): Пелевин наплевательски относится, например, к словесным ловушкам, что якобы служат, каждая, <<Петьке очередной ступенью на пути к просветлению>> (http://www.svoboda.org/programs/OTB/1999/OBT.02.asp Александр. Генис).
“- Что ты называешь "я"?
- Видимо, себя.
- Ты можешь мне сказать, кто ты?
- Петр Пустота.
- Это твое имя. А кто тот, кто это имя носит?
- Ну, - сказал я, - можно сказать, что я - это психическая личность. Совокупность привычек, опыта... Ну знаний там, вкусов.
- Чьи же это привычки, Петька? - проникновенно спросил Чапаев.
- Мои, - пожал я плечами.
- Так ты ж только что сказал, Петька, что ты и есть совокупность привычек. Раз эти привычки твои, то выходит, что это привычки совокупности привычек?
- Звучит забавно, - сказал я, - но, в сущности, так и есть.
- А какие привычки бывают у привычек?
Я почувствовал раздражение”.
А я предположил, что это и есть аналог коана, на чем настаивает Александр Генис. Но, подозревая, что автор романа насмехается над буддизмом, я предположил также, что Пелевин посмеялся тут над устройством этого Чапаевым сочинения коана.
Я попросил специалиста по формальной логике проанализировать диалог. И вот что получилось.
Чапаев воспользовался обычной полисемией человеческих слов. Слово “совокупность” имеет два смысла. Один – делимое множество. Другой – в каком-то отношении неделимый объект. В этом втором случае словосочетание “совокупность привычек” является некорректным. А корректным было бы “совокупность, которая имеет привычки”.
Петька думает о втором смысле, а Чапаев незаметно подсовывает первый. И заставляет того почувствовать себя не в своей тарелке.
Перед нами софизм как умышленный обман.
Дальний прицел Чапаева, по мнению Гениса о намерении Пелевина, – привести активного и волевого человека к мыслям о ценности совсем противоположного своему характеру толка, того, чему как-то соответствует того фамилия – Пустота.
Но.
Тут интересно проследить историю зарождения, расцвета и исчезновения софистики самой по себе, то есть ее судьбу в Древней Греции.
“
В словесных упражнениях, какими были софистические рассуждения, неосознанно отрабатывались первые, конечно, еще неловкие приемы логического анализа языка и мышления” (http://www.philosophy.ru/edu/ref/logic/ivin.html#_Toc512455464).Дело шло к открытию Аристотелем законов логики, о существовании которых человечество еще не знало, но ЧТО-ТО смутно предчувствовало. И лишь потом, после совершившегося открытия, софистика потеряла свою популярность и многозначительность.
“Все в истории повторяется
, появляясь в первый раз как трагедия, а во второй — как фарс. Перефразируя этот афоризм, можно сказать, что софизм, впервые выдвигающий некоторую проблему, является, в сущности, трагедией недостаточно зрелого и недостаточно знающего ума, пытающегося как-то понять то, что он пока не способен выразить даже в форме вопроса. Софизм, вуалирующий известную и, возможно, уже решенную проблему, повторяющий тем самым то, что уже пройдено, является, конечно, фарсом” (http://www.philosophy.ru/edu/ref/logic/ivin.html#_Toc512455464).Так смел ли Пелевин брать софизм для целей, полагающихся коану?
А теперь посмотрим на настоящий коан.
“
Хлопок--звук от двух ладоней. Каков же звук от одной?”.Вы как хотите, а мне так и чудится тут намек на нечто в принципе непостижимое. И если такое на свете таки есть, и если человек для того только и существует, чтоб все постигать, то, получается, что существование человека бессмысленно!
А есть ли в коане нарушение какого-нибудь закона логики?
Ведь вполне мыслимо представить жест для хлопка одной ладонью. Это быстрое движение с резким торможением, как бы наткнувшееся на препятствие. И ведь есть же в природе инфразвуки. Что если звук таки получается, но он лежит по частоте ниже порога слышимости для человеческого уха. И если сделать нечто, как изобретен был микроскоп для глаза, то и можно будет “услышать” хлопок одной ладонью. Только понятно, что тысячи лет назад не могло быть речи о таких приборах. Потому коан наводил на пассивность как на высшую мудрость.
Да мы и сегодня, всерьез вживаясь в нетехнизированную ауру этого коана, приходим к такому же переживанию, как и буддисты тысячи лет назад. Я с трудом представляю современного человека, который послушав этот коан, сказал бы, как пелевинский герой:
“Я почувствовал раздражение”.Судя по тому, что Пелевин много времени провел в буддийских монастырях, я не думаю, что он не в состоянии был сочинить настоящий коан.
Подсунув софизм вместо коана, он подшутил над коаном.
Вот еще и так подтверждается мое подозрение, что Пелевин не буддист по своему сокровенному миротношению. Над все-таки сокровенным не шутят. Пусть это сокровенное и состоит в том, что все – бессмысленно.
Над буддизмом, наверно, нечего было потешаться во время его возникновения, в века до новой эры. Даже и позже. Восточные деспотии, наверно, не давали умному человеку перспективы улучшения людской жизни (и богатые тоже плачут). Такова, может, типичная эгоистическая реакция разочаровавшегося в действительности какого-то малострадающего человеческого слоя. Совсем недавно им были, например, разочаровавшиеся дети обеспеченных родителей в США в прошлом веке. Эти заскучавшие в неизбывном мещанстве эгоисты, которым претила и активистская вседозволенность их общества, естественным образом пришли к дзен-буддизму. На него же – еще пример - стали влюбленно посматривать разочаровавшиеся в, навсегда вроде, застрявшей на феноменологии физике ХХ века некоторые философы.
Это все – перспектива совсем не похожая на перспективу софистов Древней Греции: открытие науки логики.
Реальная проблематика пелевинского романа, правда, есть перспектива исчезновения России путем тихой китаизации Сибири и тихой вестернизации ее европейской части (если не исламизации ее вместе со всей Европой, как то следует из некоторых исследований). Правда, как раз о китаизации и исламизации Пелевин почему-то умолчал в своем романе, якобы подсовывая буддистскую монголизацию.
Так может, потому и умолчал, что затаил надежду, авось-де кривая вывезет? Может, потому и подсунул всего лишь ЯКОБЫ буддистскую монголизацию?
*
Нашелся критик, утверждающий, что – по Пелевину - России суждено соединить в себе Восток и Запад:
“
Подобно Белому,[
я оставляю за скобками это подобно…]Пелевин отталкивается и от Востока (Японии), и от Запада, углубляясь в пространства “Внутренней Монголии”, не чуждой однако лучшего на Востоке и Западе (рукопись Петра Пустоты написана в “Кафка-юрте”)
” (Вячеслав Девятов http://www.altnet.ru/~lik/Kritika/shvarc.htm).Но мне кажется, что
лучшее на Востоке и Западе это прогрессизм, активность - оптимизм, одним словом. По крайней мере – в самосознании Запада, который, я думаю, что знаю.Или Девятова не надо так банально понимать?
Если Пелевин, по-моему, со смутой в душе подходит к будущему России, то – понимай Девятова – к месту оказывается Кафка. А Кафка - квиетист. “…
квиетизм <…> мысль Кафки, убеждение в том, что всякое действие бесполезно и что волнение мира не стоит того, чтобы принимать в нем участие” (http://www.openweb.ru/kafka/about/finalbiog.htm).Такой, нерелигиозный квиетизм, что-то вроде дома отдыха,
- кем-то оплаченного, правда, например, цивилизмом (строем, где нежелающие участвовать в капиталистической гонке обеспечиваются за счет ренты на природные ресурсы) - понятней нирваны. И можно себе представить, что и монгольский монастырь такой же. Живет-поживает в нем Петр Пустота, пописывает свой роман о себе в прошлом… Отдыхает от жизни. Рядом любимая женщина, Анна, друг, Чапаев. – Рай, а не нирвана. Такое будущее России я лично б видел как мечту. Это б очень походило на тот, вышеназванный, средний путь, который неплохо, чтоб выбрало человечество.И ошибочно, получается, я загрустил, читая конец романа.
А надо было почуять, что Анна не из нирваны прислала с Чапаевым Петру знак: пустую бутылку с цветком. И вспомнить надо было предисловие, что роман написан Петром в монастыре Внутренней Монголии. В монастыре, а не в нирване. И заметить надо было, что этот монастырь тут же, в конце, после собственно текста, и вписан автором в качестве места написания: Кафка-юрт. И с датой. А не – из безвременья, каковое можно ожидать в нирване.
И все-таки, и все-таки…
Александр Генис написал:
<<
…для многих роман остался непонятым. Представьте себе читателя "Мастера и Маргариты" не только не знающего, но и не желающего ничего знать о христианстве. Абсурд! Однако, именно это произошло с пелевинским "Чапаевым">>.И мне подумалось: а нужно ли такое представлять? Что если и Пелевин, точно так же, как и Булгаков, писал свой якобы буддистский роман для иудео-христианского мира, а не для дальне- центрально- и южно-азиатского? Для людей, крайне невнятно знающих про буддизм и все его производные…
Тогда, чтоб внушить свой негативизм к этой для нас невнятице, ему б понадобились две противоположные вещи. Первая – оставить нас во мнении, что полный жизни Петр уходит из этой жизни, в нирвану (чтоб мы его пожалели). Вторая – сделать для нас незаметным, что он уходит не в нирвану, а в некий дом отдыха, в монастырь (чтоб мы не вздумали за него порадоваться).
Для второго очень хороша (обсуждавшаяся в моем предыдущем опусе) запутанность предисловия, которая очень кстати оказывается в чтении очень далеко от финала. Хороша и мизерность “послесловия”:
“Кафка-юрт, 1923-1925”.Для первого хороша ирреальность, куда исчезает Анка и Чапаев:
“
То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока, неизмеримо широкой реки, начинавшейся где-то в бесконечности и уходящей в такую же бесконечность. Она простиралась вокруг нашего острова во все стороны насколько хватало зрения, но все же это было не море, а именно река, поток, потому что у него было явственно заметное течение. Свет, которым он заливал нас троих, был очень ярким, но в нем не было ничего ослепляющего или страшного, потому что он в то же самое время был милостью, счастьем и любовью бесконечной силы - собственно говоря, эти три слова, опохабленные литературой и искусством, совершенно не в состоянии ничего передать. Просто глядеть на эти постоянно возникающие разноцветные огни и искры было уже достаточно, потому что все, о чем я только мог подумать или мечтать, было частью этого радужного потока, а еще точнее - этот радужный поток и был всем тем, что я только мог подумать или испытать, всем тем, что только могло быть или не быть, - и он, я это знал наверное, не был чем-то отличным от меня. Он был мною, а я был им. Я всегда был им, и больше ничем.- Что это? - спросил я.
- Ничего, - ответил Чапаев.
- Да нет, я не в том смысле, - сказал я. - Как это называется?
- По-разному, - ответил Чапаев. - Я называю его условной рекой
абсолютной любви. Если сокращенно - Урал. Мы то становимся им, то принимаем формы, но на самом деле нет ни форм, ни нас, ни даже Урала. Поэтому и говорят - мы, формы, Урал.- Но зачем мы это делаем?
Чапаев пожал плечами.
- Не знаю.
- А если по-человечески? - спросил я.
- Надо же чем-то занять себя в этой вечности, - сказал он. - Ну вот мы
и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет. Не бойся, Петька, ныряй!”Вроде бы нирвана. Для несведущих. Каких большинство. И кем совсем не хотел пренебрегать Пелевин.
Лишь для сведущих ясно, что это описание – насмешка над неопределимостью нирваны. Ну так для них сработают еще и другие насмешки над буддизмом, и результат – надежда на средний путь России – будет тот же, что и для несведущих
.Молодец Пелевин!
Можно, пожалуй, кончать фазу вылеживания для моего предыдущего опуса.
23 августа 2004 г.
Натания. Израиль
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |
Из переписки |