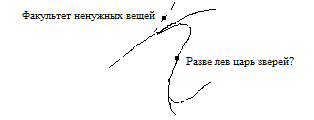
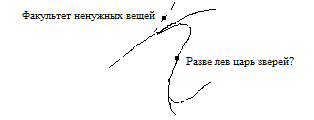
С. Воложин
Окуджава. Разве лев - царь зверей?
Домбровский. Факультет ненужных вещей
Художественный и прикладной смыслы
|
Окуджава жуткое, максималистское четверостишие посвятил максималисту Домбровскому. – Посвятил, вжившись в его мироотношение, и – освободился от этого морока. |
По цепи извращений
Извращениями занимается Дмитрий Быков (“Время потрясений 1900 - 1950” М., 2018. С. 28). Пишу это авансом. Потому что уже несколько раз ловил его на них. И думаю, что и теперь будет то же.
Он писал о романе Мережковского, которого – и автора и роман – в России, мол, не любят. По ходу процитировал Окуджаву:
|
Разве лев - царь зверей? Человек - царь зверей. Вот он выйдет с утра из квартиры своей, он посмотрит кругом, улыбнется... Целый мир перед ним содрогнется. |
Человек я теперь – из-за информационной войны – стал чуть не больной: у меня рефлекс – всё проверять, что могу. Как конкретность – так есть шанс проверить. – До идиотизма дохожу. – Вдруг Быков соврал, что это стих Окуджавы? – Представляете?
Он таки соврал! – В его цитате нет посвящения. Я это обнаружил при первом же запросе в поисковике полустроки, в первом же по очереди выданном сайте. – Ю. Домбровскому посвящено.
Ну и дату Быков не написал. А дата для меня – неотъемлемый элемент произведения. Тем более в отношении Окуджавы. Который года с 1963-го или даже раньше предал левое шестидесятничество (спасение больного социализма) и стал переходить в правое (нужен капитализм взамен заболевшего социализма).
Дата нашлась на сайте, втором по перечню в поисковике. – 1969-й. – Значит, уже предавший. Сделавшийся мудрым, а не залётным, как левые.
А стих-то – экстремистский. Если читать “в лоб”. – И кто этот Ю. Домбровский? – Стал искать. – Боже, сколько раз его арестовывали и сажали… Автор знаменитой (но мною не читанной) книги “Факультет ненужных вещей”. "…начатый им в 1964 году и законченный в 1975 году. Это книга о судьбе ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском и антигуманистическом — и о людях, которые взяли на себя миссию верности этим идеалам и ценностям, “ненужным вещам” для сталинского строя” (Википедия).
Передо мной замаячила перспектива читать нечто, если не совсем, то почти публицистическое (а читать публицистику не моё амплуа – там нет скрытого, которое взялся вскрывать я). Но. Вдруг… – Я открыл её. – Там есть с самого начала, в эпиграфе, убойная цитата из К. Маркса:
"Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плеть начинает воображать, будто она гениальна”.
Мне и тут что-то показалось сомнительным. Я стал искать эти слова у Маркса. Нашёл. – Во-первых, они энгельсовские, а не марксовы. – Во-вторых, этими словами сказано, что Карлейль (против кого эти слова сказаны) – дурак, раз он против демократии. Иначе говоря:
"…всякий угнетенный класс, чем сильнее его угнетение, тем более чужд гениальности, тем более становится жертвой ярости нашего непризнанного реформатора [Карлейля, выступающего за жестокость буржуазии к наёмным работникам]" (Энгельс. https://fil.wikireading.ru/34633).
Ещё иначе – Энгельс как Крылов, вложивший в уста законника-Волка слова: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. – И – мы хохочем.
То есть Домбровский собрался осмеять силовиков Сталина, этих дураков, вместе со Сталиным, не ведающих, что творят. (В эпиграфах художественных произведений обычно выражается, наконец, словесно то, зачем вещь сочинена, но не имеет словесного отражения в тексте произведения. А в публицистике?)
У Домбровского дан второй эпиграф, который совсем не осмеянием грозит противникам:
"Когда спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, поэтому мы в конце концов непременно победим; когда-нибудь мы вспомним так много, что выроем самую глубокую могилу в мире.
Р. Брэдбери”.
Видимо, Домбровский за сарказм Маркса принял насмешку Энгельса.
Люстрацию родственников сталинских палачей, что ли, предвидит Домбровский в 1975 году? Месть поколениям типа гоголевской “Страшной мести”?
Окуджава не мог быть таким кровожадным, раз он ушёл от юношеского максимализма левых шестидесятников. Что и подтверждается, например, тем, как он грустно пел в том же 1969 году: "наша судьба - то гульба, то пальба”, а рассматриваемое жуткое, максималистское четверостишие посвятил максималисту Домбровскому. – Посвятил, вжившись в его мироотношение, и – освободился от этого морока.
Быкову, конечно, невдомёк такие тонкости, как невозможность процитировать художественный смысл. Вот он для иллюстрации-то описываемого Мережковским зверства обстановки жизни Леонардо да Винчи и цитирует, не мудрствуя… не Мережковского цитирует, а Окуджаву без посвящения.
Ошалеть!.. Какая психологическая тонкость у Домбровского в “Факультете…”!.. Такая, что – словно он взял и швырнул тебя, читателя, в ужас 1937-го года.
Мне тётя родная рассказывала, как она, наивная, пришла – куда она там пришла, не помню? – жаловаться на вора-начальника, а он тем, к кому пришла, оказался какой-то свой, что ли, так они чуть её не арестовали как врага народа… – Я выслушал, помню, и никакого сочувствия не проявил.
А читая Домбровского, меня чуть не затрясло…
Зачем он так? В 1964 – 1975 годах-то…
“Ну кончилась хрущёвская оттепель, ну настали брежневские… что? – разве это холода? – Так, наверно, думал Окуджава про Домбровского. – Но разве надо так бояться, что вернётся прежнее? История ж не повторяется…”
- Собственно, откуда мог Окуджава знать об этом романе в 1969 году, если тот будет окончен только через 6 лет?
- Так я ведь чуть не задрожал уже на второй главе… Домбровский мог дать Окуджаве почитать начало… Или его горячность и по предыдущим произведениям была видна?..
"Из всех стихотворений, написанных Ю. Домбровским, при жизни писателя напечатано только одно… Дата написания того или иного стихотворения автором нигде не указана” (https://www.litmir.me/br/?b=42957&p=3 ).
Но что, если вот это было известно Окуджаве:
Надпись на книге
|
И я умел сажать Иуду В ему принадлежащий ад, И я не удивлялся чуду, Которым женщину творят. И все сминая, всем ликуя, И я бывал в числе таких, Что словно раковину морскую - Тугую створку рвут у них. Но счастлив я, что к изголовью Твоих, о ненависть! - могил Со Всепрощающей Любовью Я никогда не подходил. Что все пройдя, все принимая, И отрешенный от всего, Я не искал иного Рая Помимо Ада моего! |
Теперь понятно, какою горячей жалостью к Домбровскому движим был Окуджава, сочиняя и посвящая ему своё стихотворение.
Домбровский экспрессионист, пожалуй. “Нет Бога на свете!” Есть чудовищное Безразличие. И не знаю, мыслим ли для Домбровского даже и сверхисторический (христианоподобный, но безрелигиозный) оптимизм. Может в этой теме ада заключается недопустимый выход экспрессионизма за пределы искусства, если тут можно перегнуть с испытанием сокровенного у человека.
(Две догмы-для-меня прячутся в предыдущем абзаце. Одна, что искусство – неприкладное – есть непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного в человеке. Что с жизнью такое искусство соприкасается непосредственностью и непринуждённостью только в одной точке – в личном примере. А если выходит за рамки непринуждённости, становится принудительным, как жизнь, тогда это уже не испытание, а сама жизнь. Вторая догма, что экспрессионизм как раз и выходит за рамки непринуждённого. Например, меня не предупредили, что, читая “Факультет ненужных вещей”, я слишком разнервничаюсь. Ибо одно мне дело – думать вообще, что без авторитаризма Россия немыслима. А другое – как бы погрузиться в 1937-й год. Со всеми метаниями тогдашними тонких людей.)
Что Домбровский экспрессионист говорит такой отрывок о живописи, где им обозначен догматизированый мною выход за границу искусства живописи (подчеркну).
"…увидел на куске картона нечто совершенно иное – что-то мутное, перекрученное, вспененное, мучительное, почти Страшное…
Глыбы, глыбины, мелкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурное пенистое течение с водоворотами и воронками – брызги и гул, а на самых больших глыбинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот в солнце и заключалось все – его прямой луч все пронизывал и все преображал, он подчеркивал объемы, лепил формы. И все предметы под его накалом излучали свое собственное сияние – жесткий, желтый, пронизывающий свет.
От этого солнца речонка, например, напоминала тело с содранной кожей. Ясно видны пучки мускулов, белые и желтые бугры, застывшие в судорогах, перекрученные фасции. Картина так дисгармонична, что от нее рябит в глазах. Она утомляет своей напряженностью”.
Но это – словесная живопись. Она не действует так неприятно, как сама живопись экспрессионистов.
А вот, что действует неприятно, когда имеем от экспрессиониста словесное произведение:
"И тут Зыбин вспомнил Эдинова. Идя с допроса, он думал: “Нет, надо было бы ему [следователю] все-таки рассказать про Эдинова. Пусть бы знал. Потому что не с курсового собрания у меня все началось, а с председателя учкома седьмой образцово-показательной школы Георгия Эдинова, с Жоры, как мы его звали”.
Он пришел в камеру и лег – Буддо [сокамерник] спал и похрапывал. Зыбин лежал тихо, вытянувшийся, подобравшийся и зло улыбающийся.
“Эх, Жора, Жора, разве я могу тебя когда-нибудь забыть. Ты ведь один из самых памятных людей в моей жизни. Я ведь даже повесть хотел, Жора, о тебе написать, несколько раз садился, брал тетрадку, исписывал несколько страниц, но только что-то ничего путного у меня не выходило.
А сейчас бы вышло! Сейчас у меня выкристаллизовался ты весь! Вот слушай, как бы я начал”.
В одном из кривых арбатских переулков…”.
Далее идёт сочинение, которое раньше, мол, персонажу не удавалось.
Кончается это сочинение так же нелепо, как и началось:
"Он [персонаж-сочинитель] уже спал и видел все это во сне. А между тем совсем рассвело…”.
И далее – описание того, что за камерой (в окне) и в камере.
Автор настолько зол, что допускает возможным, что читатель поверит, что то, что ему, как автору, нужно в качестве дейктической функции (функции товара: литературного {якобы художественного} свидетельства о психологической глубине безобразия в стране, разведённого сталинскими репрессиями), - что читатель поверит, что это персонаж мысленно сочиняет.
А на самом деле перед нами (и, я вспомнил: уже не первое) наглядное пособие на тему глубины человеческого падения при сталинщине. Всё произведение, пожалуй, написано для набора таких наглядных примеров. Никакое не художественное произведение – со следами подсознательного идеала.
Окуджава это простил, потому что понял боль Домбровского при виде вроде б возвращающегося почтения к Сталину после конца хрущёвской оттепели. Потому и посвятил ему стих об ужасе ужасов.
А я могу книгу Домбровского прекращать читать. Ничего скрытого в ней нет.
Ну а что Быков в своей книге 2018 года издания?
Не исключено, что я всё-таки ошибся. А на самом деле он прекрасно знал про посвящение Окуджавы. И прекрасно чувствовал (ибо не без художественного чутья), насколько Окуджава всё примиряет посвящением. И намерено посвящение не упомянул. Ибо он и сам, как когда-то Домбровский от Брежнева, ждёт возврата к СССР от Путина. И потому даже готов художественный смысл стихотворения Окуджавы извратить, что-то там упустив (дату или посвящение, или и то и то).
Я тихо подозреваю, что Быков и Мережковского (которого я не читал и – рискую) извратил. Мережковский, чего доброго, будучи ницшеанцем*, и своего Леонардо да Винчи сделал сверхчеловеком “над Добром и Злом”. А Быков, этого не понимая – как же, мол, Леонардо и… вненравственный – уподобляет роману Мережковского… роман антагониста ницшеанству Михаила Булгакова:
"Художник обречён на одиночество.
И вот здесь глубокая и точная связь этого романа с “Мастером и Маргаритой””.
Будто главный герой булгаковского романа Мастер, а не Пилат: “Как же… Мастер аж в заглавие внесён”.
13 января 2019 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
https://klauzura.ru/2019/01/po-tsepi-izvrashhenij/
*
- Это ошибка. Мережковский – символист, т.е. к Добру через Зло, а не над Добром и Злом. – Нельзя всё-таки, не читая, судить наобум лазаря.29.01.2019.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |