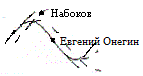
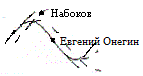
С. Воложин
Набоков. Лолита
Художественный смысл
|
Набоков сделал так, чтоб предприимчивость его героя на фоне благородства героя пушкинского тем больше придавала ему энергии ненависти к стране с таким бесчестьем потребительских масс, со своей так называемой элитой доходящих до жажды предельного опыта – совращения несовершеннолетних. |
Ярость Набокова в “Лолите”.
|
…недостаток общих высоких идеалов. То же самое относилось, собственно, и ко многим американцам из среды творческой интеллигенции, подавленным идеологическими гонениями и все настойчивее навязывавшим свои ценности "массовым обществом". Кризису американского духа в "глухие пятидесятые" Набоков объективно противостоял своей "Лолитой" <…> Той же цели просвещения и духовного "выпрямления" своего англоязычного читателя Набокова мог бы способствовать и пушкинский гений, нашедший выражение в наиболее характерном для русского поэта произведении. Мулярчик. |
Набокова ориентировало символистское искусство. Он его в ранней молодости сделал своим. А о послереволюционном его творчестве иные говорят как о постсимволизме. Символизм же, этот залёт в туманное заоблачье, осуществлялся, будучи явлением художественным, через противоречие, которое лучше всего описывается пословицей: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься.
|
Мы - плененные звери, Голосим, как умеем, Глухо заперты двери, Мы открыть их не смеем. Если сердце преданьям ве`рно, Утешаемся мы, мы лаем. Что в зверинце зловонно и скверно Мы забыли давно, мы не знаем. К повторениям сердце привычно,- Однозвучно и звучно кукуем, Все в зверинце безлично, обычно. Мы о воле давно не тоскуем.
Мы - плененные звери, Голосим, как умеем, Глухо заперты двери, Мы открыть их не смеем. Сологуб. 1905 г. |
Самоцитата:
“…хоть и “звери”, а все-таки “мы”. Их объединяет не зверство, не эгоизм, не индивидуализм, а “голошение”, негативное отношение к звериной действительности и, значит, позитивное отношение к незверской сверхдействительности”.
|
Да, много было бурь, да, много снов печальных, обманных маяков и скрытых скал, но ангел вещий, ангел странствий дальних, их строго охранял. Набоков. 1918 г. |
В соответствии с парадоксальной теорией художественности Выготского – а все художники ей стихийно следуют – символистское произведение, чтоб лучше всего выразить упомянутый залёт, текстом должно иметь аморальность. Ведь по этой теории и практике художник движим идеалом, который из текста процитировать нельзя. Он идёт по пути наибольшего сопротивления. Путём, так сказать, максимально телесного в тексте – к максимально духовному вне текста.
Набокову не суждено было стать таким художником в стихах. Вон, и в процитированном, через “но”, уже дан центр притяжения. Процитировать его – можно. Набокову было так больно от утраты родины в действительности, что в стихах он не мог не указать на свою тягу. Лирике ж положено усиливать уже душе известное переживание. Но это банально ж по сравнению с выражением подсознательного. Вот потому, может, художник (т.е. выразитель подсознательного) в Набокове возмутился, заставил бросить лирику и перейти на прозу…
Чтоб наиболее полно решиться на “согрешишь” из пословицы (а Набоков ещё в Европе написал тематически подобный “Лолите” рассказ), писателю понадобилось переехать жить в США. В этот полюс – выскажу предположительно – сексуальной озабоченности на почве повально богатой жизни.
Предположение моё основывается на общем рассуждении, отправляющемся от факта, что США – наиболее осуществлённый идеал капитализма, главный экономический закон которого – максимальная прибыль. А частность – то, что предприимчивостью в быту называют поведение человека в отношении особи противоположного пола.
Возрожденческая переоценка ценностей от, так сказать, неба к земле очень быстро привела к вседозволенности Раннего Возрождения с этой и по-бытовому понимаемой предприимчивостью, и с нею же, понимаемой политэкономически, – к вседозволенности в городах-государствах Италии. Последние были маленькими и были в последнем итоге задавлены большими феодальными монархиями, - задавлены вместе со своим капитализмом и вседозволенностью. Зато в век материального прогресса, ХХ век, с его массовым производством и потреблением, когда и сами массы вышли на подмостки истории, когда началась так называемая эпоха потребления, и когда этим массам стало казаться, что они – почти аристократы (скорее тела, чем духа, чего им осознать не было дано), аристократу духа, Набокову, было особенно сладко подколоть этих новоявленных якобы аристократов, зацикленных на сексе. Особенно – интеллектуалов.
“Ведь и впрямь Америка, им изображённая, производит довольно отталкивающее впечатление. В литературе США большую роль всегда играл мотив дороги… Это понятно – ведь и сама Америка представлялась некогда увлекательным, хоть и опасным путешествием, таящем на каждом шагу неожиданности и открытия. Набоков использует традиционный образ: в стареньком автомобиле любовники описывают на поверхности континента гигантскую кривую…
Но как изменился с давних, даже и с не таких давних времён пейзаж!
Суровая мощь Дикого Запада, которой дышат полотна Гомера Уинслоу…” (Анастасьев. Феномен Набокова. М., 1992. С. 284).

Уинслоу. Преодолевая пороги. 1902.

Уинслоу. Два гида. 1877.
А вот – набоковские герои на природе (чтоб потрахаться):
“…меня еще преследовали воспоминания о моих безнадежных скитаниях в городских парках Европы, а потому я не переставал интересоваться возможностью любовных игр под открытым небом и искать подходящих мест на том "лоне природы", где я некогда претерпел столько постыдных лишений. Судьба и тут мне перечила. Разочарования, которые я теперь хочу зарегистрировать (тихонько отклоняя мою повесть в сторону тех беспрестанных рисков и страхов, которые сопровождали мое счастье), никак не должны бросать тень на американскую глушь - лирическую, эпическую, трагическую, но никогда не похожую на Аркадию. Она прекрасна, душераздирающе прекрасна, эта глушь, и ей свойственна какая-то большеглазая, никем не воспетая, невинная покорность, которой уже нет у лаковых, крашеных, игрушечных швейцарских деревень и вдоволь прославленных Альп. Бесчисленные любовники лежали в обнимку, целуясь, на ровном газоне горных склонов Старого Света, на пружинистом, как дорогой матрац, мху, около удобного для пользования, гигиенического ручейка, на грубых скамьях под украшенными вензелями дубами и в столь многих Лачугах под сенью столь многих буковых лесов. Но в американской глуши любитель вольного воздуха не найдет таких удобных возможностей предаться самому древнему из преступлений и забав. Ядовитые растения ожгут ягодицы его возлюбленной, безымянные насекомые в зад ужалят его; острые частицы лесного ковра уколют его в коленища, насекомые ужалят ее в коленки; и всюду кругом будет стоять непрерывный шорох потенциальных змей - что говорю, полувымерших драконов! - между тем как похожие на крохотных крабов семена хищных цветов прилепляются, в виде мерзкой изумрудной корки, равно и к черному носку на подвязке, и к белому неподтянутому носочку.
Немножко преувеличиваю. Как-то в летний полдень, чуть ниже границы распространения леса, где небесного оттенка соцветия (я бы их назвал шпорником) толпились вдоль журчащего горного потока, мы, наконец, нашли, Лолита и я, уединенное романтическое место, приблизительно в ста футах над перевалом, где мы оставили автомобиль. Склон казался неисхоженным. Последняя запыхавшаяся сосна остановилась для заслуженной передышки на скале, до которой долезла. Сурок свистнул, увидя нас, и исчез”.
Так Анастасьев тут у Набокова видит, что “Добро и зло… взаимопроницаемы” (С. 289-290). То бишь, то ли мудрый реалист, то ли окончательный пофигист, постмодернист Набоков.
По-моему же, это у его героя так, а не у автора. Герой пишет это, сидя в тюрьме перед судом, он хочет, чтоб люди прочли его писание. Он его поименовал вторым названием “Исповедь Светлокожего Вдовца”. Какой-то Джон Рэй, редактировавший рукопись, или Клэренс Кларк, защитник “автора”, отказали в таком названии “автору”. То бишь, не может быть исповедью самооправдание извращенца.
Или стоп. Почему извращенца? Всё повествование не только пишется героем с целью оправдаться перед людьми. Там и в самом деле очень серьёзные доводы: и внешнего порядка (неотменённые законы, разрешающие брак девочек с 12-ти лет), и внутреннего (он не виноват, что его тянет к созревшим – по первому опыту с Аннабеллой – девочкам лет 12-ти, и его отталкивает от женщин, плюс он же полноценно любит эту Лолиту, и та ж тоже к нему тянется – он красавец – плюс, в ослеплении любви, он же просто не смог увидеть, что Лолита – не зрелая Аннабелла).
Хорошо. Но есть же ещё и обычная мораль! Со своей и сознательной и бессознательной составляющей.
Так для Гумберта Гумберта (двойное) оказалось (так уж Набоков постарался), что то, что у него есть мораль, проявилось только в тюрьме, а не до того. Из-за угрызений совести герой пишет. Причём, парадокс: подсознательно желая хоть посмертно быть оправданным, он, сознательно оправдываясь, с головой выдаёт отсутствие у него обычной морали. Выдаёт, что он – подонок.
И что? Осознание этого же в самом себе заставило Набокова сочинить герою непрерывные поражения? (…ombre – тень по-французски и hombre – человек по-испански; итого – Губерт Губерт, тень человека, то бишь, автора…)
“…я испытал одну из тех встрясок, которые, в конце концов, выбили мое бедное сердце из колеи, ибо я вдруг встретился с темными, немигающими глазами двух странных и прекрасных детей, фавненка и нимфетки - близнецов, судя по их совершенно одинаковым плоским черным волосам и бескровным личикам. Они припали к земле, уставившись на нас, и синева их одинаковых костюмчиков сливалась с синевой горных цветов. Отчаянным движением я подхватил плед, чтобы им прикрыться, - и одновременно нечто, похожее на пушбол в белых горошинках, начало поворачиваться в кустах около нас, превращаясь постепенно в разгибавшуюся спину толстой стриженой брюнетки, которая машинально прибавила еще одну дикую лилию к своему букету, оглядываясь на нас через головы своих очаровательных, из синего камня вырезанных детей”.
Вот так непрестанно Набоков сажает в лужу свою бессовестную тень.
Он же в отместку ей сделал Лолиту фригидной. А что? Она ж малолетка, и именно у неё ещё не развилось… Так ему, Гумберту, и надо, как бы говорит Набоков. Можно так подумать? Непрекращающаяся казнь тебе, мол, от меня… В данном эпизоде (пока ещё не застукали) – тоже. Гумберт-то доволен: “я радостно смеялся”. А чего смеяться-то? Девочка ж плачет. Оба ж не понимают, отчего на самом деле она плачет. Намёком проходит, что от противоестественности (Набоков не смог совсем уж спрятаться; я подчеркну эти слова):
“Помнится, операция была кончена, совсем кончена, и она всхлипывала у меня в объятиях - благотворная буря рыданий после одного из тех припадков капризного уныния, которые так участились за этот, в общем, восхитительный год. Я только что взял обратно какое-то глупое обещание, которое она вынудила у меня, пользуясь слепым нетерпением мужской страсти, и вот она теперь раскинулась на пледе, обливаясь слезами и щипля мою ласковую руку, а я радостно смеялся, и отвратный, неописуемый, невыносимый и - как я подозреваю - вечный ужас, который я ныне познал, был тогда лишь черной точечкой в сиянии моего счастья”.
Так ужас-то он познал “ныне”, когда пишет в тюрьме эти строки. Но ведь и “ныне” не исповедь пишет, а чтоб его пожалели, какой он утончённый. – Смотрите. Им пришлось голыми удирать обратно к их машине, одеваясь на бегу. Внизу они напоролись на мужа той женщины вверху.
“За ним стояла щегольская машина семейного образца, и красивый ассириец с сине-черной бородкой, un monsieur tres bien [очень хороший джентльмен], в шелковой рубашке и багровых штанах, по всей видимости, муж ботанизировавшей толстухи, с серьезной миной снимал фотографию надписи, сообщавшей высоту перевала. Она значительно превышала 10.000 футов, и я задыхался. С хрустом песка и с заносом мы тронулись, причем Лолита все еще доодевалась, беспорядочно возясь и ругая меня такими словами, какие, по-моему, девочкам не полагается знать, а подавно употреблять”.
Представляете, он нам ещё жалуется. Мы ещё должны его пожалеть.
А Набоков, всё это устроивший, не из-за кипящей ли ненависти всё так комично устроил?
Что-то не вытанцовывается. Роман же чуть не порнографический. Надо понять, во имя чего ломает копья Набоков. Не может быть, чтоб во имя обычной морали, какая у всех. Не может Набоков быть моралистом, раз почти порнографию написал.
Набоков родился накануне ХХ века, века прогресса, так называемого. Я б его для нужд этой статьи назвал веком материального прогресса. Родился в аристократической семье, вследствие аристократизма на материальное не нацеленной. Для нужд этой статьи, которая исходит из актуальности, понимаемой как противостояние материальному прогрессу традиционализма, можно сказать, что унаследованный аристократизм Набокова тяготел скорее к вынужденно покинутой им России, чем к приютившему его Западу. Скорее – к духу, чем к телу. Скорее к прошлому, чем к настоящему или даже будущему.
И вот читаем Анастасьева:
“Набоков то и дело перелистывает страницы “Онегина” [которого переводил на английский и писал комментарий одновременно с сочинением “Лолиты”]. Легче всего это увидеть, сравнив хотя бы письмо Татьяны (“Я вам пишу, чего же боле…”) с письмом Шарлотты Гейз [матери Лолиты] Гумберту: “Это – признание: я люблю вас… исхода нет… Возможно, что вашу старосветскую замкнутость, ваши чувства покоробит прямота бедной американочки…” И так далее – желающие могут положить рядом два текста и буквально по строкам проследить соответствия” (С. 275-276).
Доверяй, но проверяй, как говорится.
|
Я знаю, ты мне послан богом
Ты чуть вошел, я вмиг узнала, Вся обомлела, запылала И в мыслях молвила: вот он! Быть может, это всё пустое
Вообрази: я здесь одна Я жду тебя: единым взором Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви
Стыдом и страхом замираю... Но мне порукой ваша честь |
когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас.
даже не читайте этой смешной записки до конца Я страстная и одинокая женщина какую гору любви я воздвигла для тебя в течение этого магического июня месяца!
А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, mon cher, cher Monsieur, вы это прочли; вы теперь знаете. Посему попрошу вас, пожалуйста, немедленно уложить вещи и отбыть завязать со мной "интрижку", тогда знайте, это будет преступно - преступнее, чем было бы насилие над похищенным ребенком |
Да, похоже одно на другое. Но это похожесть издевательства над Америкой. Герой Набокова ответил согласием на страсть матери, чтоб “воображать дочку, пока я ласкал мать”, и плести интригу, как добраться и до дочери. Ведь у Пушкина пронзительная Татьяна при всём ослеплении любви угадала-таки в своём предмете честь, столь ценимую аристократом Набоковым. А Гумберт Набоковым сделан предельно бесчестным: мерзейшая рациональность. И в живописании этого американского рационального всеобщего потребительского бесчестья относительно русской дворянской чести Набоков черпает энергию своему знаменитому натурализму.
Набоков тем открыл гиперреализм в литературе задолго до того, как он был открыт в живописи.

Корейский художник Сунг Джин Ким (Sung Jin Kim) настолько хорошо рисует рты и губы в технике гиперреализма, что, кажется, будто его работы — это фотографии. Очень чувственные и страстные картины, не правда ли?
(Комментатор работ этого Сунг Джин Кима в своей испорченности не чувствует отвратительности, веющей от изображённого.)
Подробность до Набокова была выражением приязни, а когда наступила эпоха Потребления, художники сумели подробностью выразить ужас этого положения.

Stephen Stavast - художник, рисующий камни.
Чем не вид для любования для того, в “багровых штанах”.

Да, да, действительно, перед вами не фотографии, а картины. Художник из Канады Jason de Graaf…
Причём кошмар потребительства самим погружённым в него новым “аристократам” может быть и незаметен. Это нам не прежние аристократы…
|
Поедем. - Поскакали други, Явились; им расточены Порой тяжелые услуги Гостеприимной старины. Обряд известный угощенья: Несут на блюдечках варенья, На столик ставят вощаной Кувшин с брусничною водой |
Когда-то дворянская молодёжь тоже была ницшеанской (этот идеал повторяется в веках, до и после жизни Ницше, выразившего его наиболее остро), - когда-то молодёжь тоже исповедовала вседозволенность. Да и вообще “я”-фантастическое (если б всё было возможно) присуще всем. Когда Татьяна влюбилась в Онегина, Пушкин с большой теплотой относится к её вседозволенности.
|
Везде воображаешь ты Приюты счастливых свиданий |
А что Набокову открылось в Америке, через меньше, чем 10 лет после Второй мировой войны, с помощью которой Америка окончательно вышла из Великой депрессии и открыла послевоенную эру Потребления и извращений от перепотребления?
“…каждое утро - о, мой читатель! – [давит нам на жалость бесчестный Гумберт] эти трое ребят, срезая путь, шли наискосок через прекрасную невинную чащу, наполненную до краев всеми эмблемами молодости, росой, грибами, черникой, пением птиц, и в определенном месте, среди пышной чащобы, Лолита оставалась стоять на страже, пока Варвара и мальчик совокуплялись за кустом.
Сначала моя Лолита отказывалась "пробовать"; однако любопытство и чувство товарищества взяли верх, и вскоре она и Варвара отдавались по очереди молчаливому, грубому и совершенно неутомимому Чарли, который, как кавалер, был едва ли привлекательнее сырой морковки, но зато мог щегольнуть замечательной коллекцией прозрачных чехольчиков [презервативов, наверно], которые он вылавливал из третьего озера, превосходившего другие размером и посещаемостью и называвшегося Озеро Клаймакс по имени соседнего фабричного города, столь бурно разросшегося за последнее время. Хотя, признавая, что это было "в общем ничего, забавно" и "хорошо против прыщиков на лице", Лолита, я рад сказать, относилась к мозгам и манерам Чарли с величайшим презрением.
Добавлю от себя, что этот блудливый мерзавчик не разбудил, а пожалуй, наоборот, оглушил в ней женщину, несмотря на "забавность"”.
И это не было исключением!
“Что же именно делали эти ее "паскудные" одноклассники и одноклассницы?
"Известно что... Близнецы, Антоний и Виола Миранда, не даром спали всю жизнь в одной постели, а Дональд Скотт, самый большой балда в школе, занимался этим с Гэзель Смит в дядюшкином гараже, а спортсмен Кеннет Найт выставлял свое имущество напоказ при всяком удобном и неудобном случае, а..."”.
Это вроде и по Пушкину:
|
Кому не скучно лицемерить, Различно повторять одно, Стараться важно в том уверить, В чем все уверены давно, Всё те же слышать возраженья, Уничтожать предрассужденья, Которых не было и нет У девочки в тринадцать лет! |
Но в десять раз хуже. И потом у Пушкина ж речь всё-таки об отсутствии всего лишь предрассуждений у девочки в тринадцать лет, а не о длительном опыте жизни втроём. – Было от чего Набокову этого Чарли “убить” на войне в Корее, но всех этих Антониев, Дональдов, Кеннетов не убьёшь. – Вот и ярость.
Чтоб ещё лучше её представить, надо глянуть, как вышепроцитированные стихи прокомментировал Набоков в своём “Комментарии к роману Евгений Онегин”.
“Интересно, нет ли в конечном слове следующих двух стихов:
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет! —
подсознательного влияния суффикса_—_nette_из эклоги Парни “Час любовного свидания” (“L'Heure du berger” in: “Poesies erotiques”, bk. 1):
— J'ai quatorze ans,
Repond Nicette;
Suis trop jeunette
Pour les amants.[550 - “Мне четырнадцать, — / Отвечает Нисетта, — /Я слишком молода / Для любви” _(фр.)_]” (http://www.libtxt.ru/chitat/nabokov_vladimir/39254-kommentariy_k_romanu_evgeniy_onegin/69.html).
На что лирический герой эклоги отвечает (http://www.archive.org/stream/oeuvreschoisiesd00parnuoft/oeuvreschoisiesd00parnuoft_djvu.txt):
— Crois-moi, ma chère.
Quand on sait plaire ,
On peut aimer.
Что в переводе:
- Поверьте мне, моя дорогая,
Когда мы друг другу нравимся,
Мы можем любить.
Всё равно уговаривает. Интенция набоковского Гумберта. Именно интенция. Потому что в своей ярости Набоков сделал, что Гумберт уже развращённую этим Чарли Лолиту просто спровоцировал на совокупление. Она сама на него залезла. Поиграть в это самое.
Так у Пушкина, открывавшего реализм своим “Евгением Онегиным”, пережившего уже несколько переломов мировоззрения своего, Парни есть уже давно прошедший этап. И в строфе, предшествующей процитированной, насмешка над Парни:
|
Разврат, бывало, хладнокровный Наукой славился любовной, Сам о себе везде трубя И наслаждаясь не любя. Но эта важная забава Достойна старых обезьян Хваленых дедовских времян: Ловласов обветшала слава Со славой красных каблуков И величавых париков. |
Дендизм, которым Пушкин наградил Онегина для отрицания романтизма-демонизма, имел сам по себе разную судьбу развития. Пушкин выбрал денди на излёте, готового перейти, может, и во что-то безусловно позитивное. Настоящая любовь, вон… Чуть не сделался поэтом… Потрясён дуэлью… И вот – естественным образом отверг любовь 13-тилетней девочки. (О железном доказательстве, что Татьяне 13 лет, см. тут.)
Это мы, невнимательно читая, через 150 и 200 лет ошибочно думаем, что она намного старше. Тогда как, наоборот, если что осталось позитивного от эпохи Просвещения, так, в частности, то, что перестали выдавать замуж девушек 12-ти, 13-ти и 14-ти и т.д. лет. В том был моральный прогресс. И, наоборот, в случае Набокова. Невиданный материальный прогресс осложнился моральным регрессом. Для того Набоков, в ярости, и сделал свою Лолиту на год младше, чем Татьяна, когда по отношению к Лолите применил свою предприимчивость Гумберт. Набоков сделал так, чтоб предприимчивость его героя на фоне благородства героя пушкинского тем больше придавала ему энергии ненависти к стране с таким бесчестьем потребительских масс, со своей так называемой элитой доходящих до жажды предельного опыта – совращения несовершеннолетних.
А так как требующийся для ненависти гиперреализм – вследствие той же ненависти – не мог быть применён в той мере, на которую способна была изобразительная сила набоковского слова, то Набоков хотя бы на уровне темы избрал ранее немыслимое – подробное описание, например, начала полового акта, или его середины. Если б не образность – ну полная порнография была б.
“Был бы султан с лицом, искаженным нестерпимым страданием (страданием, которому противоречила бы округлость им расточаемых ласок), помогающий маленькой невольнице с прелестными ягодицами взобраться по ониксовому столбу. Были бы те яркие пузырьки гонадального разгара, которые путешествуют вверх за опаловыми стенками музыкальных автоматов”.
Без почти порнографии Набоков счёл бы себя жалким моралистом, если б ограничился обычным созданием на первых строках романа дистанции между собой и героем [он (1) – “Джон Рэй, д-р философии” (2), получивший для редактирования от адвоката Гумберта, Клэренса Кларка (3), рукопись умершего Гумберта (4) “"Лолита. Исповедь Светлокожего Вдовца"”] и то ли Рэем, то ли Кларком этим лишена-де книга исповедальной претензии в заглавии. Ну и если б в сюжете настоящий автор себя проявил бы пусть и бесконечными провалами героя – ему б, заблуждающемуся про себя, что он исповедует принцип “искусство для искусства”, не избежать бы угрызений его специфической совести, что он – моралист, как это понимают жалкие массы.
Почему я думаю, что Набоков о себе заблуждался?
Из-за жгучего сравнения его романа с пушкинским не только в части возраста главных героинь. Главные герои обоих – за гранью пресыщенности, приводящей... К чему привёл Онегина Пушкин? Нет ли намёка на Онегина в концовке, к собственно Онегину не относящейся:
|
Блажен, кто праздник Жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала полного вина, Кто не дочел Ее романа И вдруг умел расстаться с ним, Как я с Онегиным моим. |
И Гумберт-то был бы казнён, несмотря на “его” оправдывающее себя произведение (пусть и казнён за убийство, не за растление; за растление его совесть убила). А раз выражена воля Гумберта, чтоб роман не публиковали до смерти Лолиты, а роман опубликован, то и она мертва. Оба главных героя поломали жизнь главным героиням и сами погибли.
Но “Онегин” оптимистичное произведение, а “Лолита” нет.
Оппозиция американского романа русскому состоит в том, что порождены они разными идеалами. Пушкин своим произведением открыл, что жизнь неуправляема (в частности, благими намерениями), но зато это Жизнь. С большой буквы. А Набоков лишний раз в творчестве своём отчаялся в мерзости жизни и понадеялся на какое-то сверхбудущее, похожее на пушкинское время и Россию, пусть то и та и неуправляемые благом. Даже и при такой неуправляемости и недосягаемости Россия-душа лучше Запада-тела.
10 февраля 2014 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/202.html#202
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |