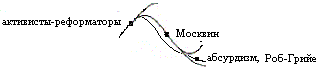
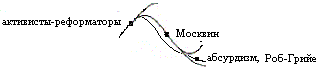
С. Воложин
Москвин. Система
Художественный смысл
| Поставив между собой и профессором повествователя, - против дурного активизма. |
Такова жизнь
Волен-с, не волен-с — я вынужден еще раз обратиться к Москвину. Очень уж он обескураживающий (опять) рассказ выдал — "Система" (http://www.interlit2001.com/moskvin-1.htm). Просто мозги набекрень едут по ходу чтения. Даже если предположить, что автор выдал без предупреждения читателя ленту снов персонажа, профессора Григоровича... Непонятным остается название. Почему "Система"?
Системой называли и называют тоталитаризм, что был в СССР... К чему-то эсэсэсэровскому, вроде, тянет страну реакция на хаос, в который ввергли Россию так называемые демократы. Против их активизма, — по большому счету, получалось в моих прежних разборах Москвина, — тянет этого реалиста писать свои рассказы... Но чтоб ТАКУЮ белиберду?.. — Тревожно. Да правильно ли я все-таки его понимал?!
"Профессор еще на полчаса погрузился в сон, беспокойный и очень странный...
Проснувшись..."
Так кончается первая часть рассказа и начинается вторая, отделенная от первой пробельной строкой. И, похоже, что все остальное, что после троеточия, которым я оборвал цитирование, и до самого конца является совсем не явью (на которую обманно наталкивает слово "Проснувшись"), а продолжается "сон, беспокойный и очень странный".
Конец рассказа, вроде, подтверждает такую мысль по некой противоположности:
"Лента замедляется. Через полминуты уже ничего не видно".
Кинолентой, "как немой фильм", названо самое первое, наиболее близкое по содержанию к действительно случившейся гибели жены Натальи, "видение" — неистребимое воспоминание о полугодичной давности трагедии. А процитированные два коротких предложения конца рассказа, отделенные пробельной (10-й в рассказе) строкой от вышележащего, есть, наоборот, как бы последняя часть сна. То есть, сон (не названный сном перед читателем) так и не кончился в рассказе.
И если я прав, то иметь надо в виду наличие некого бодрствующего повествователя, посредника между автором, Москвиным, и читателем, читателем сначала того, что бывает с профессором каждое утро в последние полгода после того, как он просыпается, потом — читателем о сне наяву в данное утро, а потом — читателем о целой череде настоящих снов героя в это же утро. И этот повествователь рассказа явно вжился в психологию профессора Григоровича, абсурдно потерявшего жену недавно и неспособного выйти из какого-то измененного, что ли, психического состояния, состоящего, в частности, в трудности неразличения сна и яви: оба ж абсурдны. Первая часть рассказа, явь, в которой он видит, как беременную жену задавил въехавший на тротуар грузовик, ведь совершенный абсурд. Проснувшись (или это сон, что проснулся?) видит он узор настенного ковра, интерпретируемый изрядно странно. Снова засыпает. Просыпается от какого-то нерассказанного нам неприятного сна. Видно, опять засыпает и видит нечто, нам рассказанное повествователем, становящееся все более явной ерундой: сперва незаслуженно морально пытаемую-допрашиваемую профессором соседку, ложь которой кончается отрывком из странной интерпретации им самим узоров своего ковра, приписанным соседкой священнику; затем идет странная сцена угощения профессором бывшего ученика и того необычайный рассказ о перепутывании трупов в морге; затем "идет" нерассказанная нам сцена дальнейшего облагодетельствования профессором ученика — устройство того на квартиру с оплатой в неопределенном будущем (будто такое бывает); затем — воровство профессором денег и ключей от квартиры сослуживца и приготовление сжечь эту квартиру (зачем?!?); затем — помеха поджогу от встречи с сыном сослуживца; затем (уже вечер, мол, того дня) — колебания: разбудить ли нищего и подать ему или поджечь что-нибудь; затем — поползновение убить священника ...
Есть в тексте и фиоритуры нелитературного свойства: расположение букв в словах дугами, а не по прямой слева направо (эти дуги "происходят" от дуг коленных чашечек, под которыми наиболее чувствительное место профессора при воспоминании о катастрофе). Есть еще случаи расположения букв слова в обратном порядке, или без гласных, как на иврите, или просто бессмысленные столбцы букв. — Ну что возьмешь от дурного сна?..
И можно было б подумать, что весь этот абсурд призван, как в новом романе французских поставангардистов, "отразить мир таким, каков он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть" (А. Генис. Билет в Китай. С.-Пб. 2001. С. 32). Если б не нарастающая тревожность тем цепи сновидений. В кино, что по невыключавшемуся телевизору шло, "Ему показалось, что в гробу лежит его жена". Так это еще КИНО и ему — ПОКАЗАЛОСЬ. Соседка ему выдумала про тоталитарного по замашкам священника. Так это еще ее ЛОЖЬ. Знакомый РАССКАЗАЛ БЫЛЬ: о двух трупах, сбитых на перекрестке, и перепутывании, кого из них кремировать, а кого хоронить целиком. Далее САМ профессор идет на преступления, все более тяжкие.
Чувствуется некая отрицательность снов.
В эстетике абсурда этого нет.
"Вся остальная поверхность двери покрыта темно-желтым лаком, на котором прорисованы прожилки посветлее, дабы создать видимость их принадлежности к другой породе дерева, очевидно, более привлекательной с точки зрения декоративности: они идут параллельно или чуть отклоняясь от контуров темных сучков — круглых, овальных, иногда даже треугольных. В этой запутанной сети линий я уже давно обнаружил очертания человеческого тела: на левом боку, лицом ко мне лежит молодая женщина, по всей видимости, обнаженная, ибо можно отчетливо видеть соски на груди и треугольник курчавых волос в паху; ноги у нее согнуты, особенно левая, с выставленным вперед коленом, которое почти касается пола; правая же положена сверху, щиколотки тесно соприкасаются и, судя по всему, связаны, равно как и запястья, заведенные, по обыкновению, за спину, ибо рук словно бы нет: левая исчезает за плечом, а правая кажется отрубленной по локоть.
Лицо, закинутое назад, утопает в волнах пышных и очень темных волос, беспорядочно разбросанных по плитам пола. Черты почти неразличимы — как из-за положения головы, так и из-за широкой пряди, косо сползающей на лоб, закрывая тем самым глаза и часть щеки; единственная неоспоримая деталь — это рот, широко раскрытый в неумолчном крике страдания или ужаса. С левой стороны кадра спускается конус яркого и резкого света, идущий от лампы, шарнирный стояк которой укреплен на углу металлического стола; пучок света направлен, как во время допроса, прямо на неподвижное тело с безупречными формами и кожей янтарного цвета.
Но о допросе не может быть и речи: в самом деле, рот так долго остается широко раскрытым, что его, видимо, удерживает в этом положении нечто вроде кляпа: какой-то кусок черной ткани силой всунут между зубов. Да и вопли девушки, если бы она кричала в эту минуту, должны были бы пробиться, хотя бы приглушенно, сквозь толстое стекло смотрового окошка, забранного литой решеткой.
Между тем, справа в кадре появляется на переднем плане мужчина с серебристыми волосами, в белом хирургическом халате со стоячим воротничком; на три четверти его видно лишь со спины, так что лица различить невозможно, а профиль только угадывается. Он направляется к связанной молодой женщине и несколько мгновений разглядывает, смотря сверху вниз и частично загородив ее ноги своим телом. Жертва, по-видимому, находится в бессознательном состоянии, поскольку при приближении мужчины не вздрагивает, сохраняя прежнюю позу; впрочем, если получше приглядеться к кляпу и к его расположению прямо под носом, становится понятно, что на самом деле это тампон, пропитанный эфиром — к нему пришлось прибегнуть, чтобы сломить сопротивление, ожесточенность которого доказывают разметавшиеся пряди волос.
Врач, наклонившись вперед, опускается на одно колено и начинает развязывать веревки, стягивающие щиколотки. Послушное теперь тело само ложится на спину, в то время как решительные руки раздвигают колени, открывая гладкие шоколадные бедра, которые блестят матовым светом в лучах лампы; однако грудь не выгибается, поскольку руки остаются по-прежнему связанными за спиной; лишь сами молочные железы, благодаря этому движению, больше открываются для взгляда: твердые, словно два пропорциональных купола из пластмассы, они чуть бледнее тела, тогда как околососковые окружности (немного припухлые, но не такие уж широкие для полукровки) выделяются красивым оттенком сепии.
На секунду приподнявшись, чтобы взять с металлического столика какой-то тонкий инструмент длиной примерно в тридцать сантиметров, доктор снова опускается на колени, но слегка правее, так что полы белого халата закрывают теперь верхнюю часть бедер и низ живота. Руки врача, сейчас невидимые, производят там некую операцию, характер которой определить затруднительно. В любом случае, поскольку девушка находится под воздействием наркоза, речь не может идти о пытке, для которой маньяку понадобилась жертва, избранная исключительно за красоту тела. Вполне возможно, что здесь насильно производится искусственное осеменение (тогда инструмент, которым пользуется хирург, представляет собой катетер) или же другой чудовищный медицинский опыт, осуществляемый, разумеется, против воли самой пациентки".
Это Аллен Роб-Грийе "Проект революции в Нью-Йорке". Я б не сказал, что тут смакуется садизм. Я б сказал — что пофигизм. Преступление ж разыгрывается в уме какого-то "я". Я б согласился с цитировавшимся уже Генисом. И можно еще процитировать:
"Абсурд учил не умирать, а жить в непонятном мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось ложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом... Персонажи Беккета уже не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла" (Указ соч. С. 33).
А профессор Григорович у Москвина бунтует.
"Пожалуй, подожгу что-нибудь, получится поровну, как Наталья мне во сне советовала... но в этом ли суть, чтобы поровну? Главное, Божий закон понять, дабы Господь не разобрал, что с тобой делать — это только цель..."
Профессора не устраивает божий мир, абсурдный.
В рассказе явно проскальзывают черты послеперестроечной, капиталистической России: соседка, не способная прожить с ребенком на свою зарплату учительницы, ночлежка и дом призрения фигурируют не как позор общества, а как еще не осуществившаяся мечта нищих и бездомных в данном городе, сами эти нищие и бездомные не как исключение какое-то, а как обычность, студент, вынужденный бросить университет из-за безденежья, трудность устроиться на самую захудалую работу и жестокость неукоснительного увольнения за любой мизерности промахи. И — эта всепроникающая церковь, освящающая этот абсурдный божий мир. И в кино, и на устах соседки навязчиво присутствует, ну и эта нуднейшая длиннейшая молитва в конце рассказа.
Если Бог не распоряжается справедливо, то надо устроить рукотворное "поровну"!..
Но так "думает" профессор и вжившийся в него повествователь, но не автор.
Это как Пушкин: находится "в зоне сознания" (по Бахтину) Татьяны, описывая ее сон. Татьяна там предстает тем, что называется (у Бахтина же) "я-для-себя": когда, смотря изнутри, действия "я" обусловлены чисто смысловой активностью. И — никакой нравственности. Татьяна там, например готова отдаться Онегину даже на шаткой скамье, даже несмотря на то, что он бандит, а также если и не на виду, то в пределах слышимости его шайкою. Демонистка. Ницшеанка. Счастье мужчины — "я хочу", счастье женщины — "он хочет". А Онегин — хочет. И — никакого осуждения со стороны повествователя.
А вот — Григорович со своим повествователем:
"Странный клейкий привкус ущипнул язык профессора, он непременно хотел, чтобы священник оторвал ноги от асфальта,
[так помнится ему жена, летящая от удара автомобилем...]
но не видел другого выхода, кроме как очень, очень сильно ударить его. Рука скорчилась в приятном ласковом ознобе, сама собою потянулась к карману и неверными движениями погладила шершавую поверхность камня..."
Только профессор не демонист. И не некрофил: кормит знакомого студента и хлопочет о его жилье за рассказ, — и так уже им от кого-то слышанный, — о перепутывании трупов. Профессор — за справедливость. Складно врешь (бедная соседка) — получи деньги. Складно рассказываешь правду (бедный студент) — получи обед и жилье. Не можешь рационально воспользоваться подачкой (нищий) — ничего не получи. Не бедный и семейный (сослуживец), когда другой обделен судьбой, — получи кражу. Лжешь о благости Бога (священник) — получи камнем.
Профессор — как нацболы или другие обиженные экстремисты — за порядок.
Роб-Грийе, не скрыв перехода из действительности в фантазию абсурда и намекая на их схожесть, добивался, чтоб мы сами сделали вывод об абсурдности жизни и приемлемости этого, как приемлема и сама по себе безобидная фантазия.
А Москвин, поставив между собой и профессором повествователя, скрывшего от нас переход от абсурда бодрствования к абсурду сна, захотел в чем-то противоположного: чтоб мы сами поняли их отличие. То есть, Москвин по-прежнему против дурного активизма. Откуда бы тот ни исходил: справа или слева.
И — все опять сходится с выявлением идеала автора.
Жизнь таки абсурдна, но не только.
1 июня 2005 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.interlit2001.com/kr-volozhin-4.htm
| На главную страницу сайта | Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |