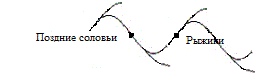
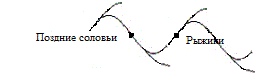
С. Воложин
Михайлов. Поздние соловьи
Художественный смысл
|
Повтор про поздних соловьёв выполняет объединительную функцию. |
Хоть Михайлов и не гений…
На заметку "Легко вам всем…” я получил серьёзное возражение:
"…как-то жаль, что вы в своей статье больше внимания уделяете теории "Синусоиды идеалов", чем самому рассказу и его автору. Определить его, как образчик реализма, найти ему место на Синусоиде – это, на мой взгляд, маловато. Чистое теоретизирование”.
Я попытался ответить (так):
"Это потому, что трудно анализировать глубоко. А что такое глубоко? Это значит – находить элементы, говорящие или ведущие к художественному смыслу целого произведения. А что значит трудно? Это значит одно из двух: или я плохой аналитик, или автор плохой художник. В "Моцарте и Сальери" просто бесконечно много "глубоких" элементов. У меня их обсуждения на целую толстую книгу хватило (правда, я для своего синтеза использовал анализ других, и тех масса). А у этого Михайлова я смог глубоко объяснить только сюжет. Или там, повторяю, нет больше "глубоких" элементов, или я не смог увидеть их глубину. Например, бросается в глаза, что вещь написана как отчёт разорванного сознания – кусочками. Что это означает? Если означает... Так этот элемент хоть бросается в глаза. А больше-то я ничего не вижу. Зачем же больше писать? – Моё ж дело – открывать”.
Но заноза засела: а вдруг я просто явил свою беспомощность. И я стал читать и думать, думать и читать.
Разорванность сюжета, как и разорванность сознания, оказалась в найденном чтении отрицательными качествами. В психиатрии – видом болезни:
"Патология мышления разделяется на расстройства по… структуре (разорванное, паралогическое, обстоятельное, шперрунг, ментизм)” (http://www.xliby.ru/medicina/psihiatrija/p9.php).
“Вербигерация — расстройство мышления, при котором нарушается связь не только между словами, но и между слогами. Пациент может произносить отдельные звуки и слоги стереотипно. Различные степени разорванности мышления характерны для шизофрении” (Там же).
Это уже что-то слишком. У Михайлова просто перерывы в монтаже:
"Вытирает лоб, одновременно поднимая огромных размеров черную драповую фуражку, кажущуюся сыну жуком-плавунцом, вдруг надумавшим взлететь в небо.
- Папа! - Запинаясь за палку, вскрикивает сын и падает отцу под ноги”.
В литературоведении разорванность сознания на примере раннего Пригова интерпретируется, как отрицание советскости (из-за её принципиальной лживости: и она – глобальная коммунистическая надежда человечества, и до коммунизма в ней с каждым днём дальше):
"Пригов всегда сохранял верность однажды найденной литературной маске: его неизменным персонажем был Дмитрий Александрович Пригов – маленький человек с большими претензиями, писатель-графоман, убежденный в своей мессианской роли. И этот жалкий герой, многократно осмеянный и разоблаченный, оставался нужен своему автору, был для Пригова “вечной находкой”… По-видимому, ценность данного образа заключалась в том, что это был структурный коррелят советской (а затем и русской) души… Образ Дмитрия, дистанция между ними – пространство комического, где та и другая сторона подсвечивается самым невыигрышным образом, “барахтается” в чужом для нее контексте: чувства в присутствии разума начинают выглядеть глупыми, рассуждения на фоне эмоций кажутся сухими и догматическими. А громогласность, патетичность, с которой каждое из двух “я” заявляет о себе, делает их противостояние особенно выразительным.
Конфликт этих начал у Пригова неразрешим, потому что каждая из двух ипостасей героя претендует на монопольное владение истиной. В результате их диалог, точнее их поочередное звучание, не рождает созвучия – чего-то хотя бы отдаленно похожего на единство. А рождает гротеск – как в стихотворении “Долина Дагестана”, где предметом дележа для двух поэтов оказывается... труп:
В полдневный зной в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я
Я! Я лежал – Пригов Дмитрий Александрович!
Кровавая еще дымилась рана
По капле кровь сочилась – не его! Не его! – моя!
И снилась всем, а если не снилась – то приснится долина Дагестана
Знакомый труп лежит в долине той
Мой труп. А может его. Наш труп! [Опущены последние две строки и дата: Кровавая еще дымится наша рана / И кровь течет-течет-течет хладеющей струей. 1980-е].
Здесь Пригов демонстрирует и творческое бессилие своего персонажа (тот ворует тексты у классиков: оспаривает их авторство) и причину этой немощи – внутренний раздрай. Одна “половина души” героя пытается присвоить “труп” из лермонтовских стихов, другая пробует примирить конфликтующие стороны. Формулой компромисса оказывается “наш труп”, что является абсурдом в квадрате – приравниванием живого к мертвому (“мой труп”) и двух к одному (“наш труп”)” (http://psibook.com/articles/binarnaya-kultura-i-razorvannoe-soznanie.html).
Так вот у Михайлова, наоборот, примирение таки произошло. И маркером его является название: “Поздние соловьи”. Они в тексте вспомнены дважды:
"Повис на шее, целовал ее лицо и, как в бреду, повторял: "Как умирает?! Зачем умирают, мама?! И ты умрешь, маа-маа...?!"
Она гладила волосы сына, молчала. По щекам текли слезы. В окно врывались сольные партии маленьких, неказистых с виду птах”.
Первый раз при единении с мамой, противостоящей равнодушной природе, в которой есть, и всё тут, Зло. И второй раз – при отстранённости от матери:
"Но до самой смерти мамы Вадим не мог простить ей пережитого ужаса. Все годы, больше двадцати лет, Серафима Ивановна чувствовала напряжение в сыне. Она стала бояться его, заискивала перед ним, словно ребенок. Вадим все понимал, но ничего не мог с собой поделать. Давал деньги, покупал вещи для матери в заграничных командировках, но это не меняло главного: он не мог обнимать и целовать ее так, как делал это мальчиком в ночь смерти отца. Когда пели такие поздние соловьи...”.
Вы как хотите, а мне кажется, что этот повтор выполняет объединительную функцию, “соединение несоединимого”, эту эмблему идеала типа барокко, к которому – к барочному типу – можно отнести и реализм.
То есть я предполагаю в этом коротеньком рассказе наличие потрясающей огромности. Михайлов противостоит (Западом и его агентами влияния в России) навязываемому России признанию, что магистральный путь истории показывает Запад, а не Россия. Прогрессизм, а не традиционализм.
А в связи с противостоянием Михайлова мне вспоминаются слова на Петербургском экономическом саммите первого заместителя председателя правительства РФ Шувалова, сказанные, наверно, под давлением Назарбаева, недовольного делами Евро-Азиатского Союза (ЕАС), дескать, ЕАС открытая организация, пусть и Китай приходит, и мы, Россия, в нём не претендуем на роль лидера, мы за равноправие интересов, хоть они и разные у каждого. А это – новый вид глобализма: равноправие интересов. Противостоящий американскому глобализму с исключительностью США. А в то же время такая скромность России есть отдалённый намёк на коммунистический принцип: “каждому – по разумным потребностям”, который роднит не с прогрессизмом (как с коммунизмом было при СССР с его напрасным и безнадёжным упором на прогресс), а с традиционализмом (что и спасёт человечество от смерти из-за неограниченного прогресса из-за перепроизводства и перепотребления). Михайлов не мог в 2013 году предвидеть слова Шувалова. Но он мог что-то такое чувствовать просто из-за приближения 2017 года, столетия Великой Русской революции (как её теперь, кажется, предлагают примирительно называть) и необходимости как-то помириться россиянам, западникам и славянофилам. Помириться, не теряя русскости в менталитете (мессианизма). И Михайлов достиг желаемого (я надеюсь – желаемого его подсознанием).
Стоит, наверно, переписать сюда принципиально неверные понимания этого рассказа.
"…и все же любовь связывала этих людей – мать и сына. Простил сын, наверное, мать свою после смерти. А это – главное”.
“Жалко Серафиму, упала она, ей подали руку, но не простили. А осуждать ее нельзя. Сорвалась она после смерти мужа, пожалеть нужно и попытаться помочь”.
“Бог ей помог, пусть жестоко, но вернул к нормальной жизни, к детям”
“И, слава Богу, что Серафима Ивановна бросила пить. И это благодаря Вадиму. Очень хочется надеяться, что это напряжение, которое между ними, со временем пройдёт и всё наладится – как прежде, тогда, в детстве... И Вадим снова сможет обнимать и целовать её искренне, нежно и ласково!”
“И все же... Нужно идти на диалог, именно в прощении живет истинная любовь. Уверена, в глубине души, Вадим простил маму, но он не выплакал обиду”.
“…на эпизод с матерью Вадима, откликается душа и, понятно, что уже будучи взрослым, продолжая любить свою мать…”.
“"Носите тяготы друг друга...", надо было ему все-таки простить мать”.
“Мать сильный человек: оставшись одна, дала детям хорошее образование, смогла пережив горе бросить пить”.
“…всему веришь, но так хочется, чтобы сын простил мать”.
“Конечно, потрясение было огромное, но матерей нужно прощать. Пока они живые. Понять и простить... Так и передайте своему ЛГ)))”.
“Но вот вопрос – а старшие братья? В конце рассказа о них – ни слова.
Пусть они стали взрослыми, но хоть пунктиром обозначить судьбы. А они простили свою маму?
Мой вопрос не праздный”.
“Он не смог простить мать за её слабость, потому что он её... ЛЮБИЛ. БОЛЬШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ!”.
“Смутило два момента: частушки на похоронах - не перебор? И…”.
“Я уверена, что этот сын любил своих родителей. Юрий!”.
“Мне не показалось, что мальчик перестал любить свою мать, просто ему стало труднее”.
Сопротивляется русский менталитет, не знающий середины.
Стоит, наверно, переписать кое-что сюда и из моей коллекции найденного в интернете о русском менталитете.
Россия – больше, чем страна.
|
Западная цивилизация |
Российская цивилизация |
|
| http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/15.php | ||
|
с нейтральной зоной |
принципиальная полярность |
|
|
Загробный мир католического западного христианства разделен на три пространства, рай, чистилище, ад. Соответственно, земная жизнь мыслится как допускающая три типа поведения: безусловно грешное, безусловно святое и нейтральное, допускающее загробное спасение после некоторого очистительного испытания. Тем самым в реальной жизни западного средневековья оказывается возможной широкая полоса нейтрального поведения, нейтральных общественных институтов, которые не являются ни “святыми”, ни “грешными”, ни “государственными”, ни “антигосударственными”, ни хорошими, ни плохими. |
Членение загробного мира на рай и ад. Промежуточных нейтральных сфер не предусматривалось. Соответственно и в земной жизни поведение могло быть или грешным, или святым. Это распространя- лось и на внецерковные понятия: так, светская власть могла трактоваться как божественная или дьявольская, но никогда — как нейтральная. |
|
|
Идеалы внецерковной государственности, бюргерской семьи переносились в идеальное пространство общественных теорий, где подвергались героической и моралистической трансформации. |
Новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего, являлось результатом трансформации старого, так сказать, выворачивания его наизнанку. Отсюда, в свою очередь, повторные смены могли фактически приводить к регенерации архаических форм. |
|
|
Важная для западной ренессансной живописи трактовка образа Богоматери сквозь призму поэзии частного существования, семейного быта. |
идол Перуна был свержен с киевских гор на Подол, т.е. на то место, где тогда находилась христианская церковь св. Ильи (христианский двойник Перуна), а христианская церковь была построена наверху, на месте прежнего языческого капища |
|
|
Нейтральная сфера жизни становилась нормой, а сферы верха и низа средневековой культуры вытеснялись в область культурных аномалий. |
Единство русской культуры на разных этапах ее истории. Именно в изменениях обнаруживается неизменное. христианизации Руси предшествовала попытка создания искусственного языческого пантеона: создается впечатление, что для создания “новой” христианской Руси психологически было необходимо создать консолидированный и в значительной мере условный образ “старой”. Владимир не просто принимает новую систему ценностей, заменяя старое новым, но вписывает старое в новое — с отрицательным знаком. Или тенденции к отталкиванию от византийского влияния и стремление поставить греков и их империю иерархически ниже Русской Земли Или приоритет святости славянского языка перед греческим, поскольку греческий язык создан язычниками, а церковнославянский — святыми апостолами. Сохраняется глубинная структура, сложившаяся в предшествующий период, однако она подвергается решительному переименованию при сохранении всех основных старых структурных контуров. |
|
|
либерализм |
для России — в разные исторические эпохи — не характерен консерватизм и, напротив, характерны реакционные и прогрессивные тенденции. |
|
Читаешь эту таблицу и понимаешь, какая это сила и инерция – менталитет. А Михайлов и поднял руку на эту силу и инерцию, и сделал это так, что появление срединности как-то не ощущается отказом от русскости.
20 июня 2016 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/385.html#385| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |