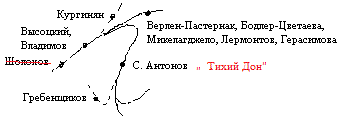
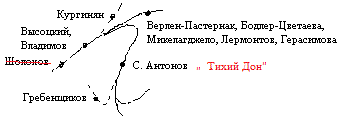
С. Воложин
Кургинян, Владимов, Шолохов, Пастернак, Цветаева, С. Антонов – и непреходящее
| Синтезирующий анализ это открытие в элементах художественного смысла целого произведения. |
КНИГИ ПРОШЛОГО
СЕДЬМАЯ КНИГА
--------------------------------------------------------------------
С. Воложин
К сверхбудущему!
Одесса 2000 г.
Предисловие
Уникальный случай - спонсорство моего соученика Семена Сегаля (спасибо ему), нашедшего меня более чем через 40 лет после своего отъезда из Литвы, из Каунаса, в Израиль,- заставил меня, издавая почти все, что написано было в Каунасе, в городе нашей юности, в прошлой, так сказать, жизни, включить в последнюю “Книгу прошлого” заодно уж и то, что написано было на пороге настоящего времени, когда так называемая перестройка стала воочию угрожать разрушением Системы.
Есть здесь и более ранние вещи. Я давно желал определенной перестройки и давно удивлялся, как Система еще не разрушилась. Об этом почти все “Книги прошлого”. В данную же - включено то из давнего, в чем я позволял себе предположения, а жизнь их не подтвердила. И все-таки я в чем-то остался прав.
Зачем я ворошу прошлое, близкое и далекое? - Ради будущего. Даже - сверхбудущего.
Как я смею? - Я разбираю произведения искусства. Они вечны. Тем самым и разбор их в какой-то степени непреходящ. Да и сверхбудущее будет похоже на прошлое - по закону диалектики.
Верный своему пристрастию к конкретности, определенности и так называемому синтезирующему анализу, я хочу предварить дальнейшее изложение цитатой - обязательной “шапкой” из моих рукописей-блокнотов.
Здесь вскользь или подробно говорится об идейном смысле деталей следующих произведений искусства:романа “Три минуты молчания” Владимова...........стр.
многосерийного фильма “Освобождение”...............стр.
романа “Тихий Дон” Шолохова.............................стр.
стихотворения “Я - римский мир...”
Верлена в переводе Пастернака....................................стр.
стихотворения Микеланджело
“Молчи, прошу - не смей меня будить...”
в переводе Тютчева......................................................стр.
стихотворения “Я в черные дни...”
Верлена в переводе Сологуба........................................стр.
трагедии “Гамлет” Шекспира.............................стр.
стихотворения “Выхожу один я
на дорогу” Лермонтова..............................................стр.
стиха Цветаевой “И, может,
высшая победа...”........................................................стр.
поэмы “Плаванье” Бодлера
в переводе Цветаевой...................................................стр.
повести С. Антонова “Васька”............................стр.
песни “Случай на шахте” Высоцкого.................стр.
трагедии “Борис Годунов” Пушкина
в постановке “Театра на досках”................................стр.
спектакля “Я” “Театра на досках”.......................стр.
повести “Записки из подполья” Достоевского…..стр.
песни “Иван Бодхидхарма”
в исполнении группы “Аквариум”...............................стр.
Прав, по большому счету.
Как-то я заспорил о романе Владимова “Три минуты молчания”. Я доказывал, что это неплохо, что там много матросского рыбацкого жаргона, настолько много, что даже не все предложения понятны.
- Зачем так писать? - возражали мне. - Ведь приходится прерывать чтение и пробовать искать объяснения в толковом словаре.
- Затем, - я отвечал, - что автор просто хотел погрузить читателя в самую глубину народную. Причем погрузить хотел, чего доброго, интеллигента, довольно далекого в своем чистоплюйстве от черной работы. Автор, быть может, хотел ткнуть нас, интеллигентов, мордой в землю, чтоб мы не носились в эмпиреях, не косили в сторону и не жаловались чтоб на свою жалкую участь в сравнении с гегемоном.
А о чем идет речь жаргоном,- говорил я,- все равно в общем-то понятно.
И тут мне пришла в голову мысль, почему Владимов назвал свою вещь именно так: “Три минуты молчания”.
Три минуты из 1440 в сутки выделяют индивидуалисты, чтобы вслушаться в чужую беду на море.
А матрос Сеня?
Его идеалом были люди дела - моряки, как он считал. Когда-то, в юности, на его глазах автомобиль подмял человека. Все прохожие на улице, Сеня в том числе, принялись ругать шофера, ахать над пострадавшим, и лишь оказавшиеся тут три матроса сделали самое необходимое для спасения человеческой жизни. Они спасли несчастного и, не назвавшись, ушли себе, оставив толпу ахать.
Этот случай решил судьбу Сени. Он стал моряком - военным, когда призвали в армию, рыбаком - после демобилизации.
Действие романа начинается с Сениной попытки свернуть с этой главной дороги его жизни. Лишь случай заставил его вновь выйти в море - остался без копейки денег. В конце романа ничего, казалось бы, не удерживает его, когда он вернулся из плавания - деньги нашлись, любимая женщина готова для него на что угодно и готова за ним - куда угодно. А он взял и опять ушел в море.
Это кажется немотивированным. Казалось бы, весь роман тому доказательство. Сеня все время чувствует, что ему тесно в той жизни, которую ему обеспечивает его профессия рыбака. Из-за сближения образа автора с образом Сени так и кажется, что последний зарывает в себе писательский талант - так живо он чувствует, так образно мыслит...
Или взять хотя бы эту его знаменитую куртку.
Он ее потому и купил, что собирался уезжать из Мурманска. А так - ведь у этой матросни холостой привычка все пропивать по возвращении из многомесячного рейса. Это моряки торгового флота могут прибарахлиться. (У такого как раз он и купил куртку втридорога.) Такая куртка не про рыбацкую честь. И пока она с ним, он как бы чувствует, что он в последний раз в море. (Это западноевропейским рыбакам под стать рыбачить в таких куртках: рейсы короткие, уловы небольшие, уютные каюты, хорошо организованный быт - не то, что у нас - все для производства, на благо производства и в ущерб личности.)
И вот Сеня, ни секунды не колеблясь, затыкает этой курткой трещину в борту корабля.
И так же, ни секунды не колеблясь, Сеня готов погибнуть вместе со всеми этими ему чужими, в общем-то, случайными людьми, с которыми его свело очередное плавание.
Воинствующий, в минуту опасности, индивидуалист, студент Дима, не может смириться с бараньей покорностью, с которой команда корабля ждет неминуемой гибели. Дима так не может. Он должен что-то делать для спасения жизни и готов попробовать шанс, который дает двухместная лодка. И зовет Сеню. Сеня же не мыслит свое спасение при гибели остальной команды, пусть никто из нее и не претендует (опасно) на место в лодке.
И так же, наверное, не раздумывая, а просто потому, что он для того предназначен больше всего - добывать для страны рыбу - пошел Сеня в новое плавание, когда уже решительно ничего не удерживало его во флоте.
На таком, как Сеня, собственно, и держится наше государство. Это как при царе: как бы ни плохо было крестьянину, а будучи призван в армию, он оттуда не дезертировал и вел себя там героически, часто - на удивление героически.
А иначе - у Владимова - что бы было? Сеня бы или ушел с рыбацкого судна на более легкую и чистую работу, или перешел бы в торговый флот, или вообще сбежал бы заграницу, думая лишь о собственном успехе,- и “что б осталось от Москвы, от Рассеи”?..
Название “Три минуты молчания” это не призыв читателю хоть изредка, хоть на немного отрекаться от индивидуализма. Нет. Это укор нам, эгоистам, живущим для себя, в то время как есть тысячи людей, что не осознавая и не рассуждая всю, собственно, свою жизнь отдают на благо народа или там - государства и т. п.
В стране не хватает мяса. Значит, нужна рыба. Очень много рыбы. Нужно надрываясь работать, чтобы дать столько рыбы. Вот это и определяет жизнь Сени и во многом - жизнь его главного врага, источника всех зол в романе - начальника управления промыслом.
И зря я думал раньше, что главный пафос романа - в его антиначапьнической, так сказать, направленности. Впрочем, и раньше я чувствовал в нем нечто большее. И, соответственно, не зря я инстинктивно испугался, когда по какому-то из западных радиоголосов услышал о каком-то диссиденте Владимове, сбежавшем на Запад. Это должен быть другой Владимов. Было бы слишком ужасно, если бы от нас убегали такие люди, как автор “Трех минут молчания”.
---
Я узнал впоследствии, что радиоголос говорил все-таки о нем.
* * *
На 80-тилетие со дня рождения Шолохова опять показывали по телевидению “Тихий Дон”. И я так опять жалел Гришку, и так мне казалось, что он выражает прямо-таки меня с моими теперешними метаниями (никому, впрочем, не видимыми)... Просто плюнуть хотелось на “Хождение по мукам”, специально исследующее интеллигентские поиски правды.
И очень в те дни хотелось мне верить мельком слышаной (опять же - по телевидению) цитате из Луначарского, мол, “Тихий Дон” - величайшее произведение мировой литературы.
Так ли это, я теперь сомневаюсь, но, во всяком случае, “Тихий Дон” удовлетворяет главному, по-моему, условию художественности, открытому Выготским: все в этом произведении соткано из противоречий. Даже название противоречит здесь теме: войне мировой, революции, гражданской войне, бандитизму.
Чем больше вещь построена на противоречиях, тем она действеннее.
Взять хотя бы многосерийный фильм “Освобождение” Юрия Озерова. Спросить кого угодно - и все скажут, что самая сильная часть - первая: “Огненная дуга”. Вторая, “Битва за Днепр”,- похуже. А остальные - и говорить нечего, помня первые.
А почему?
Потому что в первой серии победа в Курском сражении показана исключительно через длящееся всю серию поражение наших войск в первой половине сражения.
Немцы, наступая, прорывают один эшелон обороны за другим. Их победы в начале сражения - это пирровы победы, частные. Но все же это победы. И показ идет нашего поражения.
Но какое ощущение все нарастающей и, наконец, во всю раскрывшейся мощи нашей охватывает в последние минуты первой серии.
То же и во второй. Показан, в сущности, разгром нашего батальона, захватившего плацдарм после переправы через Днепр. А потом оказалось, что это был маневр для отвлечения немцев от главного удара (который не показан; в последние лишь минуты показан результат того главного удара).
И вот так же и в “Тихом Доне”.
Правота большевистских идей показана здесь через неправоту, в конечном счете, конкретных коммунистов. Это они повинны в трагедии Григория Мелехова.
Все: и Подтелков, и Штокман, и Кошевой - поступали против линии партии и отталкивали Григория от советской власти (спасибо Бирюкову - разъяснил).
“Первую заметную трещину дал случай под Глубокой. Мелехов пытался предотвратить самосуд над Чернецовым и сорока офицерами, взятыми в плен. Произошла стычка с Подтелковым. Важно, прежде всего, вот что: Мелехов только что вышел из боя, в котором отличился как красный командир, помог разгромить Чернецова и был ранен. Но как разговаривает с ним Подтелков?
“А ты, Мелехов, помолчи-ка!.. Понял? Ты с кем гутаришь? Так-то!.. Офицерские замашки убирай! Ревком судит, а не всякая...”
Вот это-то определение “всякая”... Мелехов переносить не согласен.
Над этим “всякая”, особенно “Ты с кем гутаришь?” - задумывается и автор. Иногда и такие люди, как Подтелков, могут приобретать черты властного самодовольства, неограниченной распорядительности, выйти из-под контроля...
Ведь в этом “Ты с кем гутаришь?” несомненно есть нарушение принципа революции, явное расхождение с тем, как отвечал совсем недавно на вопрос Григория Подтелков:
“- А править нами кто будет?
- Сами!- оживился Подтелков.- Заберем свою власть - вот и прави`ло...”
”Далее так.
“Вот под красным знаменем нагрянул в хутор Сетраков, отступавший с Украины тираспольский отряд 2-й Социалистической армии. Хуторяне убеждены, что видят “большевиков”. А на деле это оказался преступный анархический сброд, близкий к махновскому: грабят, пьют, насилуют казачек, арестовывают жителей.
Шолохов считает, что это не было единственной причиной колебания казаков, но оказалось тяжелым дополнительным грузом, чтоб чаша весов перетянула в другую сторону”
.И вот Григорий в белой армии, но воюет вяло, успехи белых не радуют, и он покидает фронт. Подходят красные. Мелеховы идут в отступ. Красные Григория хотят убить на пьянке как белого офицера... А потом, когда опять приблизились белые, красные стали “изымать” не только попов, офицеров, атаманов и богатеев, но и случайный трудовой люд.
“
Когда по хутору поползли недобрые слухи, Мелехов идет вечером на огонек в ревком рассказать, что “в грудях накипело”. Из его разговора видно, как многое смущает середняка. Даст ли советская власть что-нибудь трудовому казаку или, наоборот, отнимет из того, что есть? Не обман ли рассуждения о равенстве? А то ведь шла через хутор красноармейская часть. “Взводный в хромовых сапогах, а “Ванек” в обмоточках. Комиссара видел, весь в кожу залез, и штаны, и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они, - куда равенство денется?”Котляров рассказывает, как хорошо приветил его окружной председатель, поздоровался за руку. А у Мелехова свое на уме. “Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал?
”Он знал по керенщине, какой расчет делают иные политики “на приваду”... Задача сводилась к тому, чтобы разъяснить людям, успокоить их. В предписании Ленина... было сказано: “Относительно земельного вопроса на Дону советую иметь в виду текст принятой позавчера на съезде Советов резолюции о федерации Советских республик. Эта резолюция должна успокоить казаков вполне”.
Что же отвечают Мелехову в ревкоме? “Твои слова - контра”, “Ты советской власти враг!”, “такие думки при себе держи”, “Стопчем!”
”И вот Штокман велит арестовать Григория.
А тут восстание казаков (из-за перегибов советской власти) против советской власти...
Лучше всего сказано о Советах от имени самого низового казака:
“Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно сделали... Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастого народу у вас много, через это и восстание получилось”.И, наконец, Кошевой. Когда Григорий опять перешел к красным и сполна замолил свои грехи перед ними, славно сражаясь на Украине, и вернулся домой, Кошевой ему не простил былого и настаивает перед ЧК об аресте Мелехова.
Да, много у нас “
дурастого народу”: и в революции было, и в гражданской войне, и в коллективизации и т. д. и т. д.Но не это страшно.
Коммунисты,- говорится,- ум, честь и совесть нашей эпохи. Но если ты, совесть, и натворила беды все-таки, так покажи ты свои угрызения. Если уж коммунисты определяют очень и очень многое и при этом не обходится без ужасных ошибок (что делать - человек не ангел, не ошибается тот, кто ничего не делает), так пусть же они не зажимают рот крику совести.
А ведь получается иначе. Искренняя “коммунистическая” деятельность коммунистов в принципе перестала считаться источником трагедий в нашем обществе.
Уже “Тихий Дон” Шолохов еле-еле (с помощью Горького) протолкнул в печать. А между тем именно потому, что он почти весь сюжет своей эпопеи построил на дурастых коммунистах, именно потому он и добился трагедийного очищения, просветления и подспудной веры в тот же неистребимый и неизбежный коммунизм.
Такова диалектика искусства.
Шолохов большой талант, что почуял это, и честный человек, раз довел до печати. Но он бы не высился так надо всей советской литературой, если бы не были в ней так высоки барьеры для показа дурастых коммунистов, на многие десятки (наверное) процентов определяющие нашу жизнь.
И я смею усомниться в правоте Луначарского, что “Тихий Дон” - величайшее произведение литературы.
Не было в прошлые века такой резкой поляризации идей, такой политизации всей жизни. Не было таких высоких барьеров для показа язв жизни по вине власть имущих. И поэтому так процветала трагедийная линия в искусстве. А ведь трагедия, катарсис, очищение - это тот “ген”, который уже 2,5 тысячи лет формирует все европейское высокое искусство от Древней Греции до наших дней.
Но в наши дни, как сумели расказачить казаков, чего сотни лет не удавалось царям, так сумели подавить “ген” катарсиса.
Потому, наверное, “Поднятая целина” уже слабее “Тихого Дона”, дальнейшие произведения Шолохова потому-то, наверное, все менее эпичны, все более коротки, и потому он теперь совсем уже не пишет, наверно. Если когда-нибудь окажется, что он все-таки писал, но на полку, для будущего, так это только подтвердит мой вывод.
И теперь я уж ни за что не поверю сплетням, что “Тихий Дон” написал белогвардейский офицер, а к Шолохову рукопись попала, и он ее опубликовал под своим именем.
Нет. Так художественно, через противоречие формы и содержания, воспеть коммунистические и социалистические идеалы не мог белогвардеец.
---
Впоследствии никаких сведений о произведениях, писанных в стол, не появилось.
Каунас. 1980 г.
Грани
крайнего разочарования
(ЭКСПРОМТ)
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака
Ю. Кузнецов
Раз в театре рядом со мной оказалась пара пожилых женщин, одна из которых скрипучим шепотом (но я все слышал) повторяла и комментировала подруге почти каждое слово, произносимое на сцене. Мои негодующие взгляды они расценили как интерес и повернулись, чтоб мне было лучше их слышно. Я еле совладал со своей яростью.
В другой раз, в другом театре, полном несдержанной детворы, которой только что популяризатор классической музыки Виноградова рассказала содержание сюиты, когда зазвучала музыка, мне пришлось, ежеминутно понукаемому маленькой дочкой товарища, шептать ей, что означает едва ли не каждая музыкальная фраза. Сдерживая раздражение, я старался ее удовлетворить, и, о чудо, импровизация удавалась. И чужой мальчик с переднего ряда заинтересовано прислушивался ко мне.
А что: есть же синтетические искусства? Что если смешать произведение с его истолкованием?..
Если хотите ощутить себя находящимся около вершин духа, почитайте “Зарубежную поэзию в русских переводах. От Ломоносова до наших дней”. Издательство “Прогресс”, Москва, 1968 год. (Разумеется, я обращаюсь не к знатокам.) Каких только неожиданных, обескураживающих ходов мыслей и оттенков чувств вы там ни встретите! И вы почувствуете себя пигмеями. И это переживание только усилится, если что-то, вдумавшись, покажется вам даже более сложным, чем показалось интуитивно, вначале. Должна потрясать,- как человека с равнины - горы,- даже попытка оценить громады, воздвигнутые корифеями.
- Попытка оценить... Как оценить?
- Измерить мыслью хоть то, что поддается. И прикинуть: насколько же истина - выше.
Но... чтоб извлечь энергию этого размышления и переживания у многих читателей, я должен ее “
извлекать из того топлива, которое дает современная действительность, из того, что роднее читателю”.Я - римский мир периода упадка...
Ну, какой я - римский мир. Я - советский обыватель. В меру нахлебник государства, в меру - труженик - на работе подвигов не делаю, но не ленюсь. Однако период упадка имеет ко мне какое-то отношение. Я - из, может быть, последних-предпоследних, кто упирает на совесть, как на отличие нашего строя (до Горбачева, по крайней мере) от строя врагов.
...Когда встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка.
Я и сочинения свои стал писать в защиту, мнимую защиту,- воистину, в забытьи,- в защиту системы от роя обывателей иных по природе, не совестливых, насмехающихся, в меру возможности, над совестливостью и подрывающих строй своей плохой работой: раз, мол, не могут нас заставить или заинтересовать деньгами, то мы работаем постольку, поскольку нас терпят начальники, которым на работу и на строй, в конце концов, тоже наплевать и которые свое попустительство нам называют реализмом (их тоже подобные реалисты из начальства повыше терпят, и так далее - до верха). Против этой мафии я держал свою фигу в кармане - в виде подобных записок, и было -
...Душе со скуки нестерпимо гадко...
Да, пожалуй, я действительно похож на римский мир периода упадка. Давно уже я удивлялся, как вообще еще держалось-жило наше государство. А теперь сам Генеральный секретарь применил слово “стагнация” (кризис) для характеристики нашего положения. Теперь считается, что Горбачев обогатил категориальный фонд марксизма-ленинизма - ввел понятие “переломная ситуация”, последствия которой сравнимы, мол, с последствиями революционной ситуации. И если переломная от революционной отличается, как минимум, не такой, как при революции, быстротой, то чем римский мир периода упадка - не переломная ситуация, раз растянулся на четыре века переход от рабовладения к феодализму.
И римский мир не уходил без боя. Реформенного. Рабов заменял колонами - чтоб быть похожим на сплошь свободных, на нападающих варваров...
...А говорят, на рубежах бои...
А не является ли и Горбачев подобным стратегом? Не выражает ли он привычки и таких, как я: ведь не ломает же он круто, как Китай, не делает же безоглядную ставку на частный интерес (на личную заинтересованность, как у нас стыдливо выражаются). И не потому ли так слабы (вот уж пару лет) результаты его действий? И не заставляют ли подозревать, что и эти реформы, как и прежде, кончатся ничем или почти ничем? А кто-то даже уверен, что ничем...
О не уметь сломить лета свои!
О не хотеть прожечь их без остатка!
О не хотеть, о не уметь уйти!..
И если спустя еще годы и годы ничего особо не получится, или, наоборот, если получится, только за счет отказа от себя, и я доживу до тех пор, то не повторю ли я как сокровенное свое конец стихотворения?
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!
И далее
Сказано же в новой редакции программы КПСС, что не исключен и социальный реванш вообще-то отживающего капитализма...
Я - римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка...
Душе со скуки нестерпимо гадко,
А говорят, на рубежах бои.
О не уметь сломить лета свои!
О не хотеть прожечь их без остатка!
О не хотеть, о не уметь уйти!
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!
Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объясненья и предела.
Это - Поль Верлен в переводе Пастернака.
Мог ли Пастернак, в чем-то, на иной лад, не принимавший советскую действительность, переводить это со всею силою сочувствия? Это, впрочем, не для экспромта. Как и социально-сокровенное Верлена, породившего упадническое настроение этого стихотворения.
А когда вживался в эти строки я - я только вживался. Я, по упрямому характеру своему, не мог смириться с поражением. Я верю в конечное, хоть через 500 лет, торжество коммунизма на планете. Поэтому если б до такого глубокого, страстного разочарования дойти мог я (именно, если б мог, ибо я не способен на страсти), мне бы больше по душе был стих Микеланджело, этого титана эпохи Возрождения, эпохи,
так размахнувшейся во имя счастья человека, что ее эхо гремит до наших дней и никакая Рефеодализация и Контрреформация не смогли окончательно сломить такого кремня, как Микеланджело.<Из Микеланджело>.
Перевод Ф. И. Тютчева
Молчи, прошу - не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать - удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
В чем я вижу кремневую крепость Микеланджело? Ведь, казалось бы, стать камнем - это навсегда прекратить существование, это - не спать (спящий проснуться может). Но, перечитайте, лирический герой не только не окаменел, он даже не вполне спит. Весь стих - это его речь. Желание превратиться в камень - лишь мера отрицания действительности. А зато действительность - ограничена во времени. Она наречена “веком”. И каким бы расширительным ни было это наименование, мое упрямство видит здесь конечность преступного и постыдного времени.
Может ли, однако, нынешняя действительность (я ж по-прежнему хочу добывать энергию сопереживания из того, что для читателя роднее), так может ли социалистическая действительность вызывать такое крайнее отрицание?
У меня лично (опять - лично) не может. Ни я сам - по возрасту,- ни кто-либо из моих близких не пострадал во время культа личности Сталина - самого преступного в СССР времени. Урон, который я понес во времена Хрущева и Брежнева - ничто в масштабе мировоззрения человека. То же - и с пробуксовкой горбачевских реформ, не доходящих до моего уровня.
Но судить ведь можно не по себе. У больших поэтов - большое сердце. Представим большого человека - мог бы он закричать, что лучше б ему камнем быть? - Мог бы! Даже средний может:
Как будто достигнув предела
безверья,- над пропастью черной
всей бездной тщедушного тела
ликует безбрежное горло.
Чего, ну чего оно хочет?
Куда - позвонки разрывая,
зовет озверевших от ночи,
какого пророчит им рая?
Гремит неизбывной осанной,
но реквием - каждая нотка...
От песни своей окаянной -
порвись, безутешная глотка!
Ольга Герасимова,
наша современница
Правда, написано “до Горбачева”, но если отвечать за весь социализм целиком, за именем коммунизма убитых 3 миллиона кампучийцев, не знаю, сколько миллионов китайцев, 3 (или 10, или 17?) миллиона советских людей; вживаясь в ответственность за - именем ошибок социализма оправданных или не привлеченных к суду народных заседателей и к суду совести - миллионы спекулянтов, несунов, воров, хапуг, халтурщиков, леваков, взяткодателей и -брателей - вживаясь во все это, можно умом и даже сердцем понять микеланджеловский стих, отвергающий ЭТОТ век во имя века ДРУГОГО какого-то, пусть не следующего, пусть не известно когда наступящего, но во имя века НЕЭТОГО, во имя, несмотря ни на что в веке ЭТОМ.
То есть, получается, я объяснил себе слово “этот” упорством характера поэта, сложившего стих, а может, заодно, и упорством характера переводчика (разве не мог Тютчев, переживший крах демократических идеалов декабризма, все же упрямо оставаться верен, ну, не им, их подобию, но верен, несмотря ни на какую беспросветность: ни последовавшей николаевской реакции, ни перспективы исчезнуть... самому человечеству...).
Все бы хорошо, если б в этом же сборнике я не нашел, в переводе на этот раз Сологуба, стихи все того же Верлена, который, получалось по-моему, упорством характера не отличался, а содержанием стихи - похожи на тот, микеланджеловский.
Я в черные дни
Не жду пробужденья.
Надежда, усни,
Усните стремленья!
Спускается мгла
На взор и на совесть.
Ни блага, ни зла -
О грустная повесть:
Под чьей-то рукой
Я - зыби качанье
В пещере пустой...
Молчанье, молчанье!
У Микеланджело - “этот век”, у Верлена - “черные дни”. Гораздо более короткий промежуток времени. Неужели это значит, что Верлен гораздо упорнее Микеланджело? - Нет. Перечитайте оба стихотворения. У Микеланджело и Тютчева - ярость, у Верлена и Сологуба - баюканье. У первых набор слов: “не смей
”, “преступный”, “постыдный”, “камнем”. У вторых - такой резкости нет. У первых - повелительное наклонение - “молчи”, у вторых - гораздо менее энергичное - отглагольное существительное “молчанье”. У первых - внутри строк перебои, у вторых - без, певуче, мелодично. У Микеланджело само превращение в камень своим экспрессионизмом наводит не на нечувствование, а, наоборот, на особенно остро переживаемое чувство (неприятия). У Верлена - потерпимее. И не потому, что короче то время, которое нужно перетерпеть. Раз упоминается надежда, стремления, то тут не о днях речь. “Дни” - синекдоха, обозначение долгого времени. У Верлена, собственно, речь человека, уже много раз засыпавшего в черные дни и просыпавшегося, и мыслимо, что просыпаясь, он опять и опять заставал черные дни и в силу этого грустного опыта он перестал “ждать” пробужденья. И еще. Немыслимо, чтоб спустилась мгла на совесть лирического героя Микеланджело, чтоб он перестал отличать зло от блага. А у Верлена это грустно, но допустимо. Верлен - поэт упадничества, по крайней мере, его начала. Сологуб, его переводчик в данном случае тоже декадент? (Но это уже не для экспромта.) А остальное - сходится.Люди неодинаковы по мужественности. Поэты, художники - тоже, естественно. Отсюда - разные нюансы выражаемых их произведениями КРАЙНИХ разочарований в окружающей действительности и в ближнем и достаточно определенном будущем.
Разница этих нюансов особенно заметна в их отношении к смерти и посмертному. И те и другие жить в мерзком окружении без надежды на скорое лучшее будущее не хотят. Но они разной смерти желают.
Тут пусть не сбивает сверхсмерть у Микеланджело - превращение в камень. Сколько мне известно, это стих относится к скульптуре “Ночь” из ансамбля гробницы тиранов Медичи: “Утро. День. Вечер. Ночь”. Ансамбль сделан из камня, из мрамора. Лирическое “я” в стихе Микеланджело - это скульптура, олицетворение. Это некое все же существование, способное что-то “сказать” спустя века, “другому” веку.
Это как шекспировский принц Гамлет. Умереть-то хочет, но чтоб память добрая о нем какому-то сверхбудущему осталась - тоже хочет, ибо он надеется на это сверхбудущее. Ему нужна связь времен, и поэтому он просит друга, Горацио, не умирать вместе с ним, Гамлетом, пока Горацио не расскажет, что ж на самом деле случилось в Эльсиноре.
И это как лирический герой лермонтовского “Выхожу один я на дорогу...”:
Я хочу забыться и уснуть.
Но не тем холодным сном могилы...
Однако не извращаю ли я микеланджеловский стих: сон - не вполне сон, не жить - не не жить, камень - не камень, а статуя? Этак повывернуть - что хочешь докажешь?..
И все же сон - не вполне сон, а камень - скульптура.
Что же касается “не жить”, то здесь применен такой эстетический прием, как постепенное уточнение понятия (“не чувствовать”), а сама постепенность выражает трудность нахождения выражения, что - еще далее - выражает трудность самой ситуации: и обстоятельств, и реакции на них. Находится состояние более общее, чем “не жить
” - “не чувствовать”. Состояние клинической смерти,- если б о ней знал Микеланджело,- подошло б ему, пребывание в замороженном, но не убитом до смерти состоянии, чтоб можно было проявить себя в “другой” век.Я думаю, что в данном стихе - осознанное уточнение понятия. Это не то, что у - пардон - меня в одном опусе: неосознанное.
Расскажу.
Я прочел стих Цветаевой:
И, может, высшая победа -
Уйти и не оставить следа? -
и понял так, что подобный крайний протест, экстремизм, пригоден для толкования “Анданте” “Сонаты моря” Чюрлениса. И туда же подключил только что цитировавшиеся строки Лермонтова - за то, что какая-то потаенная жизнь - в “Анданте” - продолжается: светятся окна утонувших домов города, не повреждены утонувшие парусники, даже на поверхности моря остались какие-то следы этой тайной жизни глубин - чаши, излучающие свет.
Я не сообразил, что “не оставить следа” это не значит оставить на поверхности моря светильники, излучение которых (может быть) поддерживается связью (пузырьки к каждому светильнику) с глубоко скрытой водою какой-то жизнью.
И не сообразил, что именно эта тайно тлеющая надежда, что ли, - дает энергию яростного “нет!” “Финала” этого чюрленисовского цикла; “нет!” в ответ на вопрос, подобный цветаевскому. Я недоосознал в том своем опусе, что вопрос Цветаевой к “Анданте” применим лишь как вопрос, а не как утверждение
*.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
- Я не стал в этой связи ничего менять там, где об этом стихе написано, - во “Второй книге” данной серии “Книг прошлого”, ибо есть особый интерес в том, как постепенно доходишь до истины.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кстати, очень кстати, в сборнике переводов есть Цветаева, есть замечательный перевод ее “Плаванья” Шарля Бодлера. А это “Плаванье” - развернутое уточняющееся осознание стремления к абсолютной нежизни крайне разочаровавшихся в мерзкой действительности.
Насколько разочаровалась Цветаева в нашем социальном устройстве, вернувшись в СССР из эмиграции, я сейчас не знаю (и не для данного экспромта - сверять догадку). Но о Бодлере знаю (по Плеханову), что он совершил полный цикл изменения мировоззрений: от исповедования идеи “искусства для искусства” (в дореволюционной обстановке) - через проповедь высоких идеалов и утилитаризм (в революцию 1848 года) - опять к “искусству для искусства” (после поражения этой революции). Это характеризует Бодлера как человека слабого, и его (с Цветаевой) “Плаванье” полностью подтверждает такой вывод.
Плаванье
Максиму Дю Кан
1.
Для отрока, в ночи глядящего эстампы,
Значит, судящего о жизни по изображениям жизни, а не по ней самой...
За каждым валом - даль, за каждой далью - вал.
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Лучи лампы, да еще ночью дают иллюзию - иллюзию, как будет видно далее,- иллюзию того, что мир поддается как-то, поддается направленной деятельности человека: освещается.
Ах, в памяти очах - как бесконечно мал!
Значит, у отрока - иллюзия, у опытного человека - отнюдь... Бесконечная малость мира - довольно парадоксальный вывод опытного. Ясно, что этот последний - лирический герой произведения.
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль...
Пока эта неприятная картина может быть отнесена к негативным сторонам жизни, приведшим к отплытию разочарованных разного рода. “Мы” - это не только подобные лирическому герою.
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.
Для большинства предельность морей еще не видна. Ее провидит лишь лирический герой и ему подобные. Это в них постепенно превратится большинство. Слово - ему:
Что нас толкает в путь? Тех - ненависть к отчизне,
Тех - скука очага, еще иных - в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни,-
Надежда отстоять оставшиеся дни.
В Цирцеиных садах, дабы не стать скотами,
Плывут, плывут, плывут в оцепененьи чувств,
Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя
Не вытравят следов волшебницыных уст.
Эти уже не отроки. Но и еще не мудрецы. Ими двигает не телячье любопытство, а некое отрицание. Они, по крайней мере, знают, чего они не хотят. А есть иные.
Но истые пловцы - те, что плывут без цели:
Плывущие - чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час еще твердят: вперед!
На облако взгляни: вот облик их желаний!
Как отроку - любовь, как рекруту - картечь,
Так край желанен им, которому названья
Доселе не нашла еще людская речь.
Эти товарищи еще более разочарованы. Они даже не знают цели. Бегство вперед. Значит, предыдущие не только знали, чего не хотят, но и знали, чего хотят. А эти - разочаровались и в своих желаниях. К этим ли относится лирический герой?
2.
О, ужас! Мы шарам катящимся подобны,
Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры
Нас Лихорадка бьет, как тот Архангел злобный,
Невидимым мечом стегающий миры.
О, странная игра с подвижною мишенью!
Не будучи нигде, цель может быть - везде!
Игра, где человек охотится за тенью,
За призраком ладьи на призрачной воде...
Душа наша - корабль, идущий в Эльдорадо.
В блаженную страну ведет - какой пролив?
Вдруг среди гор, и бездн, и гидр морского ада -
Крик вахтенного: - Рай! Любовь! Блаженство! - Риф.
Малейший островок, завиденный дозорным,
Нам чудится землей с плодами янтаря,
Лазоревой водой и с изумрудным дерном.
Базальтовый утес являет нам заря.
Нет, даже не к этим относится лирический герой, потому что эти еще сохранили силы еще возвращаться и возвращаться к вере, хоть она их и обманывает раз за разом.
О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям иль в цепи заковать,-
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего еще серее гладь.
Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи не вышке чердака.
Чем же отличается лирический герой от своих попутчиков? Пока неизвестно. Пока все, среди странствий, оказались, между прочим, дома. И вот - слабейшие: у которых вообще не хватает духа протестовать (плаваньем, например), которые готовы удовлетвориться вчувствованием в рассказы пловцов.
3.
Чудесные пловцы! Что за повествованья
Встают из ваших глаз - бездоннее морей!
Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний,
Сокровища, каких не видывал Нерей.
Умчите нас вперед - без паруса и пара!
Явите нам (на льне натянутых холстин
Так некогда рука очам являла чару)
Видения свои, обрамленные в синь.
Что видели вы, что?
4.
- Созвездия. И зыби,
И желтые пески, нас жгущие поднесь.
Но несмотря на бурь удары, рифов глыбы,-
Ах, нечего скрывать! - скучали мы как здесь.
Лиловые моря в венце вечерней славы,
Морские города в тиаре из лучей
Рождали в нас тоску, надежнее отравы,
Как воин опочить на поле славы - сей.
Смерти хотят, что ли?.. Только кто это хочет: герой или попутчики? И как-то не шибко хотели - приплыли домой...
Стройнейшие мосты, славнейшие строенья,-
Увы! хотя бы раз сравнялись с градом - тем,
Что из небесных туч возводит Случай-Гений...
Все то же бегство вперед.
- И тупились глаза, узревшие Эдем.
Все то же опять и опять возвращение к вере и - разочарование за разочарованием.
От сладостей земных - Мечта еще жесточе!
Мечта, извечный дуб, питаемый землей!
Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь
Достигнуть до небес с их солнцем и луной.
Докуда дорастешь, о древо кипариса
Живучее?..
Пока рассказ ведут попутчики, не герой.
Для вас мы привезли с морей
Вот этот фас дворца, вот этот профиль мыса,-
Всем вам, которым вещь чем дальше - тем милей!
Приветствовали мы кумиров с хоботами,
С порфировых столпов взирающих на мир,
Резьбы такой - дворцы, такого взлету - камень,
То от одной мечты - банкротом бы - банкир...
(Если б вздумал построить.)
Надежнее вина пьянящие наряды,
Жен, выкрашенных в хну - до ноготка ноги,
И бронзовых мужей в зеленых кольцах гада...
5.
- И что, и что - еще?
- О, детские мозги!..
Бегство в экзотику находится где-то на низких-пренизких ступенях разочарования.
6.
Но чтобы не забыть итога наших странствий:
От пальмовой лозы до ледяного мха,
Везде-везде-везде - на всем земном пространстве
Мы видели все ту ж комедию греха:
Её
, рабу одра, с ребячливостью самкиВстающую пятой на мыслящие лбы.
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке
Наследственном - всегда - везде - раба рабы!
“А как с половыми отношениями?- задает себе вопрос мистер Фрэзер из одного рассказа Хемингуэя, певца потерянного поколения, и сам себе отвечает.- Это тоже опиум для народа. Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа”. Если разочаровавшиеся - из лучшей части, то ничего нового они не встретили в этом смысле. И дальше - идет сермяжная гадость, от которой они и из дома-то бежали.
Мучителя в цветах и мученика в ранах,
Обжорство на крови и пляску на костях,
Безропотностью толп разнузданных тиранов,-
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах.
Относительно просвещенной Европы это даже еще более плохая действительность, чем та, от которой они бежали (они ж европейцы).
С десяток или два - единственных религий,
Все сплошь ведущих в рай - сплошь вводящих в грех!
Подвижничество, так носящее вериги,
Как сибаритство - шелк и сладострастье - мех.
Болтливый род людской, двухдневными делами
Кичащийся, Борец, осиленный в борьбе,
Бросающий творцу сквозь преисподни пламя:
- Мой равный! Мой господь! Проклятие тебе!
Все - или хуже, чем в Европе, или - как в Европе.
7.
И несколько умов, любовников Безумья,
Решивших сократить докучный жизни день
И в опия морей нырнувших без раздумья,-
Сто лет спустя уже не надо пускаться в плавание, чтоб обрести эту восточную мудрость: опиум.
Вот Матери-Земли извечный бюллетень!
Бесплодна и горька наука дальних странствий.
Сегодня, как вчера, до гробовой доски -
Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.
Похоже, многократно разочаровавшиеся, итожа для других свой опыт, готовы перейти в какое-то новое агрегатное состояние разочарования.
Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя -
Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит.
Чтоб только обмануть лихого старца - Время.
Оцепенеют?
Есть племя бегунов. Оно - как Вечный Жид.
И как апостолы, по всем морям и сушам
Проносится. Убить зовущееся днем -
Ни парус им не скор, ни пар. Иные души
И в четырех стенах справляются с врагом.
“Этика опущенных рук” - как теперь выражаются некоторые. Крайний экстремизм отрицания...
Вот миг, когда злодей настигнет нас - вся вера
Вернется нам...
Неужели - как чюрленисовское “нет!”, выраженное против “Анданте” “Сонаты моря” гигантским волнами “Финала” той же “Сонаты моря”?
Вернется нам, и вновь воскликнем мы: - вперед!
Куда бы это? Ведь, вроде, некуда. Не повторять же все снова?
Как на заре веков мы отплываем в Перу,
Авророю лица приветствуя восход.
Не может быть, чтоб повторять...
Чернильною водой - морями глаже лака -
Мы весело пойдем между подземных скал.
Что-то жуткое задумали.
О, эти голоса так вкрадчиво из мрака
Взывающие: - К нам! - О, каждый, кто взалкал
Лотосова плода! Сюда! В любую пору
Здесь собирают плод и отжимают сок.
Сюда, где круглый год - день лотосова сбора,
Где лотосову сну вовек не минет срок!
Кажется, на тот свет нацелились.
О, вкрадчивая речь! Нездешней лести нектар!..
К нам руки тянет друг - чрез черный водоем.
Харон?
- Чтоб сердце освежить - плыви к своей Электре!..
Нам некая поет - нас жегшая огнем.
На этот раз, кажется, все едины с лирическим героем...
8.
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Да. Все кончено будет сейчас.
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода - куда черней чернила.
Знай - тысячами солнц сияет наша грудь!
До какого все-таки ужаса доходят люди. Все ценности переворачиваются.
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть - Ад или Рай - едино! -
В неведомого глубь - чтоб новое обресть!
И в этом перевернутом мироощущении сила - это то, что есть слабость в мироощущении обычном, с которым сильный и с собой покончит ради будущего. Хотя... Кто знает? Не покончит ли вот этот наш сильный ради принципа: не отступить от своего?.. Как у Тютчева - “подвиг бесполезный”... Крайности - сходятся?
Если вся эта инвентаризация разочарований у Бодлера есть эволюция из одного в другое и так далее, то... Сколько же много приходится перенести хотя бы одной разочарованной душе!
Одесса - Каунас. Июль 1986 г.
Так куда же нас зовут?
*Письма в “Литературную газету”
“Писатели зовут нас не к пьянству и праздности, а к полезному труду, чтобы в свободное время...”
Ф. Осадчий из Алма-Аты, сочувственно процитированный “Литературной газетой”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
- Чистая публицистика здесь набрана мелким шрифтом и ее, при отсутствии желания, можно не читать--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Скажите, уважаемые товарищи, а как быть с тем, чтоб не утратить нам историческую перспективу в этом почти беспрерывном зарабатывании денег? Не впадаем ли мы опять в крайность?
Ну, да: сознательность наша подкачала. Ну, да: надо маневрировать - надо сделать упор на непосредственную личную выгоду. Все - да. Но маневр - ведь это только маневр. Временное отступление. Каким человеческим материалом мы станем наступать, когда выберемся из экономической ямы?
Культурный уровень, думаю - согласитесь, находится в обратной зависимости от общественно полезного труда в свободное время (для тех, конечно, миллионов, кто в свое свободное время трудится не на поприще культуры). Так почему бы не ждать от писательской газеты, от писателей некой оппозиции (не побоимся этого слова в условиях гласности), оппозиции властям предержащим, занимающимся главным - экономическим спасением страны. Хоть считается, что партии - до всего дело, но по всему видно: не на моральном фронте она видит то звено, за которое можно, потянув, выправить наши хозяйственные дела.
Вы скажете, что главная особенность перестройки - всесторонность, гармоничность, не забывание, в частности, и духовного фактора.
Я не соглашусь, пока Вы будете петь в унисон с властью.
Гармония - не унисон.
Пока в Вашей, именно в Вашей, писательской газете в каждой статье по поводу, скажем, улучшившегося таксомоторного обслуживания в городе N радость не будет сопровождаться хоть легким сожалением: сколько же книг хороших не прочитано таксистами по совместительству - до тех пор лично я не поверю в гармоничность перестройки, да и в Вашу храбрость, ну, и в гласность, конечно.
Писателям и их газете еще более, чем призывать к полезному труду в свободное время, пристало конкурировать с этим трудом и рекламировать такую свою конкуренцию. А ну, осмельтесь, кто-нибудь, взяв интервью у таксистов нового типа, спросить (и опубликовать), не меньше ли стал товарищ читать книг. Или так: не потому ли, мол, он занялся извозом в свое свободное время, что художественная литература его не прельщает - ни современная, ни советская, ни любая? И как он в этой связи оценивает свой культурный уровень и перспективы его повышения?
И не знаю, какой газете, “Учительской”, может, пристало бы в подобном интервью спросить, не пострадает ли от извоза воспитание его детей.
И уж совсем не представляю, журналисты какой газеты втерлись бы в доверие к, например, все тем же “новым” таксистам, чтоб выведать: как они на основной работе экономят нервные силы, чтоб после работы их хватало на извоз.
Ваша безальтернативность, недиалектичность подхода очень мне не нравится. Буду очень рад, если это мое (да только ли мое?!) переживание на Вас как-то позитивно повлияет.
А нет - что ж... Вынесем. Наш народ и не такое выносил.
2.
Не в отдел экономики “ЛГ”
Уважаемые товарищи!
Какое-то недоразумение вышло. За якобы интересные отклики я получил, по-видимому, из отдела экономики анкету, в которой мне надо проявить себя знатоком цен и человеком, размышляющим о перспективах и альтернативах их изменения. Это побудило меня ответить на Ваш №... от..., который действительно пришел из отдела экономики.
Я в самом деле часто не выдерживаю и пишу в “ЛГ” письма, а иногда их и отправляю. Но я даже не представлял, смейтесь, что существует в “ЛГ” отдел экономики. Я всегда Вам пишу по культурно-нравственным вопросам. А в ценах и экономике я просто профан и потому возвращаю анкету.
Получив Ваш №... , я огорчился, что вообще существует такой отдел в газете писателей. Я в “ЛГ” пишу, представляя ее себе чем-то цельным, а мне отвечают узкие, что ли, специалисты?
В том своем письме, что попало в отдел экономики (не знаю, храните ли Вы столь долго входящие письма) я предлагал “ЛГ”, призывающую к массовой индивидуальной трудовой деятельности после основной работы, опомниться, не забывать об исторической перспективе, мол, если Вы сориентируете всех на зарабатывание денег после работы, то каким человеческим материалом начнем культурно-моральное наступление после нынешнего отступления, призванного вывести нас из хозяйственной ямы. Я Вас уверял, что Вы впали в крайность с этим акцентом на индивидуальный экономический интерес, что крайность - не гармония, а значит, не перестройка. И я агитировал Вас стать в оппозицию к власти, конкурируя с нею: она призывает в свободное от основной работы время опять работать, а Вы, мол, призывайте читать и т. п.
За истекшие месяцы и Вы, и остальная наша печать убедили меня, что наш новый НЭП не маневр, что и “старый НЭП” по замыслу Ленина маневром не был, кратковременным маневром не был, что кратковременность его - дело сталинской воли, воли, как оказалось, ошибочной. В общем, убедили.
Но я все равно не согласен с тем обстоятельством, что Ваша газета выглядит утратившей коммунистическую перспективу. Впрочем, не одна Ваша. Но я пишу обычно только Вам. Так что принимайте на себя.
Пусть коммунизм - цель порядка пятисотлетней временно`й удаленности. Все равно приятней (кое-кому, во всяком случае) ее предвидеть и как-то с ней сообразовывать свою жизнь, чем фактически отрешиться от этого идеала. (Я имею в виду сообразовывание реальное, а не пустоформальное, в виде рецидивов или инерции доперестроечной липы.) И кому как не писателям, как не писательской газете, быть застрельщиком такого не исторического, а сверх-, так сказать, исторического оптимизма.
Вот есть такая концепция маньеризма как разочарования в возрожденческом гуманизме, выродившемся в буржуазный индивидуализм, исторически, впрочем, неизбежный в то время. И по этой концепции искусство маньеризма дало образцы высочайших духовных ценностей, не устаревших и сегодня. Так почему бы Вам не пропагандировать подобное сейчас. Зачем Вам-то быть мелкотравчатыми и только. Ведь писателя (а может, и его газету) не должны упрекать за невнимательность к синице в руках и прельщение журавлем в небе. Не должны. Потому что писатели (и их газета тоже!) имеют очень близкое отношение к идеалу.
И потом: такая ли это заоблачная мечта - целеустремленные (к коммунизму) социальные преобразования. Как бы ни хаяли социальную иллюзию 30-х годов о скором построении коммунизма, а энтузиазм миллионов был не мираж и кое-что дал-таки. Или был только миф - “высшее собственническое чувство” (порожденное общегосударственной собственностью)?
Я родился в 1938 году и непосредственно не знаю 30-х годов. Но неужели стахановского движения не было? А если было, то оно из мифа родилось? Из мифа о “высшем собственническом чувстве”? То есть как: чувства этого стахановцы не испытывали, но верили, что оно у кого-то есть, и ради наличия чувства в ком-то (не в себе, в вождях?) старались в поте лица. Так, что ли?
Я вспоминаю Ваську из одноименной повести Антонова. Да, можно думать, что она, как говорится, вкалывала машинально, потому что в кулацких, так сказать, генах ее заложено трудолюбие. Можно думать, что процесс работы сам по себе способен втягивать трудолюбивых в ударничество. Однако вспомните антоновскую анатомию ее души на всенародной встрече, устроенной в Москве челюскинцам. Чего ПОБЕДУ пережила в какой-то миг кулацкая дочь Васька? Не победу ли все того же “высшего собственнического чувства”? (Я вспоминаю слова Энгельса, что коммунизм освобождает всех людей, освобождает даже капиталистов.) И если Антонов этот миг высветил столь впечатляюще (по-моему, это у него образчик высочайшей прозы), повторяю, если Антонов дал это ТАК, то, может, это его идеал, идеал его - сегодняшнего, а заодно - идеал тогдашнего Мити и подспудный идеал Васьки. А может - и идеал всего поколения и, уж во всяком случае,- стахановцев. А - позвольте перефразировать - идеал, овладевший массами, становится реальной силой, не мифической.
Я, конечно, понимаю, что миф - это особая такая материя. Это когда к собственному вымыслу относятся как к действительно существующему явлению. И Антонова вполне можно использовать против меня же, заявив, что тут же, после апогея чувств, он дает Васькино разочарование и усталость, и присоединяется к нему сам, давая картину опустевшей улицы, усыпанной листовками. А нам, нынешним, ясно, что челюскинская победа не только близкого коммунизма предвестником не стала, а даже и социализма, раз - оказывается - социализм только сейчас, полвека спустя, только попробуют впервые по-настоящему (НЭП слишком скоро прекратили) построить.
И все же качества идеала ПОБЕДА у Антонова не утрачивает (и, замечу, кстати, энгельсовские слова - своей правоты тоже не утрачивают). А там, “куда нас зовут” (слова из заглавия моего предшествующего письма, взятые из “ЛГ”),- там - утрачивается такой идеал.
Я думал тут вставить цитату из Плеханова: “
Если Рескин говорил, что скряга не может петь о потерянных им деньгах...” и т. д. как аргумент, что там, “куда нас зовут”, идеал утрачивается. Но понял, что цитата работает против меня: “...то теперь наступило такое время, когда настроение буржуазии стало приближаться к настроению скряги, оплакивающего свои сокровища. Разница лишь та, что этот скряга оплакивает такую потерю, которая уже совершилась, а буржуазия теряет спокойствие духа от той потери, которая угрожает ей в будущем... Идеологи господствующего класса утрачивают свою внутреннюю цельность по мере того, как он созревает для погибели. Искусство, создаваемое его переживаниями падает”. А у нас будущая буржуазия - наживающиеся кооператоры - лишь набирает силу. И ее искусству предстоит раннее Возрождение: гуманизм вопреки духовности. Так что для кого идеал утрачивается там, “куда нас зовут”, для кого же - обретается как довольно близкий (правда, иной).(Четкости ради хочу отметить, что согласно концепции упомянутого ранее маньеризма, если идеал удаляется в сверхбудущее, то искусство, создаваемое такими переживаниями, не падает. Срабатывает оптимизм, хоть он тут и сверх-, так сказать, исторический.)
А у Сергея Антонова оптимизм, по-моему, даже и не сверх-, а просто исторический (только не тот, что рождается от ви`дения идеала, совсем уж приближенного к действительности, например, вроде социальной справедливости при плате по конечному результату труда). Антоновского Митю справедливой оплатой не осчастливишь. Ему - подавай целеустремленные социальные преобразования во имя торжества “высшего собственнического чувства”.
Если я Вам еще не надоел, проверим еще раз эту мысль повестью Антонова. (Я люблю анализировать произведения искусства, но мне не удается это делать в печати. Так разрешите воспользоваться случаем и сделать это перед работниками печати.)
В 30-е годы идеал олицетворялся в вождях. Антонов достаточно штрихов Первого Прораба набросал, чтоб мы воочию увидели мифический характер той веры. И Митя с явной натугой жертвует своими свиданиями с Татой не только призывам Первого Прораба, но и непосредственно Метрострою. И, собственно, не описаны высокие помыслы и чувства Мити, приведшие к героическому предотвращению аварии: его поступок на нерасчетливость можно списать, на бездумия, на безумство храбрых... И с отвращением он вспоминает тот день в день пуска метро. Все так. Но вспомните, как описано бушевание зала на торжественном собрании, посвященном открытию метро. КАК оно описано. И это ж не только - передача Митиного восприятия происходящего. Это еще и антоновская передача. А ведь это было торжество “высшего собственнического чувства”. Сорванный Митей голос - иронически символичен, но чувство-то к Сталину - тоже символично.
Сергей Антонов ввел характерный штрих: Ворошилов говорит аплодирующему Сталину: “Это они тебе аплодируют”. “А я аплодирую им”,- возразил Сталин.
За что аплодируют? За то самое “высшее собственническое чувство”, с помощью которого только и можно было в такой срок такое отгрохать.
И по контрасту вспомните попросту низкохудожественную вставку об антиинженерных методах строительства (длиннейший монолог инженера перед Митей) - там уже нет никакой символики, никакого переносного смысла.
Не-е-ет. Антонов в сцене в Колонном зале не только хладнокровный летописец мифа в его торжественном апогее.
Да что там говорить. Я, по самому себе, могу сказать, что самое хорошее в моей душе вскормлено этим “высшим собственническим чувством”. И эта часть моей души совсем не миф. И каким бы мучительно одиноким я ни чувствовал себя,- а я именно так себя чувствую,- но все же не может быть, чтоб я был исключением. Доказательство тому - Владимир Высоцкий (мой ровесник). Поэт не может выражать себя и только. Он выразитель какой-то массы, группы.
Вспомните - самый лучший для моей мысли пример - его “Случай на шахте”. Как он отделяет образ автора от рассказчика, высмеивающего стахановца-гагановца и оказавшегося заодно с... бывшим зеком. И я Вас уверяю, хорошо разобравшись, можно на любой песне Высоцкого доказать такую вот (по Левикову - мифическую) направленность его мировоззрения. Не предтеча он перестройки, освобождающей “
энергию экономических интересов” (Дзокаева). И кто знает, может, далеко не за миф дрался Высоцкий (очень подходит его хриплая ярость к этому “дрался”). Если бы партия все “бездарно упущенные годы” прилагала не на словах, а на деле старания по коммунистическому воспитанию масс и руководства, может, и не нужен был бы нынешний аврал.А то, что делает сейчас “ЛГ” - уж и вовсе некоммунистическое воспитание: зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать; да здравствует грядущая экономика полноценного рубля.
Кто ж бескорыстие пропагандировать будет? Вы бы Богата теперь к себе на страницы не пустили. Да?
Или,- скажете,- коммунистическое воспитание - не по ведомству отдела экономики.
Вы, конечно, можете мне ответить (хотя отвечать мне не надо, деятельность Ваша - ответ), что не газетное дело - заниматься будущим, тем более сверхбудущим. Я же возражу, что Вы оправдываете хвостизм, утрату перспективы. Настаиваю: в стране накоплен достаточно большой потенциал сознательности, “высшего собственнического чувства”, а Вы занимаетесь его замалчиванием, принижением и т. д. и т. п.
Взять популярные нынешние лозунги: человеческий фактор, развитие социальной сферы. Разве курс на постепенное, трижды постепенное превращение труда в первую потребность - не отвечает этим лозунгам?
Например, у нас в НИИ в отделе технической документации... Одна - только выдает чертежи, другая - только делает в них изменения, третья - только регистрирует эти изменения в журнале и т. д. Как эти женщины с ума не сходят от такой работы! А ведь чередование разного труда - одна из элементарных дорог к превращению его в первую потребность. Как-то, ожидая вышедшую куда-то выдавальщицу чертежей (а времени у меня не было, как всегда), я предложил женщинам чередоваться. Так какое возмущение я возбудил. А если бы эта мысль была популярным в газетах направлением...
Те женщины, впрочем, “ЛГ” не читают. Я взял первый попавшийся пример. Но этот подход применим где угодно. В бригадном подряде высвечивают только производительность. А можно ж - и нечто прокоммунистическое.
Почему совершенно не идет разговор о таком аспекте развития социальной сферы, как планомерное увеличение удельного веса творчества на данном рабочем месте? - А все из-за той же утраты перспективы. И наоборот: пора, наконец, ликвидировать как совершенно не соответствующую своему названию борьбу за звание ударника коммунистического труда.
Или вот еще аспект деятельности, предполагающий учет коммунистической перспективы.
Иные говорят, что там, “куда нас зовут”, уже находится Швеция. А Луначарский как-то выразился в том духе, что капиталистический коллектив от социалистического отличается тем, что в первом “
наиболее индивидуально талантливые, поднимающиеся из коллектива люди, отрываются от него, получая за свой талант неимоверно больше, чем не поднявшиеся”. Так вот, мол, в Швеции нет такой большой разницы в оплате труда, как в ФРГ, Франции, США и т. д. Там, мол, лишь одна крупная монополия (“Вольво”), а остальные - мелкие фирмы и демократические акционерные общества. Там, наконец, у власти - социалисты. Там - тот, мол, социализм, к которому мы теперь стремимся. (И достигнут бескровным путем.) Но на самом деле то, “куда нас зовут”, представляет собою попросту вид капитализма, каким бы обществом большей социальной справедливости этакое наше ближайшее будущее ни называли. Это, знаете, как в той старинной песне (слов, жаль, не помню): матушка, матушка, кто там в поле мчится. Матушка все успокаивает, уводит глаза дочки в сторону, а под конец благословляет на свадьбу с нелюбимым.Вот поборитесь-ка с таким умонастроением. Только аргументированно, а не так: сказали, что югославский путь не дал большого эффекта, зато, мол, не на этом пути было бы в Югославии еще хуже. И все. Во-первых, верьте, мол, на слово, что было бы хуже, во-вторых, заключайте, что, следовательно, это должен быть и наш путь.
Если уже есть отдел экономики в “ЛГ”, то его доказательства пусть вытекают из цифр. Иначе - болтовня.
А если уж перспектива неясна, то давайте, писательская газета, откровенную грусть по этому поводу. Не сахарные. Не растаем. Вот это будет настоящая гласность, честность в разговоре с народом.
Зачем я Вам пишу...
У меня есть микроиллюзия, что как-то, хоть чуть-чуть, я все же влияю на газету. Я, помню, предлагал композитора Вайнберга пригласить на 8-ю страницу, философа Ю. Давыдова... С интервалом в несколько лет - приглашали. Может, совпадение... А что, если нет?.. Вот А. Натева и Л. Выготского (я и в этом вот письме его приемами пользовался) возродили бы (смотрите, если это мыслимо, мое возражение Вам и Г. Бакланову по поводу его открытого письма Л. Аннинскому... Говорят, Выготского как искусствоведа уже возрождают, так что “ЛГ” не окажется белой вороной...). Да еще б концепции повторяемости больших стилей - типа раннего Возрождения, Высокого Возрождения, Позднего Возрождения, Маньеризма, барокко - дали б широкую огласку (Аникст бы мог сделать, только пусть не боится и признает, что “Гамлет” - произведение маньериста). Ну, и Высоцкому б нашли в этой схеме место подобающее... Прислушались бы ко мне - я б знал, что не зря жил.
Извините. Но у меня нет другой возможности самовыражаться - меня не печатают. Вот и хочется заразить собою того, кто в силе.
Каунас. 1987 год
Беседа с Сократами
Теория - это здание, построенное на правдоподобных предположениях, которые предстоит проверить. Казалось бы, здание строится на шатких основаниях, но слабые звенья постоянно заменяются более надежными, и оно делается все прочнее.
Мигдал
Видали ль вы, чтоб в театре действующее лицо вело себя, как в пантомиме, а слова за него говорил бы чтец, присутствующий на сцене и даже ремарки читающий? Или чтоб четырех человек играло двое актеров? Это так. Когда говорит первый персонаж пьесы, играющий его актер произносит слова стоя; когда по ходу действия заговаривает второй персонаж, этого второго играет тот же, первый, актер. Но слова произносит уже полуприсев. И первый и второй персонаж - в лице одного актера - обращаясь “друг к другу”, смотрят на второго актера. То есть один из актеров, а именно, в данную секунду молчащий, играет, таким образом, сразу трех в данную секунду молчащих персонажей. Когда третий и четвертый персонажи начинают беседовать друг с другом, настает черед приседать и привставать,- все разговаривая,- второму актеру. Потом чередования усложняются... Или случалось вам видеть, чтоб роль одного персонажа в течение спектакля без перегримировки играло несколько человек, исполняющих и другие роли в этом же представлении? Или чтоб мужчину играла почти обнаженная женщина?..
Это я рассказываю о “Борисе Годунове” московского “Театра на досках”. Осенью 1987 года во время всесоюзного фестиваля “Молодой театр” в Каунасе до конца этого четырехчасового спектакля высидело лишь пятьдесят человек из пришедших пятисот.
Провинциализм города сказался?
Валерий Брюсов, 1903 год:
Всякое новое техническое ухищрение в искусстве, все равно в театральном или другом, только возбуждает любопытство и заставляет быть особенно подозрительным.
Не удивительно, что и местная, и центральная пресса дала отрицательную характеристику “Театру на досках”, и Сергей Кургинян, режиссер этого коллектива, жаловался на непонимание.
Валерий Брюсов, 1903 год:
Впоследствии зрители привыкнут к тем ухищрениям, которые теперь считаются новинкой, и не будут их замечать.
В фойе дома культуры, где давали “Бориса”, были выставлены плакаты, из которых явствовало, что “Театр на досках” демонстрирует так называемый “условный театр”, бывший в расцвете лет двадцать назад на Западе и, может (добавлю от себя), в театре на Таганке в СССР, а после этого переживающий спад. Так что о привыкании зрителей к ухищрениям формальным (Брюсов писал, впрочем, о технических, но, я думаю, суть не меняется), о привыкании зрителей, да и критиков, к московским студийцам остается пока лишь мечтать, хоть Кургинян и сказал, что студия самоокупается и дает государству тысячи дохода.
Валерий Брюсов, 1903 год:
Есть два рода условностей. Один из них происходит от неумения создать подлинно то, чего хочешь...
Критики, участники фестиваля и просто зрители, видно, так и оценили “условный театр” Кургиняна.
Валерий Брюсов, 1903 год:
...но есть условность иного рода - сознательная. Условно, что мраморные и бронзовые статуи бескрасочны... никто из зрителей, сидящих в партере и заплативших за свои места 3-4 рубля, не поверит, что перед ними действительно Гамлет, принц датский, и что в последней сцене он лежит мертв...
Театру пора перестать подделывать действительность.
Что если эти выкрутасы Сергея Кургиняна что-то означают? Как означают, впрочем, и противоположные тенденции...
Валерий Брюсов, 1903 год:
Современные театры стремятся к наиболее правдивому воспроизведению жизни. Им кажется, что они достойно выполняют свое назначение, если у них не сцене будет все, как в действительности. Актеры стараются говорить, как в гостиных, декораторы срисовывают виды с натуры... актеры стали свободно садиться спиной к зрителям, стали разговаривать между собой, а не в “публику”... Если по пьесе должен идти дождь, зрителям дают слышать шум воды. Если по пьесе зима, сквозь окна декорации видно, как идет снег. Если - ветер, оконные занавески колыхаются.
Это - о Художественном театре, взошедшем с чеховской “Чайкой”. А Чехов...
Г. А. Бялый:
Чехов открыл метод как бы предсоциалистического реализма, такую степень реализма, что любое изображение жизни, какой она не должна быть, приводило к ощущению необходимости и неизбежности коренных перемен в жизни. У Чехова норма возможной, близкой по предчувствию жизни конструируется от обратного, от буден и пессимизма...
А близился 1905 год... А реализм - демократичен...
В том реализме новорожденного Художественного театра что-то было. Значительное. Многозначительное. Зря Брюсов так уж нападал на Станиславского.
Валерий Брюсов, 1903 год:
Художественный театр не осмелился осветить сцену одной лампой. Когда по пьесе - ночь, Художественный театр отважился оставить сцену в большем мраке, чем то делают обычно, но не посмел погасить в театре все огни: а будь на сцене действительная ночь, зрители со своих мест, конечно, не увидели бы на ней ничего. Точно так же заботится Художественный театр, чтобы в зрительном зале были слышны все разговоры, ведущиеся на сцене. Если даже изображается большое общество, все же говорит только один актер. Когда заговаривает новая группа, прежняя “отходит в глубину сцены” и начинает усиленно жестикулировать. И это четверть века спустя, как Вилье де Лиль Адан в своей драме “Новый свет” отчеркнул скобкой две страницы и отметил: “все говорят сразу”!
В 1903 году Брюсов был разочарованный человек, символист. Ему должны были претить художники, предчувствующие возможность близкой иной жизни, раз так плоха жизнь существующая. Должны были претить, хоть перемены, как показала история, были действительно близки.
В этом Сергей Кургинян, по-моему, похож на Брюсова. Он тоже - разочарованный. Правда, на свой лад: разочарован как человек слабый, к каковым Брюсова я не отношу. Наше, провозглашаемое, а может, и в самом деле грядущее возрождение в виде общества цивилизованных кооператоров не кажется Кургиняну возрождением. Если его слова, что в Москве кооперативы ничего не дали: в них все то же, но дороже - если эти слова и нельзя толковать расширительно; если лихорадочное его настроение успеть-успеть поскорее высказаться своим театром, пока не заткнули рот,- и нельзя счесть непобежденным скептицизмом и пессимизмом, то чем же являются его новации в “Борисе Годунове”? - Руладами и вывертами, как сказал бы такой же недоверчивый к прогрессирующей действительности Ф. М. Достоевский.
Достоевский, 1863 год,
|
от имени героя “Записок из подполья”, через 2 года после отмены крепостного права, т. е. в период революционного подъема в России (только под “зубной болью” понимайте, пожалуйста, боль социальную): |
...и в зубной боли есть наслаждение,- отвечу я... Тут... стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего... прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть просто... Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. Дескать... “скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...” Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб понять все изгибы этого сладострастия!
Недоразвитые зрители “Бориса Годунова” не понимали такого сладострастия и уходили со спектакля.
Мне тоже было нестерпимо скучно с непривычки. Но я досидел и дождался... мороза по спине: до чего же тяжка доля многострадальной России и нынче, и присно, и во веки веков! Это - когда над залом разнеслись чужие, нечеловеческие (трансляция через громкоговоритель) выкрики по-немецки неславянских наймитов Отрепьева.
Наум Чечельницкий,
|
мой всегдашний оппонент, 1981 год (по поводу массовых забастовок и кризиса в социалистической Польше): |
А представляешь, что тут будет, у нас, когда сюда дойдет? Ведь там, в глубинке, мяса нет. Русский народ не поляки: не раскачаешь, но если уж стронешь - гражданская война будет. И не отсидишься, не переждешь. Прийдется выбирать, с кем быть. А это - хуже нет.
Помните ли вы “Бориса Годунова”? О, я понимаю, что все забывается, остается лишь какое-то общее впечатление, нечто неясное... Но все же: не призна`ете ли вы, например, что вторжение Лжедимитрия в Россию какое-то бессюжетное у Пушкина. Если всем хорошо помнится, что была такая Марина Мнишек, польская панна, что она поддразнивала Гришку Отрепьева, и из-за нее, хоть немного, но из-за нее, он пошел на Москву, то как он шел - словно в тумане.
И мне мерещится теперь, что когда я читал - еще в школе, наверно,- это место, мне было неинтересно. Хаос - он хаос и есть. Какой в нем интерес?
Уверен, что перечитай я, взрослый, эту трагедию, передо мной на первый план выступила б не смута на Руси - явление временное, все же,- а нечто постоянное. Я был под влиянием...
Г. А. Гуковский, 1966 год:
Если бы пушкинский Борис был слаб, глуп, бездарен, лично по своему человеческому характеру плох и по своим взглядам тупо реакционен, тогда ненависть народа к царю могла бы быть объяснена именно тем, что этот царь - плохой царь. И общего вывода о самодержавии не получилось бы. Пушкину же нужен наилучший из возможных царей для полной убедительности его мысли о том, что народ не терпит царя уже потому, что он царь, что народ враждебен царской власти, органически чужд ей.
Это, конечно, есть в трагедии. Пушкин писал ее в ссылке, в Михайловском, в год, предшествовавший выступлению декабристов.
Даже через год после декабрьского восстания друзей Пушкина волновало уже другое.
Погодин, свидетель чтения
“Бориса Годунова” в 1826 году:
А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков “да ниспошлет Господь покой его душе страдающей и бурной”, мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний...
Ясное дело. В безвременье николаевской реакции лучшие люди спасали душу бегством от действительности.
Пимен:
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жил и многим насладился;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь Господь меня привел.
Подумай, сын, ты о царях великих:
Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился:
Они его меняли на клобук.
Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов...
Уж если цари бежали от действительности, то сломленным тираноборцам сам Бог велел.
Но в наше неспокойное время так называемой перестройки вперед выходит другой акцент трагедии: смута.
Как этому аспекту помог Сергей Кургинян? Во-первых, полнотой произнесенного со сцены. Он рассказывал, говоря о чьей-то постановке “Бориса”, как он был поражен: две трети пушкинского текста там было выброшено. И памятная большинству из нас больше как опера, трагедия выступила в варианте Кургиняна как бы новой стороной: какой кошмар, когда теряет общество руководящую идею, идею, пусть даже с подмоченной репутацией, но привычную.
Без верности царю в начале XVII века - это как кое-кому без веры в коммунизм в конце века ХХ.
А во-вторых, Кургинян (как когда-то Любимов в “Гамлете”) своими крайними условностями полностью расшатал исторический колорит пьесы и создал предпосылки ассоциациям с нынешней действительностью.
Однако... Кто слышал о заигрывании режиссера “Театра на досках” с антисоветски настроенным американским философом Фроммом, тот вряд ли согласится, что Кургинян рассчитывал на ассоциацию такую: народная трагедия от подмоченной репутации царя - народная трагедия от подмоченной репутации социализма.
Но правы ли скептики?
Эрих Фромм:
Современное капиталистическое общество враждебно человеку, это глубоко и последовательно раскрыл Маркс. Однако от него ускользнуло весьма существенное: индивид “задавлен” не только типом собственности, отчуждающим рабочих от средств производства, ему противостоят и другие структуры общества - техника и бюрократия, воплощающие в себе антигуманизм. От болезни отчуждения страдают все. В этом смысле буржуазное и реально существующее социалистическое общество равны. Во всех европейско-американских индустриальных странах, безотносительно к их политической структуре, где все будут прилично одетыми и сытыми, где будут созданы машины, действующие, как люди, и люди, действующие, как машины, возникает страшная картина всеобщей отчужденности - “все будут счастливы”, но только без чувства, без разума и без любви.
Иными словами, техника и бюрократия, антигуманизм (у нас это ярко проявилось в сталинизме) подмочили репутацию движения к будущему, к коммунизму. А счастье,- словами Пушкина и Чехова,- было так близко, так возможно, если б (добавлю от себя) был взят верный курс...
Эрих Фромм:
Идеи социализма - наиболее значительная попытка найти ответ на все несчастья капитализма. Однако существующее толкование будущего общества - это извращение подлинно социалистических идей. Успешное строительство социализма возможно лишь в том случае, если в центр внимания будет поставлен человек, а в человеке - его бессознательное, этот резервуар потенциальных способностей, его добрых и светлых побуждений.
Так что антимарксизм Фромма - из лучших, социалистических побуждений. Тем более, что...
Юнг:
Бессознательное содержит не только проявления индивидуальной духовности; в его содержании можно обнаружить нечто коллективное, общее...
Зацепимся за это. Ведь и у Кургиняна, похоже, идея фикс - коллективное, общее.
Взять его труппу. Это ж полный отказ от индивидуальности актера. Например, когда несколько человек по очереди играют роль одного персонажа: боярина Пушкина - то мужчина, то женщина.
Может, зря театральная критика пыталась внести раскол в эту студию, называя отдельные имена, якобы талантливых, и сожалея, что вера в лидера, в Кургиняна, не дала им возможность самореализоваться. Может, это настолько новый тип театра, что не только нам, непосвященным, но и людям, готовым принять “условный театр”, он все же не свой.
Валерий Брюсов:
Художественное, эстетическое наслаждение в театре получаем мы от исполнителей, а не от пьесы. Автор - слуга актеров. Если бы было иначе, театр потерял бы свое право существовать. Он стал бы подспорьем для воображения, помогающим ясно представить, что написал автор. Людям с сильным воображением незачем было бы ходить в театр: они могли довольствоваться чтением драм. Театр сделался бы богадельней для людей со слабой фантазией или иллюстрациями к тексту. Кто хочет узнать Шекспира, должен читать его: в театре он узнает актеров. Кто хочет наслаждаться Бетховеном, должен уметь сам исполнять его... каждый артист должен, если только он истинный художник, создавать новый и новый образ Отелло.
А я вот могу представить прелесть самоуничтожения себя, как индивидуальности, ради общей цели. Режиссер, например, чтоб уничтожиться ради донесения некой пьесы до зрителя, слушателя должен, по-видимому, просто прочитать ее вслух со сцены. В “Борисе Годунове” в чем-то почти так и сделал Кургинян: ввел специальную роль - чтеца. Индивидуальность режиссера пусть проявится только в выборе пьесы, а может, только в рекомендации ее коллективу чтецов. Индивидуальность каждого актера - в максимально четком донесении до зрителя и слушателя воли автора, с которой актер солидарен. То есть воля актера была - согласиться это читать. В общем, все сообща нечто, согласившись, задумывают и, используя нашу привычку иногда коллективно, в зале, потреблять искусство, задуманное реализуют. Вот Кургинян сказал, что их (его) мечта поставить без
никаких изъятий стенограмму второго съезда РСДРП (где раскололась партия на большевиков и меньшевиков). Ну кто из нас стал бы доставать и читать эту стенограмму, кто из нас приобщится к этим материалам, если не возьмется за дело “Театр на досках”?Пусть это богадельня - и за нее спасибо: там, видно, что-то очень поучительное узнаем и почувствуем.
А ходить несколько раз на все разных Отелло - это уж в гораздо большей степени “не для всех”, чем сходить на “Второй съезд РСДРП” или “Бориса Годунова”.
Валерий Брюсов:
Изучая пьесу, как слушатель, как читатель, артист наслаждается своей близостью к автору. Исполняя ту же пьесу на сцене, артист творит. Каждое художественное произведение допускает бесконечное число пониманий, притом истинных, не противоречащих замыслу автора, хотя часто им самим не подозреваемых. Каждый из читателей поймет по-иному, по-своему, одно и то же стихотворение. Исполняя пьесу на сцене, артист воплощает именно то, что есть у него СВОЕГО в ее понимании. Только это одно и ценно.
Это - в эпоху индивидуализма. А ведь эпохи разные бывают. Крепостничество - эпоха неиндивидуалистическая. Тогда были, например, так называемые роговые оркестры. Каждый из его участников играл на особом (у каждого - иной) медном духовом инструменте, роге, из которого извлекался только один звук. Благодаря ровной, вытянутой форме и отсутствию вентилей рога отличались своеобразной красотой звучания, но для каждого оркестранта игра в оркестре была занятием исключительно трудным и мучительным, так как требовала автоматической точности включения в ансамбль и выключения из него. Лишь крепостных можно было заставить играть в таких оркестрах?
А в нашей современности, в Корейской народно-демократической республике?.. Там чрезвычайно широко распространены представления вроде тех, что иногда только показывают у нас в Лужниках - во время Олимпиады, фестиваля молодежи. Каково участникам какой-нибудь эволюционирующей пирамиды на поле стадиона или “участникам” картины, какую они собой изображают, двигаться и замирать по команде?
Может, и в труппе Кургиняна артисту мучительно играть роль кусочка в той мозаике, которую задумал представить публике режиссер? Спросить бы у тех, например, троих из народа, которые мычали и извивались, а текст за них произносил чтец...
Впрочем, не устранять же само понятие “эпизодическая роль”... И потом, если б винтики в живой машине были б живыми, может, они б могли воодушевиться своей ограниченной функцией, создающей многокрасочное функционирование всей машины?
Эрих Фромм:
Если прежде и нынче человек находил объект для поклонения во всемогущем отце, боге или лидере, то в будущем он сможет ощущать себя слитым со всем человечеством.
Наверно, кому-нибудь представится, что доведен до абсурда или просто извращен фроммовский упор на “человеческий фактор” в построении истинного социализма. Однако Фромм всегда и всюду хлопочет не об индивиде (атоме капитализма), а даже о более чем простом обобщении - об архетипе.
Эрих Фромм:
Любовь: материнская, отцовская, любовь к родителям, братская, эротическая, любовь к богу - лишь формы универсального начала мироздания в применении к человеку, к его потребности соединения с кем-то. Каждое из этих чувств уникально, своеобразно, но обусловлено оно противоборством женского полюса, характеризуемого свойствами плодородной восприимчивости, защиты, реализма, терпения и материнства, и мужского начала, наделенного качествами вмешательства, активности, дисциплины и авантюризма. Такая же полярность мужского и женского начал существует и в природе, и не только у животных и растений, что самоочевидно, но и в полярности функций приятия и проникновения. Это полярность земли и дождя, реки и океана, ночи и дня, тьмы и света, материи и духа.
Все выше, все обще`е. И этому уму не интересна любовь как отношение к конкретному лицу. Вот так и Кургиняну (я думаю): в “Борисе Годунове” интересна трагедия народа, лишившегося идеала, а не все иные трагедии. Поэтому - и чехарда с исполнителями, и народ мычит, мучается, извивается, а за него говорят: чтец, организующие его бояре,- а он не знает, кого слушать - безмолвствует.
Пусть не сбивают восторги Кургиняна по поводу совпадения лозунга дня об упоре на человеческий фактор с идеей-фикс его идейного отца, Фромма, преодолеть недостатки марксизма на основе раскрытия человеческих потенций. Смею думать, что и Фромм, и его поклонник Кургинян где-то чувствуют (чувствовали) зыбкость, беспочвенность своих утопий. Мировой капитализм не думает хиреть. Даже в программе КПСС теперь записано, что не исключена возможность социального реванша капитализма. А сама так называемая наша перестройка есть ориентация, похоже, больше на личный интерес, чем на общий. Она есть в какой-то мере (пусть с камуфлирующими оговорками, мол, да будет больше социализма), она есть узаконивание индивидуалистических тенденций “беззаконно” буйно росших в течение десятилетий в нашей стране. Постановка народной трагедии “Борис Годунов” родилась в студии, видно, еще до перестройки и под влиянием (то есть - против) именно таких тенденций: индивидуалистических. И, может, бессознательно (что у Кургиняна в чести) правильно, что этот режиссер показал ее и в перестроечное время, не сдал в архив.
Юродивый
(садится на землю и поет):
Месяц светит,
Котенок плачет...
Плачет Кургинян “Борисом Годуновым”, черным бархатом на сцене от потолка до пола и на полу, черными одинаковыми хитонами на артистах, плачет музыкальным оформлением спектакля, где использованы фрагменты русского плача (чего нет в ремарках Пушкина), плачет Кургинян, ибо он, к концу ХХ века, безнадежно разочарован в судьбе высокой идеи общественной и человеческой гармонии, плачет с руладами и вывертами, потому что ему необходимо какое-то удовлетворение, хоть в руладах, а обмануться он не может, плачет с вывертами и руладами - потому что он слабый человек, а отступиться и сдаться не может, как бы ни сильны были обстоятельства, что против него.
Ф. М. Достоевский, от имени
героя “Записок из подполья”:
Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.
Как будто каменная стена и вправду есть успокоение... единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться... и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами
сладострастно замереть в инерции...Персонаж этой повести вот уж второй раз ассоциируется тут со слабостью Кургиняна как человека. А слабость заставляет художника свое крайнее разочарование выражать с помощью крайних же ухищрений, на какие не идет другой крайне разочарованный, если он по натуре силен, как Достоевский, например.
У Кургиняна в другом спектакле, что был дан на фестивале, в “Я” (по “Запискам из подполья”, кстати) одного персонажа играют семь (!) человек. Режиссер говорит, что это максимум, какой может быть у сложной человеческой личности; мол, наука, психология, это число выводит. Ладно. Пусть. Это можно понять в принципе, можно поверить. Но если это даже так - ведь Достоевский-то выбрал форму повести, а не драмы с действующими лицами: я-первое, я-второе и так далее. А Кургинян выбрал форму пьесы. Он пошел на шокирование зрителя, потому что ему, крайне разочарованному и слабому, нужен акцент на рассемерении личности, сочувственный авторский акцент.
Ф. М. Достоевский, от имени
героя “Записок из подполья”:
Во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний - и заключается сок того странного
наслаждения, о котором я говорил.Слабому - нужно немедленное наслаждение в отчаянии. И Кургинян и Достоевский изображают слабого и наслаждающегося (своей слабостью) человека. Но Достоевский - образом автора - не сливается с образом персонажа. Писатель, может, чтоб его с персонажем не спутали нечуткие читатели, дал аж примечание к заголовку: “И автор записок и самые “Записки”, разумеется, вымышлены...” и т. д. А между “голосом” режиссера спектакля “Я” и голосом персонажа дистанция не чувствуется. Семью актерами, играющими одного человека, режиссер больше выражает себя, свое странное наслаждение руладами и вывертами стона перед стеной, чем изображает рассемерение.
Он мог бы, как в “Борисе”, посадить на сцену чтеца и прочесть нам “Записки из подполья”. Но нет. Здесь он решил вмешаться иначе. Здесь ему нужен нигилистический пафос персонажа повести, нужен такой потенциал отрицания, который равен неколебимости мерзкого мира, нужен уход в “подполье”.
Достоевский, от имени...
Умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться.
Однако, ведь даже такую крайность можно выразить не крайним способом.
|
Пришвин, писатель - сам достаточно далеко убежавший от действительности, причем даже тогда, когда она менялась на глазах, и был большой соблазн вмешаться; 1921 год: |
Обломов. В этом романе внутренне прославляется русская лень. Никакая “положительная” деятельность в России не может выдержать критики Обломова, его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя.
Пришвин, Гончаров... Кургинян их единомышленник, по сути. Но те не пошли на такие ухищрения, какие позволил себе Кургинян.
Недошивин, 1964 год:
С середины XIX века противоречия в Европе достигли такой невиданной ранее остроты, что рассказ о неуравновешенном и негармоничном потребовал неуравновешенного и негармоничного языка. Родилась в широком смысле слова экспрессионистская тенденция в искусстве. Художники стали применять крайние средства для привлечения внимания к своему произведению. Отступление от ранее принятого, нарушение обычного и привычного - стало едва ли не главным среди приемов интенсификации художественного выражения. Искусство постепенно начало обретать способность отразить самую революционную эпоху человечества - крушение эксплуататорской эры и становление бесклассового общества.
Богатая традиция. Она даже еще богаче.
Луначарский, 1928 год:
В общей смене социальных укладов каждый класс может занимать четыре позиции.
Во-первых, он может быть господствующим классом, полным силы, веры в себя, имеющим перед собою широкие перспективы и выражающим в этом случае, хотя бы в форме хозяйственно-эксплуататорской, интересы всего общества по принципу “все действительное - разумно”...
Во-вторых, класс может находиться в состоянии упадка...
В-третьих... в состоянии повышения...
В-четвертых, класс может находиться в состоянии полной подавленности...
Под классикой я разумею такие идеологические формы, прежде всего художественные (так как в искусстве это выражается особенно ярко), в которых форма охватывает содержание, то есть мастерство овладело всеми проблемами, которые художник может себе поставить...
Под романтикой я разумею такие культурные, в особенности художественные формы, в которых форма не охватывает содержания... Словом, общее определение романтики заключается для меня в разрыве между художественной формой... и материалом общественно-психологическим...
Вот почему классическое искусство развертывается исключительно классами господствующими или идеологами таких классов в эпоху их расцвета. Все остальные позиции более или менее заражены романтикой...
Классы неподвижные или малоподвижные, но находящиеся внизу общественной лестницы, теснимые всякими жизненными горестями и в то же время лишенные надежд на реальное улучшение своего положения, также ударяются в мистицизм и в религиозную мечту. Это часто бывает свойственно зародышевым идеологиям и художественным проявлениям... искусства угнетенных масс...
Куда уж для Кургиняна лучшие оправдания перед ругавшей его прессой. И все-таки. Даже сам Достоевский, без сомнения, принадлежащий к экспрессионистской тенденции, все-таки не брал совсем уж крайние средства. Это потому, что художники еще отличаются друг от друга силой характера. И выражается это (для тех, совсем задавленных) наличием веры в... нигилизме.
Достоевский - брату о
“Записках из подполья”:
Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и когда богохульствовал
для виду - то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа - то запрещено.Салтыков-Щедрин о
Достоевском в “Записках из подполья”:
Свои доказательства он почерпает из Фомы Аквинского...
Фома Аквинский:
Гармония - божественна. Она противница крайностей рационализма и иррационализма.
Спектакль “Я” Кургиняна - совсем не то, что его четырехчасовый “Борис Годунов” - это сильнейшим образом урезанные “Записки из подполья”. И в этом урезании проявилась вся слабость характера Кургиняна по сравнению с силой характера Достоевского.
“Записки из подполья” состоят из двух частей: “Подполье” и “По поводу мокрого снега”. Вторая часть имеет довольно запоминающийся сюжет: вышедший в один из разов из “подполья” герой оказывается в неприятнейшей ситуации на проводах бывшего соученика; от оскорбления и бессилия, потеряв себя, он отправляется за издевавшимися над ним товарищами в публичный дом (он, впрочем, не впервые в таких заведениях); там он выместил злость на доставшейся ему проститутке, сумев довести до ее совести всю унизительность и пагубность ее положения; растрогался сам, когда довел ее, дал ей свой адрес; а когда она к нему пришла, за спасением, чтоб любить его, чтоб он выкупил ее из публичного дома, он, предчувствуя, что не оправдает ее надежд, с досады на себя ее оскорбил; она же (а она уж его любила - с того, прошлого, вечера), она поняла и, отчасти, верно, что это оскорбление - от несчастности героя, простила его, от чего у него сделалась истерика, но лишь минуты души их были вместе, в несчастности обоюдной; он тут же и устыдился, мол, оказался униженным и раздавленным, когда она - героиня; и позавидовал; и захотел тиранства и ее унижения; и овладел ею, да как-то так, что оскорбил ее окончательно; и она догадалась, что порыв его страсти был мщением, новым ей унижением, и она опустилась,- где он, наверно, ее оставил,- на пол перед диваном и тихо заплакала; а в довершение он еще и деньги вложил ей в руку; она в отчаянии, оставив деньги, убежала из квартиры; а он еще раз - и с особенной ясностью - понял, какое он ничтожество; читатель же должен был вывести для себя глубоко упрятанную мысль самого Достоевского (не героя повести), что без Иисуса Христа в душе, без перенимания Христова всепрощения, без веры - БЕЗ ВЕРЫ - перестройка к лучшему в человеке и обществе не возможна.
Вот эта-то вера в религиозные принципы, как бы ни отдаленно было их торжество, это и есть характеристика силы Достоевского. И вот вторую часть “Записок”, где сила Достоевского выявилась, Кургинян и не поставил на сцене. Веру. И это очень многозначительно.
Горький, 1936 год:
Европейское декадентство конца XIX - начала ХХ века подхватило идеи “подпольного парадоксалиста”.
Но какой бы негативно-оценочной ни выглядела тут у меня слабость Кургиняна, я лично ему благодарен, ибо без его (по Брюсову) богадельни я б не узнал, может, “Записок из подполья”, не прочитал бы их и не нашел разрешения, в чем выражается слабость духа тех нынешних и недавних протестантов, произведения которых мне органически чем-то не нравятся. А теперь знаю: они мне не нравятся сладострастием противных вывертов и рулад протестующего стона против неколебимой действительности.
Декадентство было и в давние столетия, и сейчас есть. Только не путайте, пожалуйста, низкое качество, низкую художественность с эстетическим проявлением слабодушия в разочаровании.
И пусть не собьет вас героическое противостояние иного декадента против неколебимых законов природы и арифметики, или радостная солидарность с ними, или и то и другое вместе.
“Аквариум”, вокально-инструментальный ансамбль, 1984 год:
Иван Бодхидхарма движется с юга
На крыльях весны.
Он пьет из реки,
В которой был лед.
Он держит в руках географию всех наших комнат,
Квартир и страстей -
И белый тигр молчит,
И синий дракон поет.
Припев: Он вылечит тех, кто слышит,
И, может быть, тех, кто умен.
И он расскажет
Тем, кто хочет все знать,
Историю светлых времен.
Движется мимо строений, в которых
Стремятся избегнуть судьбы,
Он, легче, чем дым,
Сквозь пластмассу и жесть.
Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья
Там, где мы склонны видеть столбы.
Если стало светлей,
То, видимо, он уже здесь.
Припев:
Когда сидишь на концерте не в центре маленького зала каунасской филармонии, звучание оркестра искажается: больше слышна та группа инструментов, что ближе к тебе. Потому, очевидно, ударные всегда и в любом зале, на любой сцене упрятывают позади всех. Выпячивание ударных особенно пагубно. Но, наверно, не для “Аквариума” в “Иване Бодхидхарме”.
Если б Борис Гребенщиков, лидер “Аквариума” и кассетной культуры, был сознающей себя мухой, то,- думаю я, слушая назойливо подчеркнутое бубнение ударных звуков в этом, вроде бы, оптимистичном марше,- эта муха чувствовала бы то, уже мне известное (благодаря Кургиняну), сладострастие: от бесполезных и упорных ударов мушиной головой об стекло закрытого окна.
А когда слышишь, как певец перестает петь и потерянным тоном говорит каждый раз в припеве “историю светлых времен”, то, наверно, будь он мухой, это соответствовало б минутам, когда она перестает биться головой об стекло и догадывается, что, кажется, все - зря, что не только для нее, но и никогда не наступит история светлых времен.
Конечно, эти находки в форме до особых рулад и вывертов не дотягивают. Но направление поисков - то. И есть надежда.
Андрей Вознесенский, 1987 год:
Гребенщикова отличает тонкий профессионализм, артистизм, истинное знание классики. Даже Сергей Курехин, что куролесит у него на рояле, идет от классики. Люди, не знающие аудитории “Аквариума”, представляют ее сборищем нравственных уродов и истеричек. Между тем это серьезные знатоки.
А знатоки...
Луначарский:
Неприятное становится приятным, когда мы к нему привыкаем.
Но правда и то, что знатоки (и слушатели и исполнители) необходимы. Чтоб оценить, а главное, выдать руладу и выверт, нужно знать, как именно стонали предшественники.
Кургинян тоже сказал, что в его труппе все артисты, и он сам, имеют высшее театральное образование.
------
Непривычное, в первую очередь неприятно-новое, как элемент авторского наслаждения, в частности, наслаждения удачей в идеологическом заражении бунтом против неколебимой и мерзкой действительности, бунтом слабых,- вот теоретический нюанс, которому когда-нибудь отдаст справедливость народ. Мой опус - пусть будет песчинкой “за” на чашу весов этой справедливости.
Каунас. Сентябрь - декабрь 1987 г.
Содержание
Предисловие 3
Прав по большому счету 5
Грани крайнего разочарования 13
Так куда же нас зовут? 27
Беседа с Сократами 36
ББК 85
В 68
УДК 7.03
Воложин С. И.
К сверхбудущему! - Одесса: ООО Студия “Негоциант”, 2000, - 52 с.
В книге дан так называемый синтезирующий анализ нескольких произведений разных искусств. Иными словами: открытие в элементах художественного смысла целого произведения.
Предназначено для широкого круга читателей.
ISBN 996-7423-44-1
| В 4901000000 | ББК 85 |
| 2000 | УДК 7.03 |
| ISBN 996-7423-44-1 | O Воложин С. И., 2000 |
| O Студия “Негоциант”, 2000 |
Соломон Исаакович Воложин
К СВЕРХБУДУЩЕМУ!
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
Н/К
Сдано в набор 09.01.2000 г. Подписано к печати 25.02.2000 г.,
формат 148х210. Бумага офсетная. Тираж 30 экз.
Издательский центр ООО “Студия “Негоциант”
270014, Украина, г. Одесса-14, а/я 90
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |