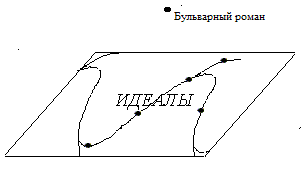
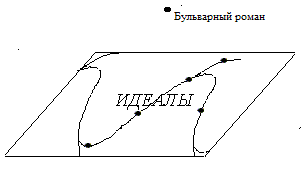
С. Воложин
Кабаков. Бульварный роман
Художественный смысл
|
Может, разбуженная наша досада на их срыв голоса и есть та надежда, которая не даст всем нам погибнуть в этом кошмаре, в сущности, комфорта, к которому мы так стремимся или уже достигли. |
Пшик
Берусь объяснить, зачем в нефантастической вообще-то повести автор берёт и городит вот такое:
“А там, где он укладывал асфальт, уже шум и суета. Все его товарищи по работе стоят кружком и смотрят, и бригадир стоит, и каток, хоть пыхтит, но тоже стоит, потому что водитель стоит. И ещё прохожие некоторые останавливаются.
И все они смотрят на то, что случилось там, где Игнатьев асфальт вчера укладывал. А на том месте вот что произошло: дерево выросло. Липа. Асфальт весь, свежий ещё, тёмный, трещинами пошёл и лопнул, а из образовавшегося некрасивого отверстия и выросла липа. Сразу метра два с половиной и цветёт. Запах от её цветения такой сильный, что никакого асфальтового духу и в помине нет….
…Все, конечно, долго обсуждали удивительный случай. Потому что грибы, бывает, за одну ночь ломают асфальт и прорастают. Бывает, ещё и трава – но только, когда асфальт уже старый. А чтобы сквозь свежеуложенный, да ещё целое дерево, да сразу такое большое и в цвету – этого никто понять не мог, и даже водитель катка, фамилию которого Игнатьев не знал, его все Поней называли, не мог ничего предположить, хотя мужик был самый эрудированный”.
Думаете, писательской шуткой объясню? Чтиво, мол, для убивания времени сочинено: “Поня”…
Есть, конечно, авторская улыбка. Но больше тут нахождения автора в зоне сознания героя. Это не чтиво. А – с глубиной.
И ещё подобное вставлено – про назавтра:
“А там опять волнение и недоумение общее. Асфальт, конечно, сломан, трещины по всей дороге разбежались, а из асфальта растёт куст таких ягод, которые называются паслён…
…Ну, утром – вы уже догадались – там анютины глазки взошли…
…Назавтра сквозь асфальт кипарис пророс”.
И, вроде, как в результате вины за это всё Игнатьева, его переводят.
“Стоит себе, тёмный [кипарис], будто пыльный, высоченный. Как ракета тёмно-зелёная. До самого вечера с ним возни было, а Игнатьева в вагончик мастер зазвал и дал ему в приказе расписаться. Расписался Игнатьев, что по служебной необходимости трест благоустройства переводит его на наружный ремонт жилых помещений…”.
Так “Наутро же по всему фасаду разрослись берёзки, и не маленькие…”
Натуральный он, видите ли, этот Игнатьев. Естественный. (Повесть писалась долго: с 1981 года по 1990-й.) Плохо вписывается естественный человек в советскую действительность. Нет. Она-то уже в эти годы рушилась, но медленно, по мнению автора. Естественным людям, как траве сквозь асфальт, приходилось пробиваться. И даже не обстоятельства преодолевать, а самих себя, совков.
Повесть называется “Бульварный роман”.
Был шаблон у совков, что бульварный роман, короткий, для удовлетворения похоти, - это нехорошо. А с противоположной точки зрения это ж – против естественности. И, по совку, естественное – нехорошо. По совку, надо, чтоб роман был по любви.
Но автор – против любого “надо”. Внешнего. И против того, которое стало внутренней цензурой, так сказать.
Нет, он против и вседозволенности, он в те же годы “Невозвращенца” тоже написал. Это Кабаков, Александр. Однако в данной повести – пафос восстания против внутренней цензуры.
Есть в сближении мужчины и женщины совершенно упоительные минуты. Даже секунды. Даже доли секунд. Вначале. Когда – из-за краткости, внутренней невыразимости и внешней невыраженности – можно всё, и ясно сразу всё. – Вот когда она абсолютно допустима, вседозволенность.
Так и это – для внутренне свободных людей. А для несчастных совков и тут трудности – неосознаваемая внутренняя цензура.
И Кабаков помещает своего Игнатьева в полуподсознательное состояние, называемое “в предчувствии любви”. Ему под сорок. Роковой возраст оценки жизни, которой настала половина. Он красив, как... “Знаете: сидит такой одинокий, немного романтический, немного иронический мэн, очень мужественный, очень небрежный, в изумительной такой рубашке и предлагает <…> пожаловать в край “Мальборо”…” На него обратили внимание одна за другой две жёлто-зелёноглазые красивые женщины. С другой стороны: “…жена Игнатьева Тамара давала ему несколько поводов если не сожаления <…> то для размышлений. Да и он ей…”. И вот это состояние предлюбви и есть самый перец и описано Кабаковым без дураков.
Например.
“Название же произведения Пирогову кажется странным. Кляйне… всё ясно. Нахт… Так, понятно. А вот всё вместе никак не сочетается. Что значит – маленькая ночная музыка? Как это – маленькая музыка?.. Но пластинка записана на хорошей фирме, значит, стоящая вещь. И Пирогов опускает топ-арм.
На верхнем этаже Игнатьев слушает музыку, и кажется ему, что всё дальше летит его балкон, улетает из семнадцатого микрорайона неведомо куда, и вспоминает Игнатьев ещё и ещё раз тот самый двор в центре, и себя в чёрных сатиновых трусах, белой тенниске из вискозы, в тапочках со шнурками, обёрнутыми вокруг щиколоток, и в тюбетейке, вспоминает мать <…> И Игнатьев снова закуривает погасшую сигарету “Ява” и удивляется, что явская ведь сигарета, а сырая. “Откуда сырость?” - думает Игнатьев, чувствуя, как капли удивительной этой влаги текут по щекам. Жёлто-зелёные глаза появляются вдруг во тьме…”
Это “Маленькую ночную серенаду” Моцарта слушают соседи.
Для меня она похожа на самое начало “Сороковой симфонии” Моцарта же. То же мелко вибрирующее сопровождение. Когда-то, юношей, когда я это впервые услышал, вмиг это ввело меня в слёзы. Я представил, что это порхает красивая-прекрасивая бабочка-однодневка, которая с закатом солнца умрёт. Но этого не знает. Зато знаю я, и…
Ценность мига жизни. Ницшеанского типа ценность… Как я много позже понял.
И ведь есть-таки, кто признаёт демонизм Моцарта: Рохлиц, Паумгартнер, Чичерин… Пушкин!
И Кабаков, получается.
Жизнь тесна, оказывается, если нет вседозволенности. И ты счастлив, если забываешь на миг про внешний мир, и в другом мире, внутреннем, где нет времени, пространства и железной причинности, тебе всё позволено. Увидеть давно умершую мать… Или любимую, про которую ещё и не знаешь, что уже любишь её. После той секунды, когда ваши глаза встретились, удовлетворённые лицом и фигурой друг друга.
Это та самая секунда, на которую, сравнительно с животными, опаздывает реакция человека, из-за того, что он неосознаваемо думает перед любой реакцией. Та самая секунда, пока человек во внутреннем мире ещё не отличается от животного. Секунда естественности.
Настолько ценимая Кабаковым в Игнатьеве, что он позволил под его влиянием растениям пробивать асфальт.
А то, что противостоит естественности, совковость, ненавистна Кабакову с такой силой, что он решил поиздеваться в Игнатьеве, не выбросившем из себя совка, над всем остальным в Игнатьеве, что не принадлежит заветным секундам. И начал свою повесть, описав “акт любви”. Первый. С одной из тех, с жёлто-зелёными глазами. Описав его со всей возможной неприглядностью. Описав даже не его, а приготовление к нему.
“…Он старался раздеться быстро и при этом не оскорбить её эстетическое, как он предполагал, чувство видом своего мужского туалета… отечественные брюки с аналогичными трусами…”.
И так далее.
Не умеет-де совок раздеваться перед женщиной. А всё из-за псевдонравственных вериг, навешанных на него противоестественным обществом, этим лжесоциализмом. Не зря ж появился в те годы злой слоган: в СССР секса нет!
Он не виноват, герой повести. Обстоятельства.
С них, собственно, и начинается первая глава. Но они образные – это предложение в 30 строк. Вот они, советские вериги, с которыми, понимай “он” и “она”, “пересекая огромный двор, который, собственно, и двором назвать нельзя, потому что ни заборов…”, идут к “ней”, днём (ночью нельзя: у Игнатьева жена). 250 слов, среди которых есть и “в соответствии с советскими традициями”, и “в общественно-политическом смысле”, и “в литературно-художественном”, и “типические черты”… Воспитывали ж нас (так считали те, кто воспитывали). Искренне, пожалуй, в своём неумении, даже не представляя, какого ненавистника в таком вот Кабакове, например, воспитали. (Да и вся интеллигенция, в общем, виновата, что нет у нас больше СССР. Игнатьевы, голосуя в 1991 году, - через год после окончания Кабаковым этой повести, - за сохранение СССР, - 77,85%, - голосовали тем самым и за пусть и лживый, но социализм; потому что лживый-то в принципе можно исправить; а вот теперь…) Теперь кабаковы могут только отчаиваться, что менталитет народа не меняется так, через колено – и – готово то, что нужно им, кабаковым. Так что повесть 80-х годов в ненависти к совковости даже сохраняет актуальность через 20 лет.
“…ностальгия по советскому, мода на советское находятся на пике” (http://www.sinergia-lib.ru/index.php?page=kabakov_a_a).
Но… Ницшеанская нота в повести имеет очень ограниченную область определения – только доли секунд внутренней жизни. Только то, что, в своей вседозволенности, не задевает людей в реальной жизни. Порча асфальта задевает людей, но её больше не происходит с переходом Игнатьева на работу по уходу за зеленью. А бульварный роман, несмотря на название, просто не предъявлен автором:
“И вот они уже узнают друг друга, и вспоминают случайный и неудачный контакт, и продолжают сближаться, и…
…автор решил скомкать промежуток между концом и началом этой истории. Скажем только так: они встретились, узнали друг друга и, после многих смешных и грустных происшествий, познакомились близко. Они полюбили друг друга, и, как всякая любовь, им принесла столько же счастья, сколько горя, доказав всем персонажам сюжета, что они абсолютно живые…”
И так далее. Авторская болтовня перед разочарованным читателем ещё 24 строчки. А в повести 60 страниц.
Впрочем, автор предупреждал ещё эпиграфом:
““У любви, как у пташки… Понял? И все дела”. (Из разговора)”.
Однако в повести не только тусклая совковость Игнатьева, - в непоказанной и не про него сказано, но всё-таки про “советского человека”, “в многолетней и изнурительной борьбе естества против морального кодекса”, - в повести есть не только с трудом преодолевающее совковость предчувствие любви, но и яростный выпад против тех, буржуазного типа мещан, кто уже зародился в СССР до его падения (и торжества ради которых СССР пал), - этот упомянутый выше Пирогов. Герой эпохи потребления. Он, понимай, имя Моцарта не знает, хоть кандидат технических наук, зато знает реноме фирмы по грамзаписи.
“датсаун”, “сааб турбо”, “континенталь”, “импал” (это марки автомобилей), “слоновья нога” (это форма корзины для зонтов), “твидовая” (панама), “аспагус” (цветок), “чиппендейловское” (ложе), “Сирс и Робек” (каталог мебели)… Это я всё выписывал отличия в предметах престижного потребления, которые в названиях содержат незнакомое мне. А сколько там из знакомых слов состоящее… Всё это предметы мечты Пирогова.
“А запомнился всё же лишь интерьер жилища делового партнёра [в Вене; не собор св. Стефана и не Моцарт].
Осудим ли мы его? Кто знает… Разве мы против двухэтажных квартир? Не против, хорошая вещь. Не против мы также и каминов вместе с надкаминными зеркалами, и корзины для зонтов не вызывают у вас отвращения – правда, читатель?”
Аж вышел из сюжета автор. И – ласков. А это он в маске вышел. И – ненавидит.
Как факт, жёлто-зеленоглазой любовницы (такими же, как у жены, глазами он наделил любовницу) автор Пирогова лишил и отдал её Игнатьеву. За недушевность одного и душевность второго.
Как второй факт, резюме – мыслями Игнатьева – встречи в Вене Игнатьева с муниципальным обрезчиком зелени в белой одежде:
“Чудеса! Во даёт народ… одна любовь в голове, а вкалывать кто же будет? Там человеку покурить некогда, а тут давай им любовь – и все дела…”
Рационализм – не перспектива.
Ни капитализм Кабакову не по душе, ни, тем более, совковый социализм.
И потому – это вступление в повесть, от автора.
“… и отправишься бродить по огромному городу, в котором мы с вами живём… И вдруг, в толпе, средь жаждущих приобретений и отдыха земляков и приезжих, ощутишь: один, совершенно один!”
Полное разочарование во всём, если продлится достаточно долго, по моему, проверенному на других художниках, мнению, приводит к творческому бессилию.
И факт – не трогает эта повесть Кабакова.
Потому не трогает, если технологически подойти, что нет в ней столкновения противоречий. Плохое для автора – плохо, хорошее – хорошо. Обо всём он выразился прямо, хоть и слегка прикровенно. И не было у него вдохновения, когда он повесть писал. Потому и нет озарения у меня, когда я её прочёл.
Есть, правда, досада, когда он так грубо (действительно - неожиданность) оборвал повествование, когда то только-только подошло к началу фабулы. – Досадно-таки не иметь идеала…
Оттого, может, и такая неорганичность – внедрение вдруг небывальщины, выламывающейся из стиля. Чуть не Роб-Грийе.
“Песок он старательно смачивал водой, которую таскал в купальной шапочке. Постепенно стала вырисовываться лежащая на спине женщина в натуральную величину… <…> Игнатьев внимательно смотрел на женщину в песке и сочувствовал ей [плохо говорили о женщинах приятели ваятеля, и поднялся ветер, подсохшую скульптуру принявшийся развевать] – кому понравится вот так лежать и дурь всякую слушать?
Дунул ветер, пошевелил песчинки, и оболтусам показалось, что женщина улыбнулась. Неуверенно хихикая и пожимая плечами, третий сказал:
- Лыбится, а?..
Первый оболтус плюнул в песок. Второй посмотрел на высказавшегося и, обернувшись к первому, сообщил:
- Перегрелся.
Друзья веселились. Но следующий порыв ветра был уже по-настоящему силён. Полетел, взвихрился песок, стали таять, превращаясь в шуршащие барханчики, волосатые торсы и загорелые тела, и через секунду там, где они сидели, осталось только три небольшие холмика.
А женщина встала, отряхнула плечи и пошла к воде – туда, где за буйками, спасательными катерами и дальним сухогрузом прыгал на волнах красный шар солнца.
Игнатьев смотрел ей вслед, и вдруг ему показалось, что вокруг головы у неё возникло сияние. Но, будучи человеком атеистических взглядов, он сразу понял, что это просто светились светлые волосы, сквозь которые пробиваются солнечные лучи”.
Персонаж имеет идеал, так он, ограниченный атеизмом и ещё чем там, – совок.
И христианство, атеистически воспитанному автору, чего доброго, не тае… И – нет идеала. И потому не о чём, собственно, и говорить. Вот и оборвано.
Или в том и художественность всё-таки? Вступление, где автор впервые об опустошённости почти “в лоб” заявил и тогда нас совсем не тронул, теперь, в конце, это вступление забыто, и что-то таки из нас раздразнившее перспективой клубнички повествование высекло, хоть какую-то искру… Перспектива столкнулась с отсутствием перспективы – и… катарсис, с вашего позволения. Осмысленный, он и есть художественный смысл. Таков уж он, не ахти что, у постмодернизма, занимающегося тем обстоятельством, что нет ничего, достойного быть идеалом.
Бахтин писал:
“Возможна своеобразная форма разложения лирики, обусловленная ослаблением авторитетности внутренней ценностной позиции другого вне меня, ослаблением доверия к возможной поддержке хора, а отсюда своеобразный лирический стыд себя, стыд лирического пафоса, стыд лирической откровенности (лирический выверт, ирония и лирический цинизм). Это как бы срывы голоса, почувствовавшего себя вне хора <…> Это имеет место в декадансе…” (Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 158).
Но не рад ли и декадент, самовыражаясь? Я лично знал одного постмодерниста, который переживал от самовыражения счастье, тогда как в его произведении – раздрай.
Этим и объясняется, что такие безыдейные всё же согласны издаваться. Согласны и премии получать. Их им и не зря дают, получается, раз художественный смысл в их произведениях всё же есть.
Что ж. Может, разбуженная наша досада на их срыв голоса и есть та надежда, которая не даст всем нам погибнуть в этом кошмаре, в сущности, комфорта, к которому мы так стремимся или уже достигли.
2 мая 2012 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number4534/zine_critics4538/publication4573
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |