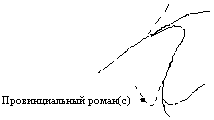
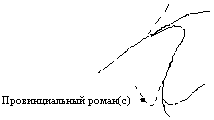
С. Воложин
Ярошевский. Провинциальный роман'с.
Художественный смысл.
| Если искусство и то, что около него, развиваются по синусоподобному закону, то он проявляется в деятельности творцов любого масштаба. |
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИСКУССТВА
КНИГА ДЕВЯТАЯ
-----------------------------------------------------------------------
С. Воложин
Об относительно
безвестных авторах
Одесса 2002
Предисловие,
постоянно-переходящее
к каждой книге данной серии
- Миссия есть у каждого... Самое интересное... что человек чаще всего не догадывается, в чем его миссия...
“Хрустальный мир”. В. Пелевин
Моя миссия, по крайней мере в этой серии книг, заключается, видимо, в том, чтоб дать как можно больше примеров применимости Синусоиды - я это так называю - идеалов (с инерционными вылетами вон из нее), идеалов, которыми одушевлены были творцы произведений искусства при их создании, для выявления художественного смысла этих произведений.
Я было пробовал когда-то поделиться своей находкой: послал материал в центральную газету, в толстый журнал... - Не взяли. Сделал принтерные самоиздания (по паре экземпляров) нескольких работ и подарил их одной-другой библиотеке. - Взяли. Но - в отделы рукописей, и вещи не попали в общие каталоги. Напечатал несколько статей в местных газетах. - Но там не развернешься. И никто не понял, на какой системе все у меня базируется. Издал кое-что, крошечными тиражами, для библиотек. - В общие каталоги попало, но никто их там не ищет.
Нет. Надо - как в кибернетике: для надежности передачи информации обеспечь ее избыточность.
Когда-то я писал и думал: будь у меня сто жизней - я бы всю историю искусств построил по Синусоиде с ее вылетами....
Вот и надо внушить ту же мысль печатно, количеством моих применений такой Синусоиды.
Правда, я не мог это издавать сразу после написания, а теперь уже не полностью согласен с самим собой, прежним. - Ну, зато видна эволюция от книги к книге. Может, это даже и лучше для усвоения.
Предисловие к последней книге серии
В последний момент перед изданием восьмой книги серии я решил собрать в одну, девятую, то, что написано, сообразуясь с Синусоидой,- пусть порою и не названной,- о полностью или почти безвестных авторах и что в свое время почти не имело читателей. Начиная с какого-то времени такое предприятие стало казаться возможным: мне так везло с нахождением спонсоров своим малотиражным книгам, что можно стало себе позволить помыслить и о моих крошечных сочинениях.
Но,- сразу же подумалось,- зачем увековечивать невеликих, скажем так, людей? (Раз я свои книги дарю библиотекам, то я объектов своего внимания, конечно же, увековечиваю.) Итак, зачем?
Я ж сам считаю, что человек обязан стараться не пускать себя в искусство: вдруг он сможет свою тягу преодолеть, и это будет значить, что он достоин похвалы за незасорение столь святой области. А если уж он не сдержался, то преградой становится публика, не обратившая на него достаточного внимания, и время, предающее его забвению. Я же, получается, по подразумевающемуся большому счету соглашаясь с публикой и временем в сути своих отзывов (не важно - отрицательных или положительных), задумав составить из этих отзывов книгу, работаю против названного большого счета. - Зачем?
Вспомнилось несколько однотипных похвал этим моим микроопусам. Это, мол, своеобразные художественные произведения, с интригой, с интересной формой изложения... Я тайно огорчался на такие похвалы. Я ж хотел признания их научной, а не художественной ценности. И не получал желаемого. Так неужели,- подумалось теперь,- я потому и не понимаю, отчего мне хочется микроопусы эти увековечить, что они - некая лирика, что ли, а не наука! (Как и все, может, что я написал когда бы то ни было?)
Ну что ж. Лирика так лирика.
Будем считать, что я так же не сдержался, как и малые объекты моего внимания. И пусть меня рассудят люди.
А то в свое время эти опусы не хотели публиковать те, кто мог бы. Я же - человек упрямый... И - чего не сделаю ради Синусоиды...
Кое-что, вдохновленное применением Синусоиды идеалов, в данную серию не включено. Что-то напечатано отдельно, что-то попало в ранее изданную серию, сформировавшуюся по другому принципу: по времени и месту ее создания,- что-то принадлежит уже к другой, возможно, серии, где я уже без исключений проникаю на уровень осознавания катарсиса от противочувствий, что возбуждаются от противоречий элементов произведения.
И так как все ж должно иметь конец, я серию этой книгой кончаю.
5. 12. 1992 г. Одесса
Субъективные заметки,
посягающие на объективность
“Белый звук” - так назвал себя “Альтернативный клуб искусств”. Белый звук... Это ассоциируется с радистским “белым шумом” - когда эфир заполнен волнами всех частот в равной мере и никакой информации уже нет. Белый звук... Это ассоциируется с белым листом, на котором информации еще нет.
Когда в концерте-презентации этого клуба звучали стихи и песни объединения “Догутенберговских поэтов”, первое впечатление у меня, человека немолодого и далекого от молодежной контркультуры, - первое впечатление было - отсутствие информации. Смысловой... Эмоциональной...
Впрочем, только первое. А второе - что здесь - честные люди, не ломаки, не модники и не коммерсанты (концерт был бесплатным).
Честные люди... Это уже много. Да еще в ум и сердце вошло такое общее впечатление: как будто растерявшийся (чтоб не сказать “испугавшийся”) ребенок, что зажал уши, закрыл глаза... В общем, белый звук.
А это уже совсем немало. Потому что давно замечено (а знаменитый психолог Выготский освятил своим авторитетом), что стихи, в общем-то, темно входят в сознание слушателя. Слова песен не должны бы тут быть исключением.
И чтоб прояснить эту темноту, вернемся хотя бы к текстам (благо, литературная форма обсуждения этому способствует).
Первое погружение, как претенциозно заявлена в программке первая часть, открывает...
Ночь
Я снова взвешиваю сны,
Я подчиняюсь звукам сказа,
Я сплю, но сны от глаз людских
Бегут, как от дурного глаза.
Бегут туда, где пыль в глаза,
Где полночь и цветы завяли,
Где не забудется гроза,
Где окрик: “Вы здесь не стояли!”
А. Нетребенко
О чем эта “Ночь”? - Человек, люди, такие, как он, хотели бы убежать от действительности. Хоть бы в сон. И не могут. “Сны бегут”.
А действительность груба, зла, всячески нехороша. Там - “пыль в глаза”
, “цветы завяли”, крики в очередях и т. п.Когда мы смотрим теперь американские фильмы в наших телевизорах, то видим: там - действительность тоже зла и груба. Но действующие лица, все, в той злой жизни, - как рыба в воде. И не только выживают, но и - любимцы авторов - выходят победителями (этот знаменитый хэппи энд!). Да и проигравшие уходят из жизни в борьбе за нее - жестокую. Все там приемлют жизнь такой, какая она есть. Можно сказать, что она, в общем, соответствует их идеалу.
Очевидно, что наш догутенберговский поэт не такого замеса.
Явно другой характер у пророка из одноименного второго произведения: “буйный нрав”
, “горячий пыл”... Однако и он не борется в жизни, а борется с жизнью. Вчитайтесь в “Пророка”.Охлади хоть на пару дней свой буйный нрав.
Все равно ты сейчас не поймешь, кто виновен, кто прав.
Все равно на засохших стволах не проступит смола.
Тот, кто был богачом вчера, разорен дотла.
Укажи мне на карте любую из дальних стран,
Расскажи, как загладить шрамы от старых ран,
Объясни, с кем были те, кто остался цел.
Тот, кто завтра не будет стрелять, попадет в прицел.
Этих мертвых скал никогда не пробьет росток.
Плачут те, кто нам обещал поход на восток.
И хороших, правильных слов уже не сберечь.
Их так трудно делить на всех, их так просто сжечь.
Охлади хоть на пару дней свой горячий пыл.
Если ты не собрал камней, значит, все забыл.
И не видно угасших звезд в осколках зеркал.
Если ты все знал наперед, почему молчал?
М.Полищук
Мрачное нечто. Но давайте постепенно.
Как характеризуется окружающее? Это
“осколок зеркал”, “засохшие стволы”, “мертвые скалы”, “угасшие звезды” - целый мир.Правда, оценка дается не от имени пророка, а от имени как бы лирического героя предыдущего опуса, от имени субъекта, из этого плохого мира хотевшего бы убежать. Но поскольку пророк буен и горячо пылает против того же, против чего настроен и лирический герой - они идейные товарищи.
И отношения между ними нежные. Герой успокаивает пророка: “охлади на пару дней”, “все равно ты сейчас не поймешь”, “все равно”, все равно ничего, мол, не поделаешь. Так (плохо) - всюду: “Укажи мне на карте любую из дальних стран” (мысль оборвана, и - гадай-гадай, кумушка, что имеется в виду; однако, мы, кажется, разгадали).
“Расскажи”, “объясни”,- взывает лирический герой, переводя энергию буйного не в действия. Ибо от буйства может быть только хуже: “Тот, кто завтра не будет стрелять” (уже не будет), “попадет в прицел”.
В общем, они - идейные друзья - после давних и недавних жизненных перипетий нахватали “старых ран”, а новые шрамы еще не загладились
...И если буйный пророк ведет себя, как малое дитя, не умеющее совладать с собой и смириться с поражением, то какой же он порок?
А вот какой! Он пророчил, видно, в масштабах идеала, целого мира. И это - прерогатива пророков. “Кто нам обещал поход на восток” - это в направлении восхода солнца, нового дня в широком смысле слова - поход в новую жизнь.
Старая, видно, была плоха, а новая - тоже неожиданно оказалась совсем не такой, как мечталось. Как тут одному не раздражиться предельно, а другому не впасть в стойкую бессонницу.
Неужели все предопределено и нечего вмешиваться в порядок вещей?
Прислушайся к полету дикой цапли
за пять минут до выстрела, за десять
тысячелетий до конца войны.
И ты услышишь,
как крылья режут воздух пополам,
как в театре занавес
перед последним актом.
А. Суханов
То есть сверхпророк почуял бы, что к чему, и не призвал бы к дурному активизму, выходящему боком.
Но до чего же боком!
Мемориальный автопортрет
на фоне всеобщего благоденствия
Смотр чужих достижений проходит стандартно успешно.
Кайф, ловимый на всех, не считая отверженных бяк.
Вот один медитирует орган зрения, вперившись в вечность,
Как Конфуций в мораль, погружаясь в глубины себя.
Соберите погасшие звезды, протухшие льдины,
Мертвый кабель на дне океанов - как раз и получится я:
Индивид в состоянии, близком к безмерной гордыне,
Помещенный в абсурдный контекст бытия.
А. Нелепов
Эта “безмерная гордыня” есть безмерное упорство в сохранении своих идеалов, не смотря ни на что, ни на какие поражения, ни на какое историческое предопределение. Упорство, не поддающееся никаким идеалистическим выходам, например, в якобы духовность медитации, а также не поддающееся никаким материалистическим выходам типа пира во время чумы - кайфу. (Услады “Декамерона” происходили - вспомним - тоже на фоне чумы.)
Однако едкий сарказм в отношении самого себя - такого: “Индивид, в состоянии, близком к безмерной гордыне”,- говорит “нет” и этой гордыне.
Но тогда ничего ценного не остается! Белый звук...
А может, - даешь абсолютную свободу? Новое ницшеанство через сто лет после Ницше? И да здравствует цинизм!?
Эта грозная туча
оказалась на деле всего лишь
одним из участников круговорота.
И ты смотришь в окно,
удивляясь безмерно,
абсолютной свободе
паденья воды за стеклом.
А. Нелепов
“За стеклом”... Отгорожен... Не участвует. Безучастен. И тут - белый звук.
По идее, те, кто лишился идеалов и не обрел новых, отлучают себя от искусства. Вольно или невольно. Осознанно или нет. Тем или иным путем. Например, впадают в маразм, рвут все, что связано даже просто с искусностью изготовления, рвут ритм, рифму - если делают “стихи”.
Не больно
Где-то на Дальнем Западе
растет Денежное Дерево.
Но я туда не поеду,
и, если здесь меня не накормят,
я просто умру.
Это не больно...
...Мне рассказывал Большой Папа,
он тоже нищий,
что где-то в Гималаях
живут яшмовые люди.
Но я туда не поеду,
я сам себе птица Феникс,
я сжигаю себя каждый вечер,
и мой пепел развеют здесь.
Это не больно...
О. Фесенко
Похоже на декадентство, на упадничество? - Похоже.
Но это помещено в контекст отрицаний... Что если и это - отрицается?
Действительно, как-то довольно внятно декларируемое: апатия, безволие. А ведь истых декадентов - не понять так просто...
И как прямой контраст безволию - напряженность такого опуса:
Вот послушай:
Намагниченный воздух застыл на морозе,
Затрещало полено, усопшее в бозе.
Напряги свои уши.
Угловатые веки накрывают глазницы,
И устало скрипят друг о друга ресницы.
Ты послушай, послушай.
Это в шелке застывшего воздуха ветки
Напевают хрустящую песнь креветки.
Напряги свою душу.
Послушай.
Не слышишь...
А. Нетребенко
Это уже - утверждение. Чего-то и здешнего, и, главное, запредельного: не каждый слышит кое-что. Утверждение, хоть и кончается оно отрицанием: “Не слышишь...”
.Ты, пусть, не слышишь, но я - слышу. И ты услышишь. Послушай. Энергия стиха побеждает грамматику.
Неблагодарное дело - толковать стихи. Для того, кто их понимает и чувствует, это кощунство. И правда: это ж все равно, что описать бесконечность.
Пусть найдет удовлетворение автор последнего опуса из подборки. Я ничего не смог о нем сказать. Не понял.
В способности лесной незримой твари
извлечь карательную функцию дождя,
в размежеваньи пажити и мари,
дающей ей свой контур, уходя,
в потерях редколиственного кряжа,
в багряном просторечии долин -
глухой раздор неодолимой тяжбы
след языка, который был един
и свят, как звук из опаленной сном гортани,
как песнопение готической зимы,
как сердце, уносимое горстями,
как голос говорящего из тьмы.
...как будто тайнопись застывшими губами
прочлась, и в этой азбуке, ни знака больше не тая,
сквозит затерянная где-то между нами
избыточная нежность бытия.
А. Нелепов
И пусть простят меня за толкования остального, особенно предпоследнего стихотворения, где прямо выражается удовольствие, что “нет никого... кто б... объяснил, как его понимать...”
Ночной летний дождь.
Никого нет на улице, кто б
Нам объяснил, как его понимать
И какие движенья души,
Если мы не бездушны еще,
Он должен у нас вызывать.
Как прекрасно, что нет никого под дождем,
Без посредников, без объяснений -
Ничего, кроме капель и луж мы не ждем от него.
Просто дождь - ни надежд, ни сомнений.
М. Полищук
Это прекрасно. Это синтез поисков поэтов объединения. Здесь высокое и низкое - вместе. Соединилось, казалось бы, несоединимое: духовное и телесное.
Да, вы не бездушны, догутенберговские поэты. И вы в то же время земные. Образ лужи, образовавшейся от капель с неба, а еще лучше - образ самих материальных капель дождя с этого высокого обиталища духа - квинтэссенция ваших поисков. И это уже не белый шум или лист, не ничего. А вполне определенная фаза в историческом, вечном синусоидальном колебании искусства от идеала к идеалу: от идеала высокого, духовного, соборного, к идеалу низкому, телесному, индивидуалистическому - через фазу в какой-то степени гармонии высокого и низкого, духа и тела, соборности и индивидуализма и т. д. и т. д. Их много - этих парных оппозиций, которые совсем не случайно тяготеют друг к другу. И ваша фаза на Синусоиде - барокко. В веках повторяющееся барокко, наступающее после периода смуты и разочарования и в высоком, и в низком.
Вы все отвергли, но отвергаемыми были или одна или другая крайность. Вы затыкали уши и закрывали глаза на любой экстремизм. Вы декларировали, что вы ни с кем.
Нет. Вы ого еще с кем. С Мандельштамом, например. В начале ХХ века, называемого тогда “веком прогресса” за хозяйственную, хоть и аморальную, но прогрессивность империализма,- в начале века, после разочарования от поражения первой русской революции,- в начале века, когда забушевал экстремизм во всем: порывания символистов в запредельно высокое; импрессионистов - в предельно земное; акмеистов - в сверхчеловеческое, индивидуально красивое, не отягощенное общественным; порывы новых романтиков - в предчувствие новой, победоносной революции; срывы сбитых совсем с толку декадентов - вообще в шабаш, в скандалы и тому подобное неискусство, - среди всего этого трепета энергий Мандельштам искал покоя и сопряжения крайностей:
Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.
1909 год.
Узнаете себя? Спустя 80 лет...
Разве такое уж крайнее неприятие действительности в “Ночи”? “Пыль в глаза”
, “цветы завяли” и окрик в очереди еще не самое страшное в теперешней жизни. Почему смягчает автор? Не ради ли трезвого взгляда, видящего и ночью?А с другой стороны, в “Пророке”: кто “был богачом вчера” и “разорен дотла” сегодня? И в чем богатство? Уж не в идеале ли справедливости? Хорош сам по себе идеал. Есть о чем пожалеть, когда “хороших, правильных слов уже не собрать” и когда “их так просто сжечь”. Ну, а раз жаль, значит, зерно истины может, очистившись от плевел, быть использовано в будущем.
Под сомнением дурной активизм в следующем опусе. Но уж что-что, а неудачная пьеса точно поддается переделке. И финальный образ, может, не зря там - театральный.
Ну, а дальше? Разве имеет для нас отрицательный оттенок имя Конфуция. Или наоборот: разве не правы в чем-то берущие от жизни все, что можно, и разве где-то не действительно бяка их оппонент. Он и сам соглашается, что он “мертвый кабель”, “протухшая льдина” и т. п.
И разве действительно нет ничего позитивного в том, что “не больно”?
Или это сладкое слово “свобода”... Разве не упоительно?..
Белый звук - белого цвета. А белый - это цвет нейтралитета. По отношению к крайностям... И в то же время это не серый, тоже нейтральный, но не имеющий внутреннего достоинства.
Белый звук - это хорошо.
Есть критика оценочная, а есть - интерпретационная. Я не берусь судить о достоинствах и недостатках произведений искусства. Я берусь лишь их понимать. Правда, когда есть что понимать, значит, не было дано “в лоб” и нужен был труд души, и, значит, было что-то, что не дало поэту промолчать - идеал (высокий, низкий или гармоничный), и еще значит, что понять оказалось возможным, а все вместе означает, что произведение оказалось-таки произведением искусства, а не развлечением или явлением иного прикладного назначения. И это есть само по себе похвала.
Пусть она будет впрок.
10. 02. 1993
г. ОдессаГерой все еще нашего времени
Передо мной две страницы подозрительной рукописи. Она плохо отпечатана на машинке. С отвратительным названием - “Может быть время написать что-нибудь?” (запятой нет; может, и изначально не было). Понимай, со скуки написано, а не оттого, что жгло и хотелось самовыражения, без которого и не поймешь - что жжет... и не отделаешься от жжения.
Читаю первые строки:
“В коридоре не было света. Шаги отдавались глухо. Стены принимали с полнейшим безучастием.
..”Что принимали? Звук шагов?
“...безучастием. С величием стадиона, стадиона [запятой нет] граничащего с бесконечностью; [почему не точка?] а для предмета, к тому же, обремененного ничего незначащими шагами...”
Идущий - предмет!? Это уже не опечатка. Обременен... Шагами (?). Автор явно нарывается на стилистические ошибки. Среди неявных - такая: раз применено “ничего”, то последующее “не” пишут отдельно от слова, к которому это “не” относится. В тексте - вместе:
“...ничего незначащими шагами, это очень весомое положение”.
Сарказм, да? Незначительный “предмет” - в бесконечности...
“Величие перло из стен пузырями облупившейся краски”.
А это, пожалуй, здорово: мощное отторжение окружающего от героя... Правда, “не было света”... Как же видно пузыри? Но, может, полусвет был. Чего придираться по мелочам...
И постепенно начинаешь свыкаться.
А текст не дает привыкнуть. Начинается новый абзац. Это угадываешь по одному пробелу, оставленному с начала новой строки. Впрочем, больше нигде в рукописи такой оплошности нет (а это оплошность; читаешь, скажем, Нарбикову - у нее в целом рассказе нет ни одного абзаца; их угадываешь по незаполненной предыдущей строке). И здесь - тоже (как окажется) абзацев нет. Еще один источник напряжения.
На каждом, почти на каждом слове, знаке препинания - неожиданность, неуютность.
“Стук... Стук, наполненный сопротивлением двери...”
Дверь это ж то, что открывается просто. Какое сопротивление? С пружиной она, что ли? Вообще, какое неуклюжее словоупотребление: “Стук, наполненный сопротивлением”
.“
...сопротивлением двери; [почему не запятая?] битой очень многими людьми, но до сих пор недобитой до конца”.Дверь все-таки не бьют, как правило... Разве что ногой - если руки заняты, или враг за дверью, или взбесившийся перед нею...
Впрочем, кажется, здесь все-то как раз и сделано - чтоб против правил. И чтоб не привыкнуть. Все против правил грамматики, стилистики.
“Из-за двери слышалось немного музыки...”
Не тихая, а немного. Кратковременная, что ли? А потом тишина и опять - кратковременная? - Читаем дальше - оказывается: нет. Она “заполняла помещение”
.Понимаете: какой-то иной мир! Как на Сатурне каком-нибудь, где сила тяжести гораздо больше земной, и на ногах, руках - как свинцовые подвески. Или как высоко в горах, когда задыхаешься от недостатка кислорода и почти теряешь сознание. Или под водой в скафандре со свинцом, опять, на подошвах, и весь мир неверный через иллюминатор и необычно сопротивляющийся при каждом движении...
Или как Гамлет, мучимый моральным удушьем от той, нравственной вони в прогнившем Датском королевстве.
И тогда открываются духовные очи: да это ж мучается Гамлет нашего времени. Тут и Офелия - с белыми волосами, символ идеала, подпорченного все-таки:
“Новся [вместе напечатано; и, может, - хорошо!] девушка была оторвана от своих волос..
.”, “Девушка казалась обладательницей белой души, но это была [что “это”? - “казалась”?..] некоторая неточность”.Шекспир, создавая “Гамлета”, мучился от пошлости наступавшего капитализма и от невозможности больше исповедовать идеал Высокого Возрождения - гармонию.
Ведь что такое Высокое Возрождение? Это мироощущение индивидуалистов, гуманистов, объединившихся ради открытой борьбы с феодальным миром за Права Человека. И тут уже не просто индивидуализм. Тут и коллективизм. Тут гармония низкого и высокого.
И вот оказалось, что гармония невозможна, что низкое перевешивает, что время Гамлетова отца, рыцаря, ушло, и с исторической необходимостью наступило время хапуги Клавдия и похотливой Гертруды. И это время не остановить. Даже если убить Клавдия. (Потому Гамлет и медлит со мщением за отца. Не во мщении дело.)
Вот и автор нашего “Может быть время...” плюет своим стилем против ветра времени, призванный тоже (хоть, может, не осознает) призраком, призраком коммунизма!
Автора можно даже сегодня за то простить: уж больно соблазнительна была мечта - миллионы (было время) в нее поверили, и не диво, что до недавних лет кто-то еще верил ей и теперь переживает, как в свое время Гамлет переживал. Простим нашему автору и найдем в себе силы посочувствовать.
Под конец уже:
“Время затупилось [как в “Гамлете”: “Порвалась связь времен”], оставив в голове посеревшего посетителя лишь мысли”.
И через несколько строк - последнее предложение:
“Это отупелое время было немного жутко”.
Конец.
Всего две машинописные страницы...
Это замечательно: больше не выдержишь удушья ежестрочных неправильностей.
И в том - снисхождение автора до обычных людей, против ветра не плюющих, а держащих нос по ветру.
И вспоминается опять “Гамлет” - принц ранен отравленной шпагой и знает об отраве:
Г а м л е т
.
..Когда б я мог (но смерть, свирепый страж,Хватает быстро), о, я рассказал бы...-
Но все равно,- Горацио, я гибну;
Ты жив; поведай правду обо мне
Неутоленным.
Г о р а ц и о
Этому не быть,
Я римлянин, но датчанин душою;
Есть влага в кубке.
[А влага-то отравлена...]
Г а м л е т
Если ты мужчина,
Дай кубок мне; оставь; дай, я хочу.
О друг, какое раненное имя,
Скрой тайна все, осталось бы по мне!
Когда меня в своем хранил ты сердце,
То отстранись на время от блаженства,
Дыши в суровом мире, чтоб мою
Поведать повесть.
Видимо, есть общее в некоторых пессимистах с оптимистами. Оптимисты - ожидают лучшее будущее еще до лично своей смерти, или до смерти своего поколения, или в другой исторически короткий срок. А пессимисты - некоторые - в самой последней глубине души своей - тоже не могут отрешиться от веры в лучшее будущее, только наступление его относят в необозримо далекую даль времен: христиане - ко второму пришествию, атеисты - ко, все-таки, коммунизму (гармонии) и т. д.
Значит ли это, что Шекспир заставил зрителя прийти к признанию необходимости действовать в реальном мире? Нет, не значит. Это значит только, что Шекспир заставил зрителя передать дальше трагедию “Гамлет”: устно,- в виде легенды нового типа,- или письменно,- в виде отпечатанной пьесы. И еще - подсознательно - в виде смутного интереса: “пойти посмотреть, о чем это шумит публика веками”.
А сейчас шумит публика о постмодернизме, новой волне...
Все - то же!
И в том, что автор нашего “...времени...” сделал свою вещь короткой, есть учет психологии реальных людей. И нас не только отвращают (сочувствие) неправильности текста (форма), нас не только совращает (противочувствие) жалость к герою за его муки безыдеальности (содержание), но эти муки,- предполагая - как отрицание отрицания - все-таки идеал,- сорганизованы так, что от взаимоуничтожения противоположных чувств возникает (3-й этап) так называемое гениальным Выготским - возвышение чувств, здесь - смутная вера в, скажем так, Сверхисторию, в то, что не порвется связь времен.
Передо мной на двух отпечатанных страницах оказалось произведение не постмодернизма и не новой волны (те с психологией читателя не считаются), а феномен в веках повторяющегося маньеризма.
Прочтите эту вещь, встав - попробуйте - на мою точку зрения.
Может быть время написать что-нибудь?
В коридоре не было света. Шаги отдавались глухо. Стены принимали с полнейшим безучастием. С величием стадиона, стадиона граничащего с бесконечностью; а для предмета, к тому же, обремененного ничего незначащими шагами, это очень весомое положение. Величие перло из стен пузырями облупившейся краски.
Стук... Стук, наполненный сопротивлением двери; битой очень многими людьми, но до сих пор недобитой до конца. Из-за двери слышалось немного музыки, извлекаемой неизвестными исполнителями. Но, чтобы читателю не гадать, скажем проще; музыка заполняла помещение из недр “доисторического” приемника. Музыка была недовольна; она была больна несвободой. Несвободой закрытой двери; несвободой закрытых окон; даже несвободой крана, из которого вот уже год не текла вода.
- Можно войти?
- Входи...
Время тянулось грязным ночным одеялом. Посетитель занимал его поскрипыванием на стуле, обозрением мух, зажившихся внутри комнаты; а также прослушиванием бесконечности безучастного коридора.
Неслышной походкой к посетителю подошла девушка. Ее белые волосы обвивали комнату лишь ей одним доступным состоянием невиновности. Именно невиновности. Новся девушка была оторвана от своих волос, что создавало гармонию, изливавшуюся безбрежным потоком полувзглядов ее лица. Девушка казалась обладательницей белой души, но это была некоторая неточность. Неточность спроэктированная неизвестно зачем. Неточность, исходящая неизвестно откуда. Скорее всего этого не следовало касаться; нужно было просто наслаждаться ее белыми волосами.
Посетитель, как за спасательный круг, схватился за газету. Там была его фотография. (Так казалось посетителю).
- Похож?! - пальцы овладели строками бродящих букв.
- Хм... очень беглое сходство,- она она одарила посетителя очаровательной улыбкой, подумав: “А что означает беглое сходство?!”
Но посетителю не показался ответ чем-то необычным. Наверняка, это произошло в силу того, что посетитель не слышал ответа. Правда, при разговоре это совсем не обязательно. Главное - постепенно гнуть свою линию. Посетителю очень хотелось ответить что-нибудь; продолжить разговор. Но слова путались, стукались лбами и, наконец, не выдержав напряжения мыслителя, разбежались врассыпную, кто куда. Только посетителю было глупо куда-то бежать, и он остался. Но слова невренулись - канули внебытие. Девушка постояла, посмотрела, улыбнулась... долго-долго, прозрачно-прозрачно. И ушла в другой угол комнаты, в совершенно в другую вселенную.
Через год...........
Все говорило о том, что света в коридоре не будет никогда. Шаги были здесь, но лились неотсюда.
Дверь была все та же. Она распространяла все то же чувство, чувство покрашенной плесени.
Стук... Стук немного оборванный, но в целом все тот же. И маленький скучающий огонек в немного дрожащей руке. Это совершенно наше время, совершенно наша действительность.
- Можно войти? - Секундочку, входите...
Мухи совершенно исчезли. И ничего не оставили взамен. А девушка ничуть не изменилась. Всё те же белые волосы... И губы почти такие же. И... да впрочем, она осталась такойже, как и была... Только на правой руке появился новый предмет - маленькое желтое колечко.
Слова цх уже не путались. Они провалились сразу. Было немного страшно, Но вскоре это прошло. Время затупилось, оставив в голове посеревшего посетителя лишь мысли. Стол давно не видел газет, он видел только оборванные на самом интересном месте кляксы.
Дверь хлопнула где-то сзади. Руки со скоростью звука устремились в карманы. Напев, где-то слышной музыки получился гнилой и бедный. Только лестница своими ступенями кашляла куда-то по направлению к стопам. Это отупелое время было немного жутко.
Уже тогда, в 1993 году, почему-то не удалось мне выявить фамилию автора этой вещи. Теперь это и вовсе немыслимо. Простите мне, автор, анонимную публикацию.
18. 02. 1993 г. Одесса
Новаторы
В клубе “Белый звук” в большом почете новаторство. Один из отцов-основателей клуба раз, в полемическом задоре, сказал даже: ”Пушкин - подумаешь! Кто хочешь стал бы великим, если б столько времени и сил отдавалось на прославление, сколько Пушкину”.
А ведь было у славы Пушкина и совсем иное время:
<<
...мы часто склонны считать Пушкина поэтом уж очень понятным, ясным, легким. Он стал таким потому, что его система стиля сделалась основой развития русской литературы и литературного языка XIX века. Но для современников эта система была вовсе не столь нормальна и общепринята, как для нас, и многим... было трудно освоиться с новаторской манерой Пушкина... трудно даже просто понять пушкинскую речь, иной раз неясную с точки зрения застрявшего еще в умах классицизма. И вот в этих-то новшествах Пушкин... предстал современникам как [романтик]... и бранили их... за одно и то же. В этом отношении Пушкин разделил участь, например. Баратынского. Так, в “Дамском журнале” 1827 года была напечатана статья... Это злобный разбор “Стансов” Баратынского... Автор [статьи] недоволен романтической оторванностью лирики от внешнего мира. Он разбирает начало “Стансов”:Обременительные цепи
Упали с рук моих - и вновь
Я вижу вас, родные степи.
Моя начальная любовь
.“Не правда ли, что печальный станс превосходен? Вы, может быть, спросите: из каких цепей вырвался поэт? где он находился? Читателю нет надобности знать об этом; первые два стиха картинны, новы и, следовательно, скажете, что
родные степи не могут быть ни начальною, ни среднею, ни конечною любовью, равно как любовь не бывает ни степью, ни лугом, ни полем. Согласен: да это по-старинному; мир романтический есть мир превращений: там небылицы являются в лицах.Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов,
И скромный дом в садовой чаще -
Приют младенческих годов
.Чувствуете ли, чувствуете ли, мой почтенный, сладость первого стиха, истинно пиитического? Где найдете вы подобные? Ах,
слаще, слаще! нам не было бы вкуснее теперешнего, аще не следовала бы за тобою в садовой чаще... рифма-тиран...Ко благу чистое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье?
Но принесло ли плод оно?
Что, маститый старец? вы морщитесь, зеваете и, кажется, ничего не понимаете? Признаюсь, и я как во тьме нощной. Этому есть причина: мы не посвящены в таинства - осязать неосязательное, толковать бестолковое, удивляться страннолепному;
высшие созерцатели постигают это. Так! вы одни, о высшие созерцатели! вы одни можете изъяснить нам смысл двух последних стихов... В самом деле, разделенье ли обрело что-нибудь, или обрел кто-нибудь разделенье, и какое и с кем? Кто принес плод: ко благу ли чистое стремленье, или сам автор, или, наконец, его торжественные стансы?” >>Упреки романтизму предъявляли и приверженцы другого стиля. Гете, например, ушедший уже от так называемого предромантизма к реализму, о поэзии романтика Жуковского сказал тоже нелицеприятно: <<
Потому-то, что люди не умеют оживить, оценить настоящего, они вожделеют будущего и кокетничают с прошлым. И Жуковскому надлежало бы более обратиться к объекту>>.Понимаете: людям так свойственно поддерживать своих и изничтожать чужих. Самоутверждение. Особенно, если они активно исповедуют свою веру. Вот и в “Белом звуке” не удерживаются... Молодые, тем паче...
А я немолод. Я могу (надеюсь, могу) вжиться в кого угодно. Но иногда - трудно, очень трудно. И знание о всяческих былых периодах повального нарушения логики, грамматики, синтаксиса, цепей значений, недомолвок, намеков - не помогает. Почему?
Недостаток таланта автора? - Не берусь судить (надо быть классным критиком, а я не из них).
Зато из общих соображений можно (ибо история -
повторяется) понять, почему данный автор так трудно доходит до ума и сердца читателя.Посмотрим на стихи Михаила Жилина.
В чужих волосах,
как трамваи, длинных.
А может, в косоглазом метро.
А может быть, даже в домах, страшно старинных,
где вот уже месяц не умер никто -
стыд.
Это, конечно, опять - как в “Стансах” - пейзаж души, городской пейзаж, как деревенский там, у Баратынского. А то, что садовая чаща как-то приемлемее, чем косоглазое метро или волосы, длинные, как трамваи,- так что? Разнузданнее с тех пор стали поэты? Или я старомоден, раз не приемлю? Или время теперь покруче?
Время и в прошлых веках было не райское. И я, наверно, не лыком шит, если сподобился - поверьте на слово -
понять десятки новомодных произведений. И разнузданность художников случалась не впервой. Иной раз - до маразма:“Бронза и золото услыхали цокопыт сталезвон.
Беспардон дондондон.
Соринки, соскребая соринки с заскорузлого ногтя. Соринки.
Ужасно! И золото закраснелось сильней.
Сиплую ноту флейтой выдул.
Выдул. О, Блум, заблудшая душа.
Золотых корона волос.
Роза колышется на атласной груди, одетой в атлас, роза Кастилии.
Напевая, напевая: Адолорес.
А ну-ка, кто у нас... златовлас?..” И т. д.
Таких строчек напечатано несколько десятков в самом начале XI-й главы “Улисса” Джойса. Потом идет несколько строчек пробела, и потом - собственно XI-я глава. Читая ее можно понять, что первые, непонятные строки это как бы краткая аннотация XI-й главы. Например, первая строка значит, что две барменши с волосами цвета бронзы и золота слушают, как по улице проносится кавалькада с вице-королем, как цокают копыта, звенит сталь сбруи... Вторая строка означает, как беспардонно обращается с барменшами коридорный. И т. д.
Ну, понял что-то... Ну и что? Это ж ребус, а не искусство. Джойс сам говорил, что нафаршировал “Улисса” так, что в нем и за сто лет не разберутся.
Не от хорошей жизни идут на такое художники. Вернее, от пошлости хорошей жизни. И правда, ну, посмотрели две барменши в окошко, ну и что? И все, что там было дальше и раньше - ну и что? Тысяча страниц ушла, чтоб описать один день - ну и что? Бессмыслен и день, и жизнь вся, как те 58 эпизодов в “аннотации” XI-й главы. И это ужасно. И от осознания ужаса вовсе не значит, что есть нечто выше пошлости.
И оттого - в маразм то в такой, то в этакий впадает Джойс.
А теперь вернемся к Михаилу Жилину. Чего это лирическому герою его стихотворения ото всего стыдно?
Улицы, как дети, идущие в школу,
ломают шаги случайных прохожих.
Только двери поношены тоже
и на дома, где не умер никто, похожи.
Туннель свело шумом поезда,
рельсы стонут еле дыша.
Люди замерзли - толчея. И. Стыд.
Ночью домой на последнем экспрессе
в район застоявшихся остановок.
Трезво смотрели в темноту окна -
взгляд от Стыда долог.
Ключ затвердел в замке -
зубья пообломались.
Ночь на лестничной клетке,
оскверненной потухшим светом,-
дождались утра раннего.
Новый район. Метро косоглазо.
Деньги - примерно, на ощупь.- Стыд.
Суть твердеет, как ключ в замке,
твой последний экспресс ушел налегке.
Сразу.
Если Михаил не читал Фрейда (или о Фрейде) и не знает, какое значение для сексуального невротика имеют обычные вещи: ключ и замочная скважина, поезд и туннель, прохожий и улица, вынос тела покойника сквозь дверь и т. д. - то можно только поразиться, насколько объективно в технике психоанализа разложено по полочкам - что есть что.
В стихотворении (если я правильно разгадал этот ребус) описывается, так сказать, пейзаж души некой горожанки, снедаемой похотью и стыдом. С одной стороны, она решила сегодня отдаться кому угодно и где угодно (и пришлось - на темной лестничной клетке, т. к. зубья ключа от ее квартиры обломились: нервничала, открывая), а с другой стороны, она сгорает со стыда от своего намерения и осуществления его.
Это опять, как у Джойса: глубокий пессимизм от пошлости жизни и от неизбывности этой пошлости. Ничто не возможно: ни принять жизнь такой низкой, ни найти в ней что-то возвышенное, ни уйти из жизни, ни изменить ее. Результат - стресс. Стресс - адекватно выражается бредом, который вы прочли.
Есть у Михаила Жилина еще стихи: стресс парня, остановленного ночью хулиганами; ночной стресс сочувствия соседу, у которого умер друг; стресс от бессмысленно прожитого дня.
И что? Это бред, а не искусство, как бы автор искусно ни вжился в больное сознание своего героя и как бы искусно ни передал его.
Срабатывает невыполнение специфического только для искусства функционального назначения искусства -
испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества (формула А. Натева).Искусство возникло 40.000 лет назад, когда неандерталец умер, оставив жить homo sapiens-а, когда тот стал социальным существом, когда еще зыбка была грань между животным и человеком в homo sapiens-е - и нужно было неосознаваемо для каждого воздействовать на каждого в интересах всех.
С тех пор специфическая функция искусства еще не менялась.
А те, кто ее игнорировал,- создавал не искусство, а околоискусство. И очень часто околоискусство проистекало из-за отсутствия идеала у художника.
Впрочем, кто подумает, что я против публикации произведений околоискусства,- ошибется.
25. 03. 1993 г. Одесса
Не все мертвечина
в “Мертвом театре”
|
Наверно, создателям нетрадиционного искусства в объединении “Мертвый театр” понравилось бы, если б их экспериментаторские изыски были расклассифицированы и вставлены в ряд с западноевропейскими и американскими новациями. |
Артистам “Мертвого театра”, безусловно, не понравится, если сказать, что с некоторой точки зрения то, что они называют нетрадиционным искусством, есть просто околоискусство, и трудность, мол, лишь в том, чтоб разобрать, какими именно тропками они туда скатываются (а трудности б не было, если б мы не были так долго отгорожены железным идеологическим занавесом от Запада, который давно уже по всем - нам новым - тропкам туда катится). Итак... |
|
|
Постмодернизмом, наверно, называется течение, в которое свою каплю влил Несси и группа “Психика” своим первым номером на двухлетнем юбилее-презентации объединения 4-го марта 93 года в ДК им. Л. Украинки. Сплошная деиерархизация, отрицание каких бы то ни было преимуществ одних категорий над другими (Курицын). Например, каков ответ на вопрос: куда лицом обращаться эстрадному артисту - к залу или к заднику сцены? Или вот: надо ли выделять собственно выступление из подготовки к нему? Ответ угадаете по принципу деиерархизации. |
Владимир Несси с гитарой вышел на сцену вместе с ударником и другим гитаристом и, став спиной к залу, принялся настраивать свою гитару. Впрочем, может, это уже было произведение, потому что ударник непрерывно не без ритмичности стучал. Вспомнился старый анекдот: иранского шаха повели в Большой театр на балет “Лебединое озеро”. “Какой музыкальный отрывок Вам больше всего понравился?” - спросили его после представления. “В самом начале, когда играли музыканты без дирижера”. (Настройка инструментов.) Мы смеялись лет 30 назад. А теперь группу “Психика” серьезно снимал киношник. И Несси снимал. Со спины. |
|
|
И публика, и работники средств массовой информации были конгениальны выражаемой “Психикой” деиерархизации: какая разница - зал или фойе - всюду слышно (так громко в зале). |
Некоторые зрители бродили по залу и фойе. Многие в зал и не заходили. И киношник снимал не только на сцене, но и в фойе. |
|
|
Постмодернизм... Растворение автора - в беседе, растворение текста - в анонимном бормотании... И это все надо было понимать. Это обозначает великие вещи, как заявляют теоретики (Курицын): конец эпохи рационализма с ее идеей прогресса и единственностью идеала, с иерархической системой ценностей (христианских, коммунистических и т. д.). Это обозначает зависание человечества между исчерпанным настоящим и проблематичным будущим. |
Несси все-таки повернулся к микрофону и произнес что-то. Песня? Ни слова не разобрать. На каком языке? А потом надолго замолк, продолжая то ли настройку инструмента, то ли разминку пальцев. Потом повернулся опять спиной к залу. Возможно, это конец первого номера его программы?.. Похоже. Потому что после этого повернулся к залу и запел как-то иначе. А потом - снова настройка. Никакого ладу. Только ударник держит ритм. Потом, возможно, был третий номер с таким же кратким пением и длительной настойкой до пения и после. Наконец, Несси простер руки в стороны ладонями вниз, и звуки смолкли. |
Короткий аплодисмент..
|
Это все надо понять. Но... Иные теоретики (вполне в духе плюральности истины, исповедуемой постмодернистами же) трактуют этот “изм” наоборот - прорелигиозно: как Бог, мол, совершенно нетождественен всем видимым своим появлениям, так и Сверхценность - в произведении - невыразима, и чем меньше о ней сказано, тем лучше, ибо слушать ее - значит вслушиваться в немоту, глохнуть, приближаясь к Абсолюту как отрицанию всех утверждений. Иными словами - минималь-арт. В живописи это холсты, равномерно окрашенные, расчлененные большими упрощенными формами. Ну а в музыке это, видимо, что-то подобное исполненному Владимиром Несси теперь уже на фортепиано: полная невыразительность равномерных ударов по одной и той же клавише. |
Группа ушла. Несси сел за фортепиано и принялся долбить одну ноту. Равномерно. Целую, целую, целую. Потом другую ноту. Потом двумя руками. С той же частотой. Аккорд стал долбить. То один, то другой. Совершенно равной длительности и частоты. Потом - пониже тоном и пореже. Потом, постепенно - повыше и почаще. А потом - пореже и потише. Потом погромче и почаще. Потом опять на одной ноте. |
|
|
Скучно - зато здорово. Отрицает и, значит, хорошо. |
Совсем необычно. И - крики: браво... Впрочем, может, в предвкушении более занимательных номеров... |
|
|
И то, |
И то, |
в результате, годилось для предварения третьего, под названием “хепенинг”, что есть коллективная акция, включая зрителей, провоцирующая свободу каждого участника в манипулировании предметами и собой.
Что артисты знали, что к хепенингу шло, говорит то, что, когда пришло и один из затанцевавших зрителей взобрался на сцену, чтоб продолжить танец там - никто на сцене не растерялся, прогонять со сцены не стал, ибо в этой разнузданности воплощалась заражающая сила рок-музыки.
Доведи присутствующие этот хепенинг до логического конца, то, сообразуясь с духом Великого Отрицания, наличествующего в так называемой молодежной контркультуре вообще и, в частности, в номерах, представленных на презентации “Мертвого театра”, должны б были быть разломаны кресла в зале и музыкальные инструменты с аппаратурой на сцене.
И это было бы вполне по-авангардистски. Ведь что такое авангардизм? Это не только непрерывное,- как написано в программке презентации,- экспериментаторство и новаторство. Это когда жизнь настолько омерзела, а революция (чтоб жизнь перевернуть) настолько медлительна, что ждать самым нервным оказывается невозможно, и искусство - это дитя свободы - превращается в жизнь, каким бы личным крахом акция ни грозила.
Вполне похоже, в начале века, ультра-р-революционеры футуристы, после революционного спада, после поражения революции 1905 года, устраивали свои “
пощечины общественному вкусу” пошляков буржуев в “Бродячей собаке”, кончавшиеся скандалами. И во вполне похожем хепенинге, в США, участвовал недавно мой родственник (потому знаю точно), когда праздновавшие освобождение от трудов праведных только что закончившие математический симпозиум ученые в возмущении против вещизма общества вообще и хозяина их роскошного отеля в частности (за удовольствие стодолларового суточного проживания) устроили разгром в гостиничном бассейне - что называется “с жиру побесились”.Все это вполне по-авангардистски.
Однако, ни одно кресло в зале ДК им. Л. Украинки в тот вечер поломано не было. Тем более - ничего на сцене. Дело, в итоге, обошлось (хоть в туалете заблаговременно была выпита не одна бутылочка) всего лишь вольными танцами перед сценой, да в заднем ряду, да упомянутый один зритель влез на сцену, поплясал и слез, да три-четыре пьяных выкрика было.
Что не расковались совсем? Смалодушничали великие отрицатели? Или эпоха рациональности еще не вполне все-таки кончилась? Или вообще публика авторов не поняла? (Бывает. Хорошо сказано, мол, если кто-то из всей “Войны и мира” вынесет только технологию соблазнения Наташи Анатолем Курагиным, то Толстой в том не виноват.) Или авторы все-таки: не сумели завести?
Всего, наверно, понемногу. А точнее - таков постмодернизм: Сомнения больше, чем Отрицания.
Но беда в пятом.
Беда в том, что объединение “Мертвый театр” валит в кучу все, что ОТРИЦАЕТ, и молодые артисты думают, что занимаются нетрадиционным искусством. А такового - нет в природе (новое - это основательно забытое старое). История искусства развивается по синусоиде. Каждый период хоть отличается от предыдущего, но и похож! Искусство глубоко традиционно. И за последние десятки тысяч лет его специфическая функция еще не изменилась:
непосредственно и непринужденно испытывать сокровенное мироотношение человека в целях совершенствования человечества.Исходя их этого определения я отрицаю самое простецкое понимание молодежной контркультуры как воплощение сатанизма (с точки зрения верующих), антиискусства и нигилизма (с точки зрения атеистов).
Искусство или есть, или его нет. Антиискусства нет.
Искусство возникает, когда природа колебалась, по какому пути ей пустить дальнейшее развитие предчеловека: по пути естественного отбора или по социальному пути; по прежней дороге животных или по новой, человеческой. Выбор пал на второе. И стадо человекообразных стало и сохраняется обществом в значительной мере благодаря искусству. С его помощью удается в своих интересах влиять на каждого, неосознаваемо для него самого. Гениальное изобретение!
Зачем рисовали бизонов, а не черепах? Затем что лишь всем племенем можно было забить бизона. Бизон символизировал Человеческую Силу, Общество. Кроманьонцу, чтоб дичь поймать, надо хватать ее, а не вспугивать. А может он поймать бизона сам? Нет. И вот он - загонщик. Он делает нечто прямо противоположное тому, что делал бы, будь зверем. И нарисовав бизона, он воспевает свою человечность.
Однако животное в человеке никогда не умирает. Потому актуальность искусства в чем-то вечна: почти зверские общественные устройства сменяют друг друга. Но лишь малые группы людей в исключительных ситуациях оказываются в положении, когда представляется: все! конец человечеству! И тогда возникает потребность в антиискусстве, дабы помогало оскотиниться. Например, бывали случаи в XVI веке, когда при кораблекрушении на необитаемом острове оказывалась группа матросов с одной-двумя женщинами и без никаких орудий труда; надежды, что несчастных найдут, в тот век были нулевые; и спасшееся общество превращалось в стадо с доминированием вожака, который за обладание женщинами и первоочередную еду убивал всех неподчинившихся или просто всех мужчин. Вот когда время быть антиискусству. И оно не будет истеричным и упадническим: за ним большинство “человечества”.
Во время первой мировой войны до подобного мироощущения (конец человечества, мол!) дошли некоторые тонкокожие и слабонервные художники, назвавшиеся дадаистами. Им показалось, что все с ними согласны. Результат - спокойный тотальный нигилизм. Марсель Дюшан, например, в 1917 году пытался поместить на выставку в качестве скульптуры новенький писсуар. Те, кто иначе расценивали судьбу человечества (и распоряжались выставкой), экспонат не приняли: потому что эстетизация писсуара - живем, мол, чтоб пить и есть, а пьем и едим, чтоб испражняться - вполне годится в качестве антиискусства, мол, предназначенного начать приспосабливать человека в скота - и человечеству не нужна.
(Не путайте только дадаизм с поп-артом. Поп-арт тоже выставляет... унитаз, но грязный, прямо с работы и готовый работать, с названием “Для отправления нужд духовных и эстетических” - блюйте, мол, в него от отвращения к вещизму, от отвращения, которое поп-артист вознамерился немедленно внушить погрязшей в вещизме же публике. Не путайте. Это не заявка на антиискусство, а авангардизм: действовать - немедленно, и - прямо в жизни, среди исповедующих вещизм, и - при полной обреченности на провал.)
А антиискусство - существуй оно - не чувствует себя обреченным на провал, оно призвано было б делать существование духовно беспроблемным: потребность - удовлетворение. И никаких комплексов. Допервобытный охотник поймал птаху - съел - и никаких долгов перед племенем. У человека же - тормозные процессы в мозгу сильно развиты. А животное - непосредственно. Хочу - делаю.
Да вот только когда людей очень много вокруг - на субъекта, раскованного до животного состояния (в отличие от обитателей необитаемого острова) это его исключительное положение давит. Раскованный - нервничает, у него возникает потребность немедленно - от безнадежности - всех обратить в свою “веру”, и он выходит прямо в жизнь, становится обреченным на поражение авангардистом (если avantgarde - выдвинутый вперед - применимо для движения назад, к животному), т. е. он свой опус и не рассчитывает так, чтоб действие его - даже на себе подобных - было отложенным во времени, подсознательным. Это обрекает автора на использование простейшего из воздействий - на заражение (что уже не есть собственно искусство по психологическому механизму). И антиискусство, лишь заявив о себе, тут же становится просто неискусством.
И еще проще действует автор: прибегает к прямому физиологическому воздействию. Известно, что максимальная громкость, навязчивый ритм отупляют, наркотизируют мозг, делают его менее ранимым, и в таком состоянии человек сделает то, что не мог бы позволить себе, будучи не оболваненным. Этот феномен уже ни с какой стороны к искусству не относится. И антиискусством это назвать - слишком шикарно.
А если в заявке на антиискусство даже блеснет намек на отложенное действие (например, допустимо, что не сразу дойдет, что хотел Дюшан сказать писсуаром, и, следовательно, есть акт сотворчества догадавшегося насчет ухудшения человечества) - так упрямое это и легкомысленное человечество тут же изобретение крадет себе на потребу - на свое совершенствование. И - антиискусство опять не состоялось.
Например, сознавал Хемингуэй или нет, но он в “Прощай, оружие” взял дюшановское обращение к невозвышенным, так сказать, предметам, и вот что получилось (по мотивам статьи Э. Соловьева “Цвет трагедии - белый”)
:“Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как “слава, подвиг, доблесть” или “святыня” были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек...
”Так было в группах беспорядочно отступавших или организованных дезертиров. Нравственность не исчезла в бесчеловечной войне. Она опустилась на уровень малых групп братьев по несчастью. Эта группа не признает ни Закона, ни Морали, но она знает дисциплину и взаимопомощь, для нее не теряет смысла различие между геройством и малодушием, верностью и предательством. Их нравственность - непосредственная обязанность перед людьми. Они могут расстрелять того, кто бежит и оставляет их в беде (автомобиль в грязи застрял). Но они не тронут невинных девушек, как бы ни хотелось:
“
Не бойся, сказал он.- Никто тебя не ... - Он употребил грубое слово. - Тут негде... - Я видел, что она поняла слово, но больше ничего. В ее глазах, смотревших на него, был смертельный испуг. Она еще плотнее закуталась в свою шаль. - Машина полна,- сказал Аймо.- Никто тебя не... Тут негде...”А в зале ДК им. Л. Украинки на заднем ряду в порядке развертывающегося хепенинга взасос целовалась пара. Кто знает, чем бы у них кончилось, если б хепенинг был доведен до конца, как требуется Великим Отрицанием, но не Великим Сомнением.
Но “как требуется Отрицанием” как раз и не случилось. Потому что туфта все это. Вот почему в зале было из миллионного города лишь человек 70, танцевало 10, ушло задолго до конца 30.
Я б предложил эксперименты и новаторство объединения “Мертвый театр” назвать не нетрадиционным искусством, а нетрадиционным околоискусством. И это название очень хорошо бы стыковалось с теоретизированием о постмодернизме как деиерархизации, бормотании. А можно проще сказать - упадничество. Никакой это не постмодернизм, а просто модернизм, который повторяется в веках и всегда включает в себя декадентство собственно безыдеальности и авангардизм, который хоть и с идеей, но безнадежной в смысле внедрения, а хочет-то внедрить, и потому - упадничество. Вот всяческое упадничество и способно лишь на околоискусство, очень психологически просто организованное. А искусство, организованное сложно: заражение одним (1) - заражение противоположным (2) - уничтожение обоих чувств (3) - возвышение чувств (4), - оно модернисту не под силу.
А как же насчет минималь-арт и невыразимой Сверхценности?
А нет там Сверхценности. Приведенные (а ля теологические) теоретизирования (например, Эпштейн себе их позволяет) это просто дань моде на религию в странах СНГ. Честный теоретик (Курицын) и религию, и коммунизм, и сатанизм - вы читали сами (я демонстрировал) отвергает. Он, правда, говорит: о “плюрализме идеалов”. Но это уже другая конъюнктурщина. Идеала у постмодернизма нет.
Действительно, взять такой минималь-арт, как орнамент в исламских мечетях. Он в самом деле о Сверхценности невыразимого Бога бормочет невнятно. И эта невнятица внятна верующему, воспитанному на каноническом исламском искусстве орнамента. Но канон - это то, что всем (мусульманам) известно с детства.
А теоретик Курицын честно признает, что постмодернизм внеканоничен. Так кто ж тогда поймет Несси, когда он равномерно и долго бьет по одной клавише, а потом, так же, по другой? Никто. Потому что за этим нет идеала. А есть лишь задача на физиологическое раздражение, провоцирующее рвануться в какое-нибудь отрицание действительности, да никуда не двинуться. Заражение. Околоискусство.
И то же, думаю, с шаманским мычанием и поразительно долгим, без передышки, завыванием солиста группы “Золотой век” и с психологически неоправданными конвульсиями лидера группы, давшей название всему объединению.
*
Так вот (вы не забыли?) беда объединения, что оно валит в один концерт все отрицания: и околоискусство, и искусство.
Да! Было и искусство. Оно всегда, в пику модернизму, как-то да сопряжено с победой (при всем отрицании действительности, что в нем есть). Представлено оно было группой “Нормандия - Неман”.
|
А отрицать, судя по названию группы, было что: войну (а по-нашему, злободневному - политиканство). Как нехотя втягиваемся мы в какие-нибудь выборы, референдумы, так, нехотя, по версии группы (я так понял), втягивались французские летчики, уже выбитые из войны поражением Франции, опять в борьбу с ее врагом. Надо переступить через себя и ввязаться. Из высших соображений. А можно высшие соображения назвать низшими. И вырвавшийся из фона - это не отвергает. Ницше, проповедуя сверхчеловека, не от эгоизма отрекался, а от слабенького эгоизма: втянувшись в бой, надо побеждать. А в борьбе эгоизмов безусловно победит суперэгоист. Значит, он - ценность, он - красота. Нечеловеческая, но красота. |
Опять настройка инструментов, опять ужасный рев двух гитар и шквал ударника. Совершенно отвращающие тембры и громкость. Но... дивный голос Ады Мальчик (так значится в программке единственная женщина в группе) звонко пробивается сквозь все. И что Аде рев, что ей развязно танцующие люди перед сценой и на сцене, что ей топот ног, содрогание кресел, боль в ушах от громкости, что ей, кажется, сама смерть (сопровождение имитирует дикий вой пикирующих самолетов, пулеметные очереди воздушного боя). Она, как воинственная валькирия, - надо всем этим хаосом безобразия летит к победе над ним. И, мерзкие как бы сами себе, гитары смолкли, уступив, побежденные, дивным голосом, поющим во всю грудь себе в удовольствие; и чуть отстав - смолкли пьяные крики введенных в раж слушателей. |
Я б переименовал услышанное от “Нормандии - Неман” так: “Есть упоение в бою”. Противочувствие, вызванное голосом (раз) и инструментами (два) развоплотилось (три) для меня в переживание идеала сверхчеловеков.
Это, знаете, как у Лермонтова Демон во второй и третьей редакциях одноименной поэмы решил победить в себе человеческую любовь к Тамаре и удалился от грешной, мерзкой земли на ледяные вершины Кавказа, недоступные людям:
Он на хребет далеких гор
В ледяный грот переселился,
Где под снегами хрустали
Корой огнистою легли -
Природы дивные творенья!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он зажигает темный лес,
Любуясь на пожар трескучий.
Скалы на корне вековом
Срывая, как нежданный гром,
Свергает вниз рукой могучей -
И гул подъемлется кругом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И часто подымая прах
В борьбе с летучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Он дико мчится в облаках...
А Врубель это изобразил дивными каменными цветами в “Демоне сидящем”.
Здорово, “Нормандия - Неман”!
И третий раз повторю: “Жаль, что в “Мертвом театре” все отрицания валят в одну кучу. Жаль”. Получается как бы промашка: как бы лишь технологию соблазнения Наташи извлекать из “Войны и мира”.
У искусства сложные отношения с нравственностью (оно ее испытывает). Но сводя дело к безыдеальности, оно перестает быть искусством.
А идеалы ж бывают разные. Ого, какие разные! Всегда есть, что выбрать по душе.
11. 04. 1993 г. Одесса
“Искусство?.. Его нет. Это все из-за денег и тщеславия”.
Л. Толстой
Когда б вы знали, из какого сора...
Растут импровизации.
Одна состоялась 04. 04. 93 в клубе “Белый звук” - импровизация Полищука, Фесенко и других на синтезаторе, свирели (что ли?), ударных и голосом. В присутствии человек... Кажется, и десяти не было.
А сором были акварели Татьяны Аболешкиной, представленные ею в клуб.
Я дикий человек, может быть: не привычный к синтезатору, я хоть и видел “Солярис” и иные фантастические фильмы с электронной музыкой, хоть и слышал синтезатор в грамзаписи, но услышав его вживе... Нет слов. Но, взявшись все же написать, я так скажу. Я как бы попал в Индию, в Полинезию, в экзотические места, где всё-всё, ну, буквально всё - непривычно, необычно: и деревья, и травы, и солнце, и тень, и запахи, и звуки, и строения, и люди. И все - роскошно, благостно, блестяще, сверкающе, ужасающе. Все - в предельной степени.
Тембры. О, эти тембры! Мне 55, и в эти годы удивить чем-то - диво. А я удивлялся, минута за минутой, как дитя.
Вспомнилось, как один герой де Сент Экзюпери рассказал, как сбили спесь с мавританских вождей-кочевников из непокоренной Сахары:
“- Знаешь... ваш французский бог... он куда милостивее к французам, чем бог мавров к маврам.
За месяц перед тем им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду - точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким грохотом.
- Отведайте-ка,- сказал им провожатый.
Это была настоящая пресная вода. Вода!”
А тут - без всякого перемещения в пространстве..
.Ассоциация с музыкой была такая, будто из хаоса в муках и радости рождался космос и, возрадовавшись рождению,- он тут же страдал от бесцельности своего создания и от неизбежности гибели. И гиб. И именно космос, а не человек, скажем,- потому что звуки такие: как в огромном пространстве звучали.
И то сказать, чем не целый мир - один-единственный человек? Вполне. Но в те миги думалось о космосе. Не меньше: прошло уже 15 миллиардов лет, как из первоатома взорвалась наша Вселенная; пройдут еще миллиарды; она перестанет расширяться, станет сжиматься и слипнется опять в первоатом; и кто ее знает - в следующем взрыве будет ли она трехмерна или только двух- или одномерная...
Но пока - нынешняя - чудесна. И вся ее чудесность была предопределена сырьем, тем хаосом, из которого она сотворилась.
Роскошный хаос.
Это как начинающим живописцам дают урок: почувствовать краски. Не тот урок, когда просят кого-то что-то намешать, а обучаемого - повторить смесь, а другой урок: почувствовать насыщенность цвета, т. е. степень отличия цвета от серого, когда учащийся проверяет и убеждается, что чем ближе смешиваемые краски друг к другу в цветовом круге, тем чище и ярче смесь, а все - можно подобрать всего из трех - красного, желтого и синего. Все! Все миллионы оттенков. Так заложено в доприродных законах, когда смешивания еще не было!..
Я бы назвал ту музыкальную импровизацию - “Экзистенциализм”, или понятнее - “Драма существования”.
А пишу все это потому, что уж больно близко услышанное к тому, что теоретики постмодернизма называют деиерархизацией, отсутствием предпочтений одних категорий перед другими. По-простому - конец, мол, времени, когда что-то было хорошо, а что-то - плохо. Даешь, мол, плюрализм!
Действительно, то, что звучало в клубе, похоже на плюрализм и деиерархизацию. Во-первых, сам жанр импровизации: все создается на ходу, наверно, во многом без предварительной договоренности между исполнителями. Потом: само начало выплывает как бы из настройки синтезатора. Далее: сам конец неопределен - кто-то уже закончил... кто-то - еще продолжает...
Да. Похоже на тот пресловутый “изм”. Но... Так да не так.
Деиерархизация - напористо отрицает всё. Она - удел разочаровавшихся и не только не нашедших другого очарования, но и уверенных, что очарования и не будет уж никогда, не может и не должно быть. Результат такого умонастроения - безобразие, заражение безобразием и - неискусство. Серое - если в цвете.
А здесь - драма, драма существования. Да: и разочарование тоже здесь есть, долей. Но какие дивные звуки, какое богатство тембров. “Трагически прекрасная жизнь!”- как бы восклицают импровизаторы. А если жизнь даже и не состоялась, то - при таком роскошном по возможностям хаосе - какой великолепный шанс ей все-таки состояться в другой раз, в другое время.
Грустно? - Грустно. Но эта грусть с потенцией противоположного! Это опять все то же: присущее “Белому звуку” соединение несоединимого, а иными словами - барокко, в веках повторяющееся барокко.
*
А теперь - о той грязи, из которой лотос растет незапятнанным и о которой - эпиграф.
Женщина, не рисовавшая, по ее словам, даже в детстве, нашла акварельные краски, завалявшиеся в доме еще со времен третьего класса ее школы, и принялась их разводить и кистью наносить на листы. Лист за листом. Десятки - за десять месяцев. Ничтоже сумняшеся. Без замысла, без мук творчества, без чувства брака, хочется добавить - без божества, без вдохновенья, без слез и т. д. Хотя она робко предполагает, что некое вдохновение ей ведомо (“без него картинки не идут”), что некое как бы божество попользовалось ее рукой, вернее, она утверждает, что не рукой, а душой (как евангельский Бог - лоном девы Марии, сказал бы я, а присутствовавшие на встрече с автором уфологи уповали, что инопланетяне ее рукой попользовались).
Пострадавшая (потому пострадавшая, что нарисована получилась просто бяка какая-то, мряка, серятина) пострадавшей, однако, себя не чувствовала: душой же ее попользовалось нечто Высшее. Это как ребенок - рисует поверх уже нарисованного прежнего рисунка и прежнего для него не существует.
*
Вот этой искренностью и вдохновился Полищук с товарищами и, тоже как дети, не обращая внимания на болотный колорит акварелей, создали ярчайший фейерверк звуков: их воображение дорисовало им в акварелях отсутствующую там яркость, насыщенность и чистоту тонов.
Все верно. Наверно, и Моцарт вот так вдохновлялся жалким скрипачом из кабака.
Но и сам Моцарт не удержался бы на уровне искусства, если бы не заходил дальше, так сказать, смешивания красок.
Один-единственный раз у Моцарта удалось выудить, как он творит. Вот какая получилась, по его словам, последовательность:
<<
1) хорошее самочувствие, настроение, тихо, никто не мешает;2) музыкальные мысли приходят наплывом, готовые;
3)те из них, которые мне нравятся, я удерживаю в памяти, напевая;
4) если я их удерживаю прочно -
5) скоро приходит в голову, как можно использовать такой-то отрывок...
>>Обрываю. Здесь поворотный пункт. Здесь переход от смешивания красок к их использованию ДЛЯ.
А если остановиться на этапе хаоса, а тем более, если стремиться тут же вернуться в хаос, стараться размыть произведение как таковое, так и не дав ему родиться, если - более того - принципиально исповедовать деиерархизацию - получится неискусство.
Импровизация, как менее требовательная к себе ипостась творчества,- чревата. А “Белый звук” - заметно - находится на опасном краю пропасти, заигрывая с неискусством. Поэтому я, например (считайте ретроградом), хоть обрадовался тому, что удалось осмыслить импровизацию,- потом испугался: обещанию, что импровизации будут продолжены.
Пропасть нервных тянет, если в нее смотреть...
*
А тут ведь не только тянет вниз, а и сверху толкает, опять же - вниз.
Хроническая в ХХ веке беда давно расставшегося с социальными революциями Запада - незанятость души - уже совсем поглотила наши страны бывшего СССР. И там и тут людей чутких мучает скука негероического, какого-то полуживотного существования обществ потребления. Пустое небо хочется чем-то заполнить. Неопознанными летающими объектами, например, некими внеземными цивилизациями, желающими вступить с нами в контакт, высшим разумом, движущим этими цивилизациями и некоторыми из нас, скажем, прорицателями, экстрасенсами. Хочется. Целым слоям толпы чего-то в этом роде хочется.
И есть, всегда был, некий механизм, услужливо готовый предоставить то, что хочется, или сделать осознанным то, что еще лишь смутно хочется. И механизм этот (да! опять!) - один из многочисленных ипостасей околоискусства. В литературе прошлого века это околоискусство называлось словом “беллетристика” (легкое чтение, чтиво). Теперь это, кажется, называют попсой, только это шире, чем литература. Или еще иначе - масскульт. “Искусство” средних и для средних. Обращаю внимание, я слово “искусство” взял в кавычки.
Искусство без кавычек специфически предназначено для испытания сокровенного мироотношения человека. Оно мучает. Художник - мучается в самовыражении идеала, а слушатель - в сотворчестве. Человек в искусстве испытывает потребность, но не сплошь. Это как хотеть любить на фоне полового влечения. Любовь - мучает. А есть много чего без негативных моментов. Так и в искусстве с околоискусством разбираемого нами толка. Оба - удовлетворяют потребности, много какие: компенсаторные, воспитательные, общения, развлечения, познавательные и т. д. и т. п. - десятки. Но только одно - искусство - испытательные.
Искусству, чтоб испытывать, нужно как бы сгибать нас в одну, в другую сторону, в одну, в другую. Оно пользуется противочувствием. А для этого противочувствия - всякими трудными для постижения вещами - развоплощением материала формой, например. Классический пример Выготского: материал - толщенные стены - развоплощаются стрельчатой формой окон готического собора в (это возвышение чувств) чувство парения к Богу.
Так это - если испытывать.
А если не испытывать и удовлетворять потребности иные - и развоплощать материал формой не надо, и из противочувствия - лишь дразнение использовать достаточно (закрутить сюжет или оборвать главу или серию на самом крутом месте и перескочить на другую сюжетную линию; а на возвышение чувств - плевать; лишь бы занимательно было, неожиданно или, наоборот, предсказуемо: например, чтоб БОГАТЫЕ так тягуче ПЛАКАЛИ, что последний тупица себя умнее автора чувствовал - тоже дразнение чувств, в частности - смотреть или плюнуть).
Удовлетворители (назовем так этих художников) могут быть и талантливы, и творить в изрядной мере бессознательно. Вот Таня Аболешкина, например. Но обязательно они работают на удовлетворение социального заказа.
А это противно “Белому звуку”. Он не хочет отдать Таню социальному заказу уфологов и иже с ними и заказал свой - импровизацию - вольное становление, столь присущее Тане.
Но полуосознаваемый ее идеал, может, и вытянет ее на уровень техники повыше любительского и на уровень задач повыше, чем бессознательно или осознанно удовлетворять потребности слоя.
А вот “Белый звук” очередное отталкивание от идеологии, от дурно заполненного неба - как бы не толкнуло все-таки в пропасть.
Апрель 1993 г. Одесса
Верлен - Брюсов - Цой - Мостовой
Обычная картина: зритель пришел в музей живописи, походил-походил, посмотрел-посмотрел, ничего не тронуло, и он ушел, досаду подавляя втайне (к искусству все же приобщался).
Так вот, оказывается, не только его эстетическая безграмотность или душевная черствость виноваты. Очень много неискусства около искусства всегда бывает.
А произведение искусства - вещь деликатная. Его понять надо. Иное веками не поддается. И потом, столетия спустя, искусствоведы защищают диссертации и публикуют статьи, открывая художественный смысл, скажем, “Меланхолии” Дюрера.
Ясно, что музейные деятели набивают запасники музеев едва ли не чем попало: как бы не проворонить золотую песчинку в тоннах руды. Я эту мысль от самого Пиотровского, директора Эрмитажа, слышал (по телевизору). И обрадовался: “Вот почему я в музеях так холоден в большинстве случаев!”
Критику, наподобие музейщиков, тоже надо подходить очень осторожно к непонравившейся вещи.
Так оговорившись, я теперь прямо могу сказать, что мне не понравился первый же стих в тетради Ивана Мостового и не хотелось читать дальше.
Сначала шел снег, а потом пошел дождь
А за ним два дурака, Два дурака
Сначала был смех А потом любовь
А осталась тоска Осталась тоска.
Сначала был сон, а потом явь.
Там где виделся брод там пришлось вплавь
Сначала был бой, а потом боль
Там горела сталь, а осталась печаль
Сначала крик а потом стон
А осталась земля да на ней холм
Сначала был путь, а потом смерть
Да в конце концов опять пошел снег
EACDE
Два дурака. Июль 1992 г.
Бледные потуги на многозначительность: мол, все проходит - скучно жить. Что именно “все” - должен символизировать большой набор явлений: погодных (снег - дождь), психологических (сон - явь), личных и общественных (любовь, бой - и нечто от их перерождения). Наконец, на “все” работает прямое почти философское обобщение:
Сначала был путь, а потом смерть
И как чувствуется шероховатость от разной степени конкретности противоположных “путь” и “смерть” (“жизнь” надо бы вместо “путь”), так чувствуется шероховатость от самого набора явлений. Например, с чего бы тут “бой”
, “горела сталь”? Афганская война, правда, была. Но страна ее перенесла совершенно подло, как будто она где-то за тридевять земель шла и нас не касалась. Повторю, я об обществе в целом говорю. Демонстраций протеста практически не было, самосожжений, массового брожения умов. (Вспомните, как США бурлили против вьетнамской войны...) А ведь взят именно общественный аспект: в стихотворении идет нарастание масштабов явлений: погода - личность - общество - жизнь. Так вот на “общественной” ступени - что-то сомнительное: не звучала тема в свое время. А то, что потом - зазвучало, так после боя кулаками не машут. Да и в других звеньях цепи образов какая-то невнятность: как там с оценочностью? Что хуже: снег или дождь? бой или боль? Что лучше: смех или любовь? крик или стон? Нельзя сориентироваться в этом и по порядку расположения. На первых позициях: “снег”, “смех”, “стон”, “брод”, “бой”, “крик”. И если “бой” и “крик”, как некая раскованность, размах,- скажем, позитивны,- то разве таков же “брод”? Брод же сужает действия?А может, безоценочность была заданием автора?
В смысле безоценочности примером стихотворения на ту же тему может служить (извините за гениальность примера) Тютчев:
От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...
Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят, - и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих - лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
Сравнение Мостового с Тютчевым - убийственно. И я б не стал ничего этого писать, если б случайно, честное слово, случайно, не наткнулся, как раскритиковали когда-то Брюсова, тогда еще малоизвестного поэта, за его перевод Верлена, поэта-символиста, еще неведомого России, как неведом ей был еще и сам символизм. Вот отрывок того разноса, и примерьте его к Мостовому:
<<
Кроме этих очень некрасивых повторений вместо рифм...[
А за ним два дурака, Два дуракаА осталась тоска Осталась тоска
Это ж у Мостового - внутренняя рифма так прорывается. В других случаях эта внутренняя рифма не является повторением слов: “бой - боль”, “путь - смерть”, но и тут - очень некрасиво рифмуется. Так что - применимо...]
Кроме этих очень некрасивых повторений вместо рифм мы видим здесь и другие повторения, которые делают выражение этой бледной беспричинной тоски еще бледнее, бесцветнее. Вместе с тем это нисколько не делает стихотворение более ценным, так как читатель выносит впечатление тоски не от такого же чувства, а просто от его скучной и дурной манеры писать, от той трудности, с какой дается ему процесс писания и управления своим языком
>>.Правда, похоже на Мостового?
И я насторожился.
Тютчев свою “Дорогу во Вщиж” написал как редкостное в его творчестве выражение полнейшей безыдеальности. Это стихотворение - исключение. Все остальные вещи он, когда писал - притворялся: то имеющим высокий, одухотворенный идеал, то имеющим низкий, чувственный идеал. И к писаниям своим относился - отвратительно (может, за лживость). А в “Дороге во Вщиж” - в единственной - он не притворялся. И здесь - он полностью декадент по сути и совершенно не декадент по форме. Декадент не способен создать произведение искусства, тем более - гениальное. И случай с Тютчевым - еще одно исключение. (А исключения ж - подтверждают правило.) И смысл исключения в том, что Тютчев, хоть и жил большей частью в Европе и в то время, когда там в очередной раз в повторяющейся истории распространилась массовая безыдеальность и выражающее ее декадентство, - так вот, хоть Тютчев жил там и тогда, - но он был слишком русским душою (а в России в середине XIX века до безыдеальности и декадентства еще не дошло) и потому по-декадентски, т. е. омерзительно, писать стихи не мог себя заставить. Т. е. они чисто по инерции - традиционны и чисто случайно (из-за гениальности Тютчева) - гениальны.
А вот Верлен и Брюсов - символисты. И декадентами символистов называют лишь по ошибке (а если не по ошибке, то - лишь свихнувшегося, так сказать, со своего символизма художника можно назвать декадентом; символист - это несгибаемый духом в безнадежных обстоятельствах, а декадент - это то, что получается, если несгибаемого все же перегнуть - он ломается).
Так вот символист - это устремленность в запредельные дали и выси из безнадежных: и сегодня, и завтра, и послезавтра. “Да, жизнь - с наличием смерти - безнадежна. В сумме - это мерзость. Но есть сверхжизнь!” - кричит или смутно чувствует символист. Когда кричит - получается такой стих (Брюсова, писавшего много позже смерти Тютчева и после завоевания символизмом авторитета в мировом искусстве):
Жить лишь до смерти - слишком мало!
Того не допустил творец,
Пути безгранны идеала,
Далеки цели и венец.
Смерть! смерть земли! твое где жало?
Жизнь! жизнь земли! твой где конец?
А когда художник (еще, может, лишь потенциальный символист) из своего р-р-разочарования во всем - смутно докапывается до чего-то типа “сверх” (а Верлен, да и ранний Брюсов, Верлена переводивший, может, как раз и были в той, докапывающейся, стадии) - тогда получается то стихотворение, которое,- я цитировал,- так хлестко поругали когда-то:
Небо над городом плачет,
Плачет и сердце мое.
Что оно, что оно значит,
Это унынье мое?
И по земле и по крышам
Ласковый лепет дождя.
Сердцу печальному слышен
Ласковый лепет дождя.
Что ты лепечешь, ненастье?
Сердца печаль без причин...
Да! ни измены, ни счастья,-
Сердца печаль без причин.
Как-то особенно больно
Плакать в тиши ни о чем.
Плачу, но плачу невольно,
Плачу, не зная о чем.
Бесспорная отрицательная эмоция тут. Да?
Понимаете,
эмоция в искусстве - тоже идея. Ибо эмоция дана не как самоцель, а как ценность: положительная или отрицательная. Тем самым произведение содержит оценку эмоций, а значит и идею эмоций (Гуковский). “Да, не знаю!- как бы между строк плачет автор.- Но...” И вот в этом “но” и троеточии - то “сверх...”, что создает ауру стихотворения.А теперь, если вернемся к началу, то увидим, что и “Два дурака” окружены такой же аурой. А “Дорога во Вщиж” - нет.
Позвольте мне не доказывать, что у Тютчева “сверх”- ауры нет. Перечитайте его еще раз и убедитесь, как здесь ровна и спокойна эмоция.
А вот у Вани Мостового все иначе. И название оценочное - “Два дурака”. И набор слов: “дождь”, “тоска”, “боль”, “печаль”, “стон”, “смерть”... Этот набор явно перевешивает противоположное, явно положительно окрашенное: “смех”. Уже слово “любовь”, как противоположное смеху, подразумевает нечто, видно, от страдания, а не от счастья. А подразумеваемые как позитивные “брод”, “бой”, “крик”, “земля”, “снег” - как-то сомнительно позитивны. А так как “снегом” кончается и как бы начинается новый, в общем минорный комплекс, то “снег” перекочевывает в минор.
Мостовой очень старался быть простым, понятным и якобы нейтральным. Но у него не вышла нейтральность. А у Тютчева - вышла.
Однако, в том, что не вышла - быть может - спасение Вани. Потому что в безыдеальности может сделать шедевр - только гений. А вот обретя идею, даже брезжащую, - можно на что-то рассчитывать даже с тенью таланта. Да еще - если ты честен.
А Мостовой - вот что безусловно! - честен. Думаю, он не шлифовал свой стих: как вылился, так и остался. На шесть долженствующих рифм в конце 12-ти строк у него набралось две чистых (“дурака - тоска” “явь - вплавь”) - и хватит. С перекрестной худо-бедно рифмовки (абаб) перескочилось уже во втором четверостишии на смежную рифмовку (аабб) - ну и ладно. 5 запятых и 2 точки на все стихотворение, думаю, просто от небрежности, а не от постмодернистской деиерархизации всего и вся, смысла в том числе (у Мостового довольно внятная мысль проводится). То же - заглавные буквы не после точек. Безграмотное двойное применение союза “а”: “Сначала был смех А потом любовь / А осталась тоска...” - того же поля ягода: небрежность.
Впрочем, небрежность входит в число приемов постмодернизма: эх, все, мол, трын-трава.
И если это подсознательно-специально у Мостового, то тем паче - он искренен. И, вспомним, мы вели от идейности эмоции. Если она у Мостового трын-травяная, так мыслимо, значит, что-то противоположное.
Это довольно тонко. И я не побоюсь сказать, что тут - тень похожести не на, простите, Тютчева, а на, опять же простите, Верлена-Брюсова. Если всей системой образов говорится “нет” безысходной банальности жизни, значит, должна бы быть (или предчувствуется) сверхжизнь! Что-то, ради чего все имеет смысл.
Это - из ряда в веках повторяющегося, ну, символизма, скажем в терминах рубежа XIX - ХХ веков (или - маньеризма, в терминах XVII века).
И вот потому Иван Мостовой, я слышал это, любит Цоя.
Я никогда не прислушивался к Цою (вообще ни к чему типа “рок-рев” не прислушивался). А раз глянул в купленную сыном книжку о Цое. И ужаснулся. И понял, что мой сын - из опять потерянного поколения:
Альбом “45”
1. Время есть, а денег нет
Дождь идет с утра будет был и есть
И карман мой пуст на часах шесть
Папирос нет и огня нет
И в окне знакомом не горит свет
Время есть а денег нет
И в гости некуда пойти
И куда-то все подевались вдруг
Я попал в какой-то не такой круг
Я хочу пить я хочу есть
Я хочу просто где-нибудь сесть
Время есть а денег нет
И в гости некуда пойти
Кошмар какой-то. Бедный мой сын! Это ж о нем.
И так - текст за текстом.
А потом я послушал песни... Парадокс! Прямо противоположное впечатление. Скажем, есть песня про алюминиевые огурцы. Абсурд прямо. А звучит - совсем бодро. И ритмизировано то, что в напечатанном виде было хаосом. Ну понятно, не печатать же, как слышится:
Вдья сжа ю а лю ми не вы е о гур цы а аА слышится нечто собранное и боевое, как каменное лицо Виктора Цоя, как сам Цой, напропалую отказывающийся принимать рок-песни протеста липового коммунизма, дающего свой последний и решительный бой
.“Песни про Тесто”,- шутил его друг...
Действительно, помните “Гамлета”?
Так. А теперь представьте, что Фортинбрас втравил Клавдия в мировую войну с собой. Стороны сражаются до изнеможения своих стран. И солдаты, как в первую мировую, штык в землю и - дезертировать. А Клавдий,- этот обжора, сластолюбец, которому по-прежнему салютует пушка за каждый выпитый бокал,- призывает солдат к патриотизму: “За Данию! За Клавдия! Ура!..” А Дании действительно грозит оказаться под Норвежцем, и находятся энтузиасты борьбы, но за Данию без Клавдия. Скажите, как к ним отнесется Гамлет, знающий, что прогнило Датское королевство, Гамлет, верящий лишь в Свехисторию, да в то, что его мнение о датчанах до датчан дойдет? Как? - Да Гамлет от них, активистов-аскетов, отстранится, притворится, если не сумасшедшим, то тоже неким сластолюбцем, умеющем превратить в пьянящее вино свои слезы. Гамлет будет дезертиром, у которых сохранилось чувство элементарной морали, благодаря чему до Сверхистории Дания и доживет.
Вот так и Цой. Он ингуманист, презирающий Клавдия и всю современную хапужную Данию. И он гуманист, презирающий аскетических борцов за то, что спасти уже нельзя. Но больше он все-таки - ингуманист. Потому что кому Дания ни достанется, она будет пошлой и хапужной.
Так хемингуэевские герои потерянного поколения,- дезертиры с первой мировой войны,- упивались вином на фиесте, которая сама была упоением-бегством от общества потребления.
В немыслимо далеком будущем идеал всех ингуманистов, маньеристов, символистов. Но идеал этот - есть. И потому - есть во что верить. И потому на стенах пишут мальчишки: “Виктор Цой - бог”.
Он дал им веру и дал молитву.
*
Идеология? Да. Противна она идеологии “Белого звука”? Да. Не приемлет клуб Цоя? Да. Давит цоевское в Мостовом? Да.
Берегитесь, Ваня! Не задавили б в вас вместе с Цоем и вас.
29. 08. 2001 г. Одесса
Витязь на перепутье
(Читательская критика)
Пиво с утра не только вредно, но и полезно.
Рекламная служба
“Русского радио”
Бред
Мне снился сон. Я был в нем человеком романтической и мужественной профессии, о каком мечтают девушки возвышенной натуры. Одного этого хватало, чтоб чувствовать себя уверенным в её любви. И я с каким-то даже сладострастием расставался с нею (отбывал в экспедицию?), зная, что в разлуке любовь горит сильней...
Вот что я, поднатужившись, вспомнил, пытаясь восстановить в памяти стих, родившийся в этом сне у меня, его героя, от переживания поэтичности вышеописанной ситуации.
И вот обрывок (как я теперь вспомнил) того стиха:
Прощай, прощай!
Не /И хотелось, а сердце горело
И /И И /И И /И И
дело.И все ж - встречай!
Ритм я, проснувшись, запомнил абсолютно точно. С некой даже мелодией. Может, с него-то во сне стихотворство и началось. Не знаю. Может, кроме ритмо-мелодии во сне и не было ничего. Но я склоняюсь все же, что первый куплет и начало второго - точно родились во сне. То есть - процитированное (что вспомнил). А уж все остальное (то я забыл сейчас) я досочинил в полудреме и, потом, уже совсем проснувшись.
Может, я оттого и проснулся, что стал во сне сочинять мелодичные стихи - явление для меня, бодрствующего, немыслимое.
Теперь, спустя жизнь, чтоб скоротать время в привычной бессоннице, я, вспоминая этот случай, понял, мне кажется, и почему это все со мной тогда случилось. Меня тогда уязвляло, что жена моя вышла за меня замуж не потому, что меня любила, а потому, что я ее любил. А она, по идее, любить должна была “человека с кожаным задом”. Так поддразнивали ее сослуживцы, хорошо знавшие ее идеал. Кожу на штаны,- объяснила она мне,- нашивают те, кто много ездит верхом на коне. Геологи, например. Я же был средним инженером в НИИ, не имевшем мирового уровня достижений в своей области (открытия геологов - перспективно или нет открытое месторождение - всегда оцениваются по мировому масштабу).
А стал я обо всем этом думать из-за повести Ярошевского “Провинциальный роман-с”, до седьмого листа которого я дочитал, взяв его в постель. Дальше не выдержал. Сюрреализм в ней какой-то нечитабельный. Но, видя автора в жизни (с какими-то от рассеянности не вполне скоординированными движениями), веришь, что этот его бред - честно записанный бред. Не модничанье. И за то - стоит внимания.
Но что с того внимания!? Как я могу проникнуть в то, что побудило его этот бред записать? А он хочет знать мое мнение... И какое возмущение будет он испытывать, если я, как слон в посудной лавке, стану примеривать свои принципы истолкования к его тексту? И свои критерии... Вон: себя я истолковал, Так то ж я сам. Я о себе знаю такие вещи, какие никто не знает. И потом: я ж теперь ненавижу биографизм!..
(Интересно, а могу я себя истолковать, скажем, социологически?
Наверно могу. Я ж стал опытный на этот счет.
Я скажу, что в моем стихе выражена тоска совка,- я женился в 1971 году и где-то тогда же и сочинил во сне тот жалкий отрывок,- там выражена тоска совка по настоящей жизни. “Прощай” и “все ж - встречай” есть противоречивые элементы, и применяют такие слова для сильных эмоций. Так что - если по Выготскому - столкновение этих противоречий порождать было призвано у потенциальных читателей чувство не столь интенсивное, не <<
ностальгию по настоящему>> Вознесенского, а тихую обреченную тоску.)Ярошевский не совок. Его лирический герой еще в начале конца хрущевской оттепели, в 1963 году, в стихотворении “Ретро (юность)”, мечтал о побеге за железный занавес. Так, может, ко времени написания повести, к 70-м годам (когда и я “родил” свой “стих”) Ярошевский уже достаточно исстрадался от бесперспективности дождаться падения железного занавеса, советского тоталитаризма? Может, можно привлечь отчаяние для истолкования того бреда, что передо мной начал открываться в его книге?
На задней обложке книги помещена ее аннотация от имени Бориса Херсонского: <<
Книга - стенограмма “мощной литературно-художественной тусовки”, которая, вопреки всем законам... расцвела в постхрущевской Одессе...>> Так вот я, наоборот, прекращу свои размышления над повестью, если не удастся ввести ее в ранг закономерного явления.Роману предпослано предисловие Вадима Ярмолинца. В нем читаю (наутро; я тоже решил писать стенограмму своих мыслей), итак, я читаю о героях Ярошевского: <<
... читатель, не знающий, что они все написаны с реальных людей, может постоянно путать [их]. Автор не просто не заботится о том, чтобы обозначить их, напротив, он их маскирует, чем запутывает читателя еще больше>>. Я как раз такой читатель: и одессит “молодой”, да и был бы “старым” - тоже б никого не знал, бука. Вот за бред и принял текст поначалу. А он, оказывается, не бред, а замаскированные зарисовки. Но я не удовлетворюсь, если не пойму, зачем эта маскировка.Не исключено, конечно, что она - чтоб просто избежать возможных обид изображаемых знакомых. Или - чтоб не использовали во время о`но текст кэгэбисты,- буде он попадет к ним,- как донос о неблагонадежности этих знакомых. Например, такое:
“...Война закончилась в 45-м. Отняли войну, а взамен ничего не дали. Человечество зажралось. Отупело от тишины. Самое время - кровь пустить. Так нет же... Убивать, убивать надо”.
Это - от автора, или от героя, им описываемого? И если от героя, то кто его прототип? А ведь был закон о запрете пропаганды войны. Но по мне, боязнь КГБ - это было бы мелко для автора, которого аннотация на первом листе <<
ставит... в один ряд с лучшими стилистами-одесситами: Бабелем, Олешей, Ильфом и Петровым>>. Не стану также думать, что тут мы имеем дело с междусобойчиком, вариантом домашнего творчества, где все герои узна`ют себя и товарищей и нет особой необходимости обозначать, кто где: автор не мечтал бы,- а он мечтает,- о повторении издания тысячным тиражом. Не стоит верить и словам, принятым Ярмолинцем за признание Ярошевского: <<И вот - результат. Все у меня в кармане. Все в переплете. Я могу каждого перелистать перед сном, как память о лете... И сладко заснуть>>. Да, для себя самого можно и не обозначать, кто где. Но не стоит верить и такому объяснению маскировки героев или пренебрежения к ясности относительно них для читателя. Причину предстоит искать.Штудии
Итак, начнем. В аннотации на первом листе применен термин “сюрреализм”. И, похоже, не зря. Начнем с усвоения, что такое сюрреализм и в чем закономерность вообще его появления (я ж этого не знаю, строго говоря).
Первое, что попало под руку - “Словарь иностранных слов” 1954 года издания: <<
[фр. surrе’alisme сверхреальность]... течение в литературе современной Франции. В произведениях сюрреалистов большую роль играют сновидения, галлюцинации, бред...>>Мой “стих”, получается, - явный сюрреализм, а повесть Ярошевского - своим хаосом с героями - тоже очень его напоминает. Да и начинается она - с многоступенчатого сна во сне, который во сне сна Шурика. Дан этот многоступенчатый сон от имени вездесущего и всеведающего автора. От его же имени сон незаметно превращается в действительность: конь-Фима от ночной прогулки во сне по небу (на первой и второй странице) заболевает (в конце второй) от ночной прогулки наяву. Или вот - на третьей странице: на первой строке - от имени автора - время действия - весна, на 25-й строке - от его же имени - лето, на 30-й - зима, ибо лето в Бразилии. Ну, пусть последнее - чушь; ее произнес “некий Володя, попросивший закурить”, а не автор. Но воля автора была закрепить впечатление белиберды насчет времени года стенографированием на той же странице вот такого балагурства:
“Вопрос был провокационный, и Хаим понял это.
- Вся загвоздка в том, что сейчас во многих странах лето. Особенно в Сербии. По-моему, это неспроста. Вы не находите? - кто-то очень над всеми издевался”.
И кто этот “кто-то”? От такого автора можно ждать любого подвоха.
Но если ему верить, то сюрреалистична по крайней мере первая часть книги. Это закреплено словами Гогена - в эпиграфе к первой части: <<
Заметки - разрозненные, без продолжения, как сны, как жизнь, вся состоящая из отдельных кусков...>>. Ведь эпиграф же,- по воле избравшего его автора,- концентрированно выражает то, перед чем он поставлен.Итак, сюрреализм.
Большая Советская Энциклопедия порадовала - и за себя, и за Ярошевского: она подтвердила верность моей приблизительной схемы изменения идеалов искусства, а о Ярошевском заставила подозревать, что он не эпигон сюрреализма.
Что это у меня за приблизительная схема?
Отослать надо бы в библиотеку, например, в Одесскую научную им. Горького или в Национальную Российскую, где едва ли не самое полное собрание моих сочинений, сочинений благодарного зрителя и читателя. Но вкратце можно набросать ее и тут.
Изменение идеалов во времени можно проиллюстрировать синусоидой (идея не новая). В эпохи глубоких кризисов (на перегибах Синусоиды идеалов, вдохновлявших художников) идеал нонконформистов, развиваясь, как бы по инерции вылетает вон с Синусоиды (пусть она будет горизонтальной и разворачивается во времени слева направо). Вылетает сверхвверх, в ингуманизм, если предыдущий их, нонконформистов, идеал был коллективистский (назовем его высоким), например, аскетизм левых коммунистов или религиозных фанатиков. Или же идеал вылетает внизу Синусоиды вон с нее субвниз, например, в ницшеанство суперменов, если предыдущий, отвергаемый, был индивидуалистическим, например, обывательским.
И вот (я дальше перескажу энциклопедию, имея в виду эту Синнусоиду с вылетами), когда началась 1-я мировая война, в невоюющих США и Швейцарии возник дадаизм, для скучавшей от благополучия анархиствующей интеллигенции выразивший разнузданность низкого и суперэгоистического. Война их расковала - тех, кто еще сдерживался. Если раньше они сдержаннее томились цивилизацией, мол, маскировавшей извечные звериные инстинкты разумом, моралью, эстетикой, то теперь, мол, пришел момент истины. Да здравствует цинизм и антиэстетизм! Да здравствует антиразумное! Например, бессмысленное сочетание слов и звуков.
Это - явный вылет субвниз с Синусоиды. И - вылет продлился.
Дадаизм вскоре перекочевал во Францию и Германию и превратился в сюрреализм: сновидчество медиума с последующим безотчетным закреплением на бумаге того, на что толкает подсознание, каким бы случайным и ошарашивающим ни получалось сочетание; это - скоростная запись первых пришедших в голову слов и обрывков речи. “Долой разум!”- как бы кричали вошедшие в раж взаимного убийства французы и немцы бессмыслицей скорописей своих писателей.
Так веря предисловиям к книгам Ярошевского, в которых разные люди, представляющие Ярошевского читателям, настойчиво твердят о многочисленных поправках в рукописи его повести,- веря этому,- уже нельзя признать его сюрреалистом.
Но я рукописи не видел. И я привык опираться на собственные наблюдения. Я прикинул, что не управляемый разумом набор слов сюрреалистов моему разуму вряд ли что даст. А у Ярошевского - явно осмысленные куски текста. Один осмысленный от соседнего осмысленного всегда отделяется пробельной строкой. Эти куски только соединены непонятно. Так я взял и перечитал первую часть (благо, она маленькая) с карандашом и бумагой в руках. И, в большинстве случаев, мне удалось разобрать, кто есть кто в первой части. С сюрреалистом, думаю, мне бы это не удалось.
Трудности
Это было нетрудно - расшифровать, где о каком персонаже у Ярошевского написано. Нудно, но нетрудно. Несколько часов - и готово.
Трудно мне - с моей схемой в ее привязке к истории сюрреализма, изложенной энциклопедией.
Я свою схему давно осложнил: в ней не одна Синусоида с вылетами, а две, с вылетами же: главная и ее тень. Представим тень пунктиром, предельно близким к главной кривой. Пунктирная кривая символизирует лживые, обманные и самообманные идеалы.
Патриотизм воюющих друг с другом французов и немцев поначалу был для большинства идеалом настоящим и коллективистским. На Синусоиде это точка гармонии личного и общего, точка на середине подымающейся ветви Синусоиды идеалов. Главной. Но 1-я мировая война для народов, всех, была несправедливой. Поэтому, затянувшись, она перевела патриотизм в идеал лживый (перескок с главной кривой на пунктирную, в тоже гармоническую точку на середине подъема) и тем дала дадаизму и сюрреализму дополнительную энергию отрицания общественного. Это привело к дадаистам и сюрреалистам во Франции Луи Арагона (он был санитаром), возненавидевшего строй-виновник мировой бойни и ставшего в конце концов коммунистом. Пришли и другие писатели, называемые энциклопедией прогрессивными. В Германии в подобной анархической среде возникла группа “политических дадаистов”, тоже возненавидевших капитализм. Так мне трудно иллюстрировать своей схемой перескок с вылета с Синусоиды субвнизу (вылет же обрывается - не то что бесконечная синусоида), мне трудно иллюстрировать перескок с обрывка куда бы то ни было вверх. Ну, перескок на верхний вылет - еще куда ни шло. И верхний и нижний вылет - это крайности. И крайности - сходятся. Как плюс бесконечность с минус бесконечностью. Не смотря на то, что обе бесконечности,- если графически,- иллюстрируются противоположными ненаблюдаемыми концами бесконечной прямой. А как зримо иллюстрировать перескок с нижнего отростка не на вылет вверх? Я прошу мне эту трудность иллюстрации простить. И тогда дальнейшая энциклопедийная история сюрреализма станет наглядной. Его изменники это течение покидают. Вверх. Остаются догматики и эпигоны. Вылет субвниз обрывается или становится пунктирным.
Другая трудность похуже. Моя схема еще сложнее. Она не плоская, а объемная. Со всей протяженности бесконечной Синусоиды и отростков в каждом периоде, особенно оттуда, где начинаются вылеты сверхвверх и субвниз, и до тех мест, где отрезки вылетов кончаются, - особенно с этой области экстремизма - начинаются многочисленные вылеты перпендикулярно плоскости, на которой расположена Синусоида. Плоскость иллюстрирует территорию идеологического искусства. А перпендикулярные вылеты есть вылеты в идеологическое околоискусство. Например, переход Гоголя в “Выбранных местах из переписки с друзьями” на публицистику есть вверху Синусоиды вылет в околоискусство. Футуристы, устраивавшие скандал из своего выступления, вообще авангардисты, вмешивающиеся в жизнь непосредственно и принуждающе, есть творцы околоискусства. (Искусство ж,- по Натеву,- воздействует иначе: непосредственно и непринужденно.) И я думаю, не околоискусство ли и дадаизм с сюрреализмом? Тем более, что не пахнет от них художественностью по Выготскому, то есть столкновением противоречивых элементов для уничтожения противочувствий от них - ради катарсиса. Не пахнет. Что с чем сталкивается в дюшановском “Фонтане” (1917 года): неприличие унитаза (не изображенного, а реального, фабричного) - с приличностью выставочного зала? Или сталкивается ассоциация от названия экспоната со струей вверх - с ассоциацией от реального унитаза со струей вниз? - Что-то сомнительное столкновение элементов. Или “Ставни” (1820 г.) Арагона (там под заглавием на листе много раз повторено... то же слово, что в заглавии, и больше ничего). Что: читательское недовольство от нудного повторения слова должно столкнуться со смыслом слова (прятать стыдное) и от столкновения такого должно взорваться возмущение, мол, долой стыд? - Снова сомнительно. Наконец,- по Натеву опять,- искусство есть испытание человека с целью совершенствования человечества. А совершенствование ли - нешуточный отказ от разума, выражаемый бредовыми сочетаниями слов или абзацев, пусть там даже и есть столкновение противоречивого?
У Ярошевского есть в одном отрывке парадоксальная программа улучшения человечества:
“...Мир прекрасен. Люди погубили его. И я тоже. Расплодились, толкаются. Живут, а жить не умеют... Уничтожение - всеобщее, тотальное - вот выход. Земля отдохнет. Взойдут папоротники. Бог отдохнет, как на седьмой день творения. Потом снова начнется жизнь, но другая... А сейчас белок устал, жизнь кончена. Цивилизация - это конец. Конец. Прав Юра: взорвать земной шар...”
Это, конечно, риторика. Но из риторичности следует практический вывод, что человечество надо ухудшать, что хорошо - быть плохим, и лучше тот, кто так прямо и говорит. Это мы и читаем тут же:
“- Все подонки! Все. И я подонок... Признаюсь - и поэтому я лучше”.
Это прямо перекликается с задачами дадаистов и сюрреалистов.
Но это речи героя, Олега Степановича Карлова (если я правильно определил). А из принципа Выготского следует, что художественный смысл литературного произведения нельзя процитировать. Даже будь указанные слова относимыми к автору - нельзя. Так если герой (и не один, как я выяснил, а целый ряд) - сюрреалист, то кто ж тогда сам автор, если он такое нечитабельное произведение (околоискусства, что ли?) сотворил?
Это еще одна трудность.
Я уж не говорю о трудности осознавания противоречий произведения, на которое почти никто никогда не идет, и я - тоже иду с трудом. Это труд души. Здоровья стоит. И если у меня не получилось выявить противоречия, то как быть: это я виноват или автор? Как я смею обозвать его произведение околоискусством?!
Попытка
Попробуем, однако, разобраться.
Поняв, где о ком в первой части написано, у меня создалось впечатление, что Ярошевский застеснялся за большинство своих персонажей-приятелей-сюрреалистов (и за персонажа-автора-Фиму, в том числе). Застеснялся и потому придал всему хаотичность. Столкновение определенности идеалов этого однородного большинства (его, собственно, можно-таки и не дифференцировать) с неопределенностью, кто все же там кто,- это столкновение (такова моя рабочая гипотеза) дает катарсис: автор - уже другой, не сюрреалист.
Приход упомянутого большинства к сюрреализму понятен. Официальный идеал в СССР был в 70-х годах для них, еще в 60-х годах индивидуалистов, слишком высок и лжив. Низкий идеал непритворяющегося советского обывателя (у нижнего перегиба Синусоиды) был пониже, но тоже им отвратителен. Строй - непоколебим. Отвращение - тем сильнее. Им деваться было некуда, как на вылет субвниз с Синусоиды идеалов.
Такие вылеты случались всегда - у Синусоиды много периодов. Но до Ницше это как-то трудно доходило до сознания и идеал чаще всего (например, у Байрона-романтика, еще не реалиста, у Гете-штюрмера времени создания “Вертера”) мыслился как нечто высокое. А после Ницше низкого и субнизкого идеала стесняться стали все меньше и меньше. И не было большего врага для коллективистского социализма в СССР, чем супермены-супериндивидуалисты. Да еще был в СССР тоталитаризм из-за безнадежности в экономическом соревновании с Западом, где стал,- скажем так,- индивидуалистический социализм, который любое самопроявление утилизировал (сюрреализм - для индустрии развлечения, для удовлетворения публики в квазихудожественном ее отношении к искусству). Так что советским супериндивидуалистам-сюрреалистам было гораздо горше, чем западным. Там - процветали, здесь - страдали.
“Из зоопарка вышел лев [одесские сюрреалисты]. Не осознав того, что произошло нечто неслыханное - забыли запереть клетку [плохо сработало КГБ],- он медленно покидал [в самиздат] зоопарк [где нелегальщину не размножали, а единственный экземпляр давали читать надежным знакомым], пересек трамвайные пути и пошел по Преображенской [не станет же этот антисоветчик называть ее улицей Советской Армии], мимо Привоза.
Было пустынно, тихо. Шарахнулся мимо милицейский мотоцикл, обдав зверя омерзительным запахом отработанного газа [что-то пущенное одесситом в самиздат застукали и пригрозили]. Лев с отвращением взял в сторону - и побежал [в порт, чтоб пробраться на заграничный пароход, что невозможно?]. Потом остановился. Что остановило его? Его остановила афишная тумба. С плаката на него смотрело обласканное цирковой [широкой советской] публикой животное: великолепный красногубый зверь Бугримовой [член союза писателей] смотрел на линяющего, измученного, вырвавшегося из тюремной больницы льва. И он повернул обратно.
Прошел трамвайные пути, осторожно обогнул спящего сторожа и вошел в свою клетку”.
Каково было крайним бунтарям проявлять себя творчеством только друг для друга (я в первой части насчитал их две дюжины)!?.
Ужин, как счастье, не нужен...
(Это - из вспомненного Фимой стихотворения Юры.)
Кошмар. И он проиллюстрирован (цитировать не буду). Кошмар, но никто не сдается.
Однако еще худший кошмар в душе Фимы. Он осознает все яснее, что мировоззрение его и других друзей-сюрреалистов принципиально схоже с бытовым хулиганством и с фашизмом. “Уничтожение - всеобщее... Земля отдохнет”,- говорит свой.
А вот - не свой, Моничка Бильд (не сюрреалист - я вычислил) жалуется Фиме:
“- Фима, где мы находимся? Кругом бандиты. Я шел недавно по улице домой с работы. Было еще не так поздно. Правда, уже было темно. Ты же знаешь наши переулки. Смотрю: идут себе две бедные женщины и никого не трогают. Вдруг появляются неизвестно откуда два бугая,- здоровые, что тебе говорить,- и начинают к ним приставать. Они пристают, а женщины пугаются. Я бы сам испугался... Ты понимаешь, я не мог долго на это смотреть. И я решил вмешаться. Я решил им сказать. Я им только сказал: “Оставьте этих женщин в покое. Они же вас не трогают”. И что ты думаешь? Они подошли ко мне и, ничего не спрашивая, начали меня бить. Они меня хорошо избили и ушли... Когда я поднялся, я спросил: “За что?” Тогда один из них вернулся и дал мне так, что у меня до сих пор голова болит. Ну как тебе нравятся эти подонки? Бандиты и все.
И Моничка Бильд ушел”.
Такой вот фрагмент между двумя пробельными строками.
А перед концом первой части - признание Фимы: “Какие-то сны тотальные снятся, полные немецко-фашистскими захватчиками...” И дается пример кошмара. Через пробельную строку - четыре строки, из которых ясно, что такие сны замучили. Еще через пробельную - Юрин танец живота, от чего в ужас приходит Аркаша (чужой, как я выяснил, “очень культурный”). А еще через пробельную - такое, от автора - внутренний монолог Фимы:
“Оставалось одно: выброситься вниз... Шел дождь. Деревья были далеко внизу, так далеко, что до них не долететь. Надо упасть, а потом добежать, доползти - и умереть, обнимая дерево.
Пусть танцуют. Потом пожалеют... Разбить бокал? Нет. Поставить на подоконник. Это все, что после меня останется. Бокал с недопитым вином. Все. Не так уж мало, и потом - это красиво. Это значительно. Символично. Это черт знает.
Боже мой, боже мой, что будет?”
Автор-Фима нашел выход: сюрреалистов описать и отвергнуть, сделав свое описание сюрреалистической кашей невразумительной (ибо нельзя ж просто изменить своим).
Как факт. Повествование доходит до предательства Толи. Он изменил литературе, работе. Бегает. Просто бегает.
“Надо жить так, как того требует твой организм. Он твой судья. А не ты - его. Мой организм требует бега. Я бегу. Ты понял? Твой требует другого. Но ты ему не даешь. В этом твое зло. А писать - это же чистой воды неизвестно что. Ты понял?
Я не понял:
- Многое из того, что ты говоришь, мне как-то близко, Анатолий. Но тут где-то вкралась ошибка”.
Фима уходит из сюрреализма, но он против ухода из неизбежной, в какой-то мере, обывательской стороны жизни, ну и, тем более, - против уход из литературы. Прорабатывать Толю пришел.
К тому же перед ним поучительный отрицательный пример - Карлов, которого тоже мучают угрызения совести по поводу жуткого своего мировоззрения, которому тоже снятся кошмары с фашистами, но который, похоже, не пишет и - спускается курсом в старческий маразм.
И к чему Фима приходит?
Почти в начале и почти в конце первой части, как навязчивая идея, мелькает абзацик о том, как Фима хочет подарить Карлову свое пальто. В середине же есть такой пассажик: пришел к Карлову Абигойль, попросил у него 20 копеек. И что сделал злыдень, и как оценил поступок Фима? - “Побежал, занял, дал. Да. Вот выход: творить добро. Не помня зла... Но злопамятен был с детства, и христианство не давалось”.
Фима не злопамятен. Но вряд ли надо считать, что Ярошевский в повести пришел к добру и порядку, что было бы аналогией со скачком Арагона на верх Синусоиды из субниза, где зло и свобода. Вряд ли. Потому что я верю в нерассудочность творчества Ярошевского. А нерассудочно - будет обязательно по Выготскому: процитировать художественный смысл нельзя. Значит, “Вот выход: творить добро” - не есть художественный смысл повести.
Да и оппоненты суперэгоистическим литераторам что-то каверзно смешны у Ярошевского: Моничка Бильд инфантилен, Толя - со своим бегом - странный... Оно, правда, и Дон-Кихот у Сервантеса сумасшедший, и Санчо Панса с придурью. А уж Сервантес-то ого какой высокий имел идеал! Маньерист (вылет сверхвверх)...
Ну, так зато и оппонентов сюрреализма стеснялся Ярошевский, смешав - опять же - до невозможности различить своих персонажей.
Мне хочется сделать вывод, что в 1972- 1976 годах (когда писалась повесть) Ярошевский оказался без идеала. Это обстоятельство и привело к созданию нечитабельной вещи.
Сравнительно длительное отсутствие идеала, по-моему, обязательно выводит творческую личность в идеологическое околоискусство. Каков бы ни был масштаб таланта художника. А талантливым может быть и произведение околоискусства. Например, “Тристрам Шенди” великого Стерна или “Улисс” великого Джойса.
Явно талантлив и Ярошевский: эта колоритность зарисовок... Но - нечитабельно, как и “Тристрам Шенди” и “Улисс”. И нечего было Херсонскому в своей аннотации апеллировать к духовной элите: <<
Ярошевского будут читать преимущественно те, кто читал Платона>>. От Платона оторваться невозможно, а Ярошевского нужно не читать, а преодолевать.Проверка
В каждом кусочке талантливого произведения искусства (а может, и околоискусства) видно то, зачем сделано целое. Если я правильно это “зачем” нашел по первой части, чтение остальной книги подтвердит мою правоту. Кроме того я ожидаю обязательно чего-то нового в подтверждение этой правоты. Иначе чего было автору писать еще две большие части, если он в первой уже все сделал для упомянутого “зачем”.
Проверим. Приступаю к чтению остальной книги.
Тут я наткнулся на новую трудность: я уже не мог отделаться от приобретенного - неестественным для читателя путем - знания, кто есть кто в этой повести. Я стал угадывать персонажей,- тех, что пришли из первой части,- если они и не обозначены. Перестал работать тот единственный признак, по которому я отнес эту повесть к околоискусству, а Ярошевского 70-х годов - к художникам, утратившим идеал.
Но - читаем.
К сожалению для меня и, возможно, для автора мне чтение не дало ничего принципиально нового. Правда, в третьей части Карлов стал что-то писать, Толя стал опять работать и тоже что-то писать. Исчезло некое противостояние их Фиме. Видно, вся компания бывших суперменов превратилась в людей, лишившихся идеала и принявшихся это выражать. Ясно стало, что зря я упирал на сюжет в первой части. Сюжета практически нет в повести. Но и просто согласиться с Ярмолинцем я тоже не хочу. <<
...этот сюжет,- пишет он,- в котором меняются только времена года, характеризует другого главного героя этой повести - время. Мертвое время 70-х...>> Не только. В это время в Москве и Ленинграде разгорелось правое диссидентство, самиздат среди тех, кто не был, как и герои Ярошевского в Одессе, привержен коллективистскому социализму (Алешковский, Галич). Воинствующие индивидуалисты объединялись (правое крыло движения КСП - клубов самодеятельной песни). Их идеал - соединение личного с общим (у них же была масса сочувствующих) - на гармонической точке в середине подымающейся ветви Синусоиды (как когда-то - Высокое Возрождение). А когда власть громит объединения, художники переходят на вылет с Синусоиды сверхвверх: к экстравагантности художественных приемов по форме и к вере в сверхбудущее по содержанию. А моя схема для такого поворота дела давно соответствующе усложнена. По крайней мере подымающиеся ветви Синусоиды и вылеты с нее сверхвверх у меня даже в главной (не пунктирной) кривой - расщеплены на две параллельные ветви: для борющихся друг с другом противников. Оба - коллективисты - из-за требований борьбы. Одни - революционеры, другие контрреволюционеры. (Вы уж сами называйте, кто есть кто в 70-е годы в искусстве.)Так то все - в столицах. Но советская Одесса не оказалась на уровне третьей столицы, какой она была когда-то. Не на высоте оказались ее супермены от литературы, представители ее <<
мощной литературно-художественной тусовки>>. Это-то, может невольно, и выразил Ярошевский слабоволием своих героев и соответствующей этому бессюжетностью да и хаосом, кто где. А еще - словом “Провинциальный” в заглавии. И только после такого вот зигзага мысли я в чем-то соглашусь с Ярмолинцем, что герой у Ярошевского - еще и <<мертвое время 70-х, которое ватным одеялом накрыло страну>>. В чем-то соглашусь. Ибо, думаю, страна не доходила до такого нуля, как это получилось в кругу Ярошевского. Страна спала под одеялом. Как факт - до сих пор не вполне проснулась в своей эсэнгэшной части для строительства западного, индивидуалистического социализма.Я написал предыдущих два абзаца далеко не закончив читать третью, последнюю часть произведеия. (Тяжело оно идет. Как “Тристрам Шенди” и “Улисс”.) Я написал, предчувствуя, что уже ничто для меня не изменится. Даже придумал похвалу за длинноту. Хотел написать “ненужную”, но отказался. Она таки нужна. Чтоб закрепить первоначально сложившееся впечатление хаоса. Да. Опять хаоса. После даже “знакомства” с некоторыми героями. Вот и стеснительного Аркашу понесло вниз по Синусоиде: “Фрейд тысячу раз прав...” Вот и он,- в первой части “культурный”,- стал опускаться в бытовом отношении: “стал встречать гостей в потных лыжных штанах”. (Гриша - тот всегда в трусах встречал.) Вот теперь и Аркаша... Петя изменился к среднему: “писать - это третьестепенное. И Петя искал работу”. Никто, по-моему, уже не отличается друг от друга. И стало естественным (а никакое тут не противоречие) никого из персонажей не дифференцировать.
Ну, такое впечатление. Что я могу поделать. А впечатление - вторая суть,- написал Глеб Горбовский... Суть - идейный нуль.
И вот, наконец, - конец.
И - я в восторге. Книга кончается словами: “Будем ждать”. То есть, по Выготскому: ждать нечего. Ибо отчего это думать, что ожидание очередной весны (весны будет ждать Фима в конце повести) принесет что-то новое? Ждать нечего.
Не однажды известные всем на свете художники лишались или как бы лишались идеалов. Пушкин в 1820-м лишился их, высоких. Написал по инерции еще одно-другое стихотворение (высшей пробы, как всегда) об этом факте и замолчал. На несколько месяцев. Пока не озарил его новый идеал. Ну так первоклассные стихи об отсутствии идеала творились в течение очень короткого отрезка времени. Пушкин был на верхнем перегибе Синусоиды идеалов. Там нет моральной ориентации ни вверх, ни вниз.
Чюрленис почти все, что ни нарисовал, сотворил тогда, когда разочаровался во всем. Ни “красивейшие идеи”, ни “свинская жизнь” были не для него. И это длилось не так коротко, как у Пушкина, а несколько лет. Так зато Чюрленис,- беспощадно испытывая одну за другой “красивые идеи”, развенчивая их и не зная, куда звать,- Чюрленис все же не уставал искать и искать дорогу в лучшее будущее, которое, он уверен, будет. Чюрленис был на верхнем вылете вон с Синусоиды идеалов.
Чехов почти в то же время, не будучи очарованым ни высоким идеалом потерпевших тогда крах народников, ни низкой реакцией на этот крах, все, казалось бы, отрицал: <<
Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист>>. Так зато, чувствуя нарастающую революционную ситуацию в России рубежа XIX-XX веков, у Чехова норма возможной, близкой по предчувствию жизни <<конструируется от обратного - в буднях и пессимизме>> (Г. А. Бялый). Чехов - на средней точке снижающейся ветви Синусоиды.В такой же точке, в свое время, оказался и поздний Бабель, разочаровавшийся в методах революции, но еще веривший ей в принципе. И потому такая яркость бестенденциозности и у Бабеля, и, раньше, у Чехова.
Ярошевский на них обоих похож в этом. Но у него - в 70-е годы ХХ века - нет никаких иллюзий и идеалов. И он как бы перечеркивает свои колоритные зарисовки своим хаосом с героями. (Есть и более мелкие хаосы, наверно, невольные, но тем более симптоматичные: названия одесских улиц - то дореволюционные, то - советские; Бог - то с малой буквы, то - с большой.)
Соломка
У Музиля я выписал замечательную фразу: <<
Философы - это притеснители, не имеющие в своем распоряжении армии и потому подчиняющие себе мир путем заключения его в систему>>. Системность - большая сила не только в философии. Несколько лет назад один знакомый художник, прочитав два раза подряд мою рукопись о модернизме, прекратил рисовать и вырезать. А жаль. Он приносил пользу. Может, до сих пор кто-то носит его брелки и броши, может, не сгнили его декоративные деревянные фигуры в парке и детском садике. А может, и абстрактная его живопись, которой он хотел выразить идеи экуменизма, украшает чью-то комнату.Ярошевского тоже могут теперь, со сменой строя и с выходом в свет его повести, цитировать... в радиорекламе. А что? Его ж персонажи - те же шоу-мэны, диджеи... (Признаюсь, я изменил название своих заметок - “Артист” - за негативную ауру, имеющуюся у этого слова. Но разве отрицал артистизм Ярошевский, даже в название введя игру - “роман-с”?) Амплуа его героев было - шокировать своих девочек. Чем не находка для рекламы?!.
Сперматозоидята
Приматов заедят... -
реклама полового возбудителя.
Коты боятся щекота,
Щекочет кот еще кота... -
реклама пансионатов для животных, чьи богатые хозяева уехали в отпуск.
“Шел босыми ногами в блузе Толстой - идиот, с котомкой и книжкой под старческой мышкой” - реклама следующей книжной выставки “Зеленая волна” в одесском морвокзале, где уже будет представлена тысячным тиражом переизданная повесть Ярошевского.
А в ней вместо предисловия (или послесловия) - вот эта статья. Потому что она не может автору повредить. Во-первых, повесть давняя. Ярошевский уже не тот. Новая его книга, что он готовит, наверно докажет. Во-вторых, он талантлив. Талант же - не сомнешь. Да и самому произведению (в глазах читателя) статья не может повредить, ибо заставит,- думаю, заставит,- думать о нем. Может, - и перечитывать. Чего же лучше?
Лично я благодарю случай, побудивший меня на много дней погрузится в размышления над этой книгой и в сомнения насчет себя.
Не все гладко с околоискусством.
И не только потому, что я изменил традиции делить искусство на идеологическое и прикладное, заменив делением его на собственно искусство (идеологическое) и околоискусство, прикладное в себя включающее как часть. Не только потому не все гладко.
Вот надеющийся Фима в конце утомившей его зимы и в конце утомившей меня повести Ефима Ярошевского заявляет, мол, будем ждать весны. Я вспомнил, что написал Луначарский о “Весне” Боттичелли.
<<
Весна идет в одежде из цветов, увенчанная, розами, между тем, лицо уже такое немолодое, как у истаскавшейся преждевременно девушки, так и кажется, что эта весна уже тысячи раз приходила и вот приходит вновь и несет обновление, а сердце-то у нее старое и обновление какое-то надорванное>>.А почему так сделал Боттичелли? - Луначарский отвечает, заодно отвечая и на подобные наблюдения над “Рождением Венеры” и “Мадонной - плачущей”.
<<
Почему же у Боттичелли и язычество (“Весна”) и христианство грустные? Почему он не верит, что на том свете есть счастье, как не верит в него и на этом свете? Почему его душа отравлена? - Потому что он попал в щель между двумя классовыми тенденциями. С одной стороны, он придворный живописец Медичисов, ему нравятся античные статуи, ему нравятся новые дворцы, построенные по римскому типу для великолепного Лоренцо...(Гуманизм, идя все дальше и дальше, уходит постепенно в сторону своеобразного гедонистического материализма, прославляя наслаждение как таковое. Господствующее общество, сеньоры, князья, богатое купечество, все “хорошее общество” эпохи Возрождения, сначала итальянское, потом французское и английское, вовлекается в этот карнавал, в это пиршество, в свободу любви, необузданный индивидуализм, в это “все позволено”,- по крайней мере, позволено для “крупной личности”. Действительно, и кинжал, и яд, и кровосмешение - все, что угодно, пущено было в ход и все прощалось. На папском престоле как живое воплощение порока и принципа “все дозволено” сидел папа Александр Борджиа, который давал своим врагам отраву в святом причастии. А сын его, Цезарь Борджиа, абсолютно бессовестный человек, опасный, как тигр, убил своего брата, растлил свою сестру и с другими родственниками и не родственниками поступил приблизительно по такому же образцу. На верхах общества мы видим полную распущенность и разнузданность.)
Но вдруг приходит Саванарола. Это вождь “populo minute” - “народишка”. В своих проповедях он бурно протестует против богатых, противопоставляя им бедняков. “Опомнитесь,- кричал он, - помните, что люди - братья, что всякий должен отдать одну рубашку, если у него две! Делитесь все с беднотой, утешайте страждущих словом Христовым, и тогда на том свете получите всякие блага. Надо жить умеренной и трудовой жизнью: не трудящийся да не ест! Вот что сказано в Евангелии”. Католицизм - это христианство, переделанное для богатых. Евангелие же - книга для бедных. Саванарола требовал республики, в которой восторжествовала бы “подлинная церковь Христова”, и где должна быть только выборная власть. Когда Саванарола захватил власть во Флоренции, он разжег громадный костер и стал валить туда маскарадные костюмы, книги и картины с античным содержанием. Говорят, тогда погибла картина Леонардо да Винчи “Леда”... Народу скоро сторонники Саванаролы надоели, потому что накормить его они все равно не могли; народу стало жить еще голоднее, чем раньше. Кроме того Медичисы давали массам прекрасные зрелища; хоть вчуже, так сказать, через забор, а все-таки можно было смотреть, как люди веселятся... Но Саванарола ведь не дал ни хлеба, ни зрелищ! И поэтому это движение пало.
Боттичелли следовал за Саванаролой и был приближенным Лоренцо Великолепного. Он был из простых людей, из самого мелкого торгового люда. Поэтому он бросился за Саванаролой, но внутренне он чувствовал, что все не так-то просто. Христос искупил мир, но ведь никакого улучшения нет? Говорят, что на том свете будет хорошо, но будет ли? Весь - скептицизм, весь - стремление к изящной жизни, Боттичелли нигде не находил удовлетворения
>>.Нет идеала. И тем не менее и разбираемое тут “Рождение Венеры”, и “Весна”, и “Мадонна - плачущая” - общепризнанные шедевры, а не околоискусство...
И к “Тристраму Шенди”, похоже, хорошо относился сам Пушкин. И, встань он из гроба, задал бы мне за Стерна...
И про “Улисса” почти слова плохого не прочтешь у тех, кто о нем писал...
Так что...
В науке,- когда она кажется завершенной,- признаком будущего кризиса (и последующей революции) является неумение объяснить исключение из правила. Даже если оно одно. В моей системе интерпретации художественного произведения сомнений много. И, кто знает, не внесет ли повесть Ярошевского свою лепту в разрушение ее основ, собранных мною “с мира по нитке”. И формализм и для меня станет не выражением неважного отношения к действительности, по Плеханову, а искусством для искусства, самоцелью, где маскировка, кто где среди персонажей, будет непреходящим изобретением Ярошевского для литературы. А специфической функцией искусства и для меня станет не испытание сокровенного мироотношения, по Натеву, а развлечение или другое прикладное дело. Да и принцип Выготского и для меня не станет единственным критерием художественности, а станет им, скажем, некоторая непонятность, ценная тем, что достигнута оригинальным путем. Ну и мало ли еще какие столпы моей системы обрушатся...
И вдруг меня пронзило: я совершенно не понял Ярошевского и нечего мне рушить мою систему.
Дело в том, что я уже покончил с этой повестью. Поставил дату. И оставил материал вылеживаться. Теперь я мог почитать что-нибудь другое. И совершенно случайно прочел восьмистраничный рассказ Кабакова. Там женщина изменила мужу. Не впервые, вообще-то (хоть и редко это делала). Но на этот раз случилась какая-то особая привязанность. Случилась любовь. И с любовником - то же. Он все горячей умолял ее бросить мужа и улететь с ним в Израиль (в СССР он не мог себя реализовать как программист). А она не могла решиться. И однажды в неурочный час вернулся домой муж. Парню пришлось выпрыгнуть в окно нагишом на близко расположенную одну из крыш этого дома. Но он не убежал, а заглянул обратно в окно и, хоть в комнате уже был муж, предложил любимой лететь с ним. Она, голая, согласилась. И они полетели, радуясь, что не одеты (был жаркий июль).
“- А у Шагала все евреи летают,- сказал он.
- И невесты,- сказала она”.
В общем, на том рассказ кончается. И я вдруг понял Шагала и Ярошевского. Мучения евреев в царской России были похлеще, чем невыездных - евреев и неевреев - в лежащей у моря, а значит, у границы, Одессе за железным занавесом. Так поэты из компании Фимы - люди донельзя чувствительные - тоталитаризм переживали, как когда-то антисемитизм - Шагал. До экзальтации. В таком, измененном психологическом состоянии, любая гримаса художественного произведения - оправдана. Люди мечтают о невозможном, вот и рисуют, грубо рисуют невозможное: свободу в полете над мерзостью. Глаза зрителя видят идиотизм натуралистического изображения летящей над местечком невесты. А умопостижение говорит, что это от отчаяния Шагал так... И от несгибаемости... Ну, Кабаков - иначе: от отвращения к гомо советикусу. Но в общем - то же.
Вот и у Ярошевского, в начале повести, летает Шурик с конем-Фимой, “как невеста Шагала”. А в конце - это более реалистическое: “Будем ждать”. Оно совершенно идиотично - реализм в таком положении в 70-х годах. Но такова уж вокруг жизнь. И то, что находится между таким началом и таким концом, - тоже идиотично и неприемлемо. И потому - этот хаос с героями и тягомотина длинноты - полторы сотни страниц.
И тогда, совершенно правы Херсонский и Ярмолинец. И Одесса оказалась-таки достойна претензии быть третьим городом СССР. И все, что я написал выше - чушь.
Зачем же я не уничтожил написанное? - А вот зачем. Пусть оно все будет заявкой на то, как надо критику пробиваться к непонимающему читателю. Нечего уповать на подготовленность элитного читателя. И его подготовка может дать сбой. Я уж не говорю о том, что искусство, по-моему, предназначено для всех. И тем паче нужно бережно относиться не только к писателю, но и к читателю.
Содержание
Предисловие, постоянно-переходящее
к каждой книге данной серии........................................3
Предисловие к последней книге серии................................4
Субъективные заметки, посягающие
на объективность.........................................................6
Герой все еще нашего времени.........................................19
Новаторы.......................................................................22
Не все мертвечина в “Мертвом театре”............................27
Когда б вы знали, из какого сора...
................................38Верлен - Брюсов - Цой - Мостовой...................................44
Витязь на перепутье.........................................................52
ББК 85.03(4Рус)6-02д
В 68
УДК 7.036(47):130.123(092)
Воложин Соломон Исаакович
ОБ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗВЕСТНЫХ АВТОРАХ. – Одесса: Студия “Негоциант”, 2002. – 68 с. – (Закономерность искусства. Кн.9.)
ISBN 966-691-025-Х
Если искусство и то, что около него, развиваются по специфическому закону, то он проявляется в деятельности творцов любого масштаба. Это и доказывается в книге на примере относительно безвестных авторов.
Рассчитано на широкий круг читателей.
| В 4901000000 | ББК 85.03(4Рус)6-02д |
| 2002 | УДК7.036(47):130.123(092) |
| ISBN 966-691-025-Х | O Воложин С. И., 2002 |
| O Студия “Негоциант”, 2002 |
Соломон Исаакович Воложин
ОБ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗВЕСТНЫХ АВТОРАХ
Ответственный за выпуск
Штекель Л.И.
Н/К
Сдано в набор 10.10.2002. Подписано в печать
21.10.2002.Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Тираж 30 экз.
Усл.печ.л. 4,3. Уч.-изд.л. 2,7.
Отпечатано в типографии ООО “Студия “Негоциант”
(Св. ДК №755 от 28.12.2001г.)
65014, Украина, г.Одесса, ул.Дерибасовская, 1.
Тел.: (0482) 210-422, 210-677
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |